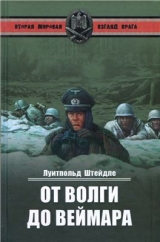
Текст книги "От Волги до Веймара"
Автор книги: Луитпольд Штейдле
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Генерал фон Даниэльс отвечает на это: «Мы сделаем все, чтобы как можно больше подразделений и частей присоединилось к капитулирующим. Это мое твердое обещание. Вы можете положиться на честное слово немецкого генерала».
До сих пор переговоры велись только между генералом фон Даниэльсом и руководителем советской группы. Теперь, казалось, настало время перейти к обсуждению отдельных вопросов, таких, например, как медицинское обслуживание наших тяжелораненых, разбросанных по разным местам и предоставленных самим себе. На мой вопрос, могут ли наши врачи остаться при наших раненых, получаю утвердительный ответ. Снабжение раненых будет организовано позднее советским персоналом на основании Положения о военнопленных в Советском Союзе; тогда же будет решено, нужно ли оставлять в дальнейшем немецкий медицинский персонал.
Второй вопрос касается питания немецких солдат. Советский подполковник некоторое время молчит, а затем говорит спокойно, но язвительно: «При капитуляции вопрос о снабжении побежденных войск продовольствием в принципе не решается так, чтобы им немедленно предоставили полные еды полевые кухни. Однако все, что возможно, будет сделано. Во всяком случае это будет больше чем немецкие офицеры здесь, в котле, делали для советских военнопленных. Есть ли еще вопросы?» Он хочет теперь получить от своего командования санкцию на свои переговоры по телефонной линии, протянутой его солдатами.
Советское командование подтверждает, что этой ночью здесь боевых действий не будет, если только немцы не нарушат условия капитуляции, которую надо начать осуществлять немедленно.
На эти переговоры ушло около часу. Примерно в 21 час фон Даниэльс вместе с генералом Шлемером, полковником Бойе и мной возвращаются в ту часть здания, где обосновались остатки наскоро собранных штабов. Коротко рассказав офицерам о случившемся и ответив на их вопросы, я спешу к своим солдатам и сообщаю им, что должно произойти ночью и ближайшим утром. Немногих еще способных передвигаться солдат и младших командиров, которые знают общее расположение наших слабо обороняемых позиций, я посылаю на передовую, чтобы соответственно проинформировать тех, кто еще находится на переднем крае.
Однако генералы, которые фактически уже никем не командуют, снова затевают бесконечные дискуссии о том, что их ждет в плену. Одновременно они начинают отбирать вещи, которые можно будет взять с собой в плен. При этом понятие «совершенно необходимое» оказывается весьма растяжимым. Один относит сюда французский коньяк, специальный шоколад для летчиков, несессер; другой хочет отправиться в плен с пятью чемоданами и многочисленным мелким ручным багажом, и притом делает вид, что это само собой разумеется. Поражает хладнокровие советской стороны, которая сначала соглашается и с таким необычным поведением.
Некоторым совершенно необходимо разобрать вещи еще и потому, что у них есть не только топографические карты, но и приказы, которые – раз они уже были изданы – лучше не давать в руки советским офицерам. Сюда же относятся и письма, написанные в надежде, что из котла удастся отправить их самолетом, в которых врагу даются самые нелестные характеристики.
Вопрос о том, действительно ли можно считать, что с безвыходным положением покончено, что солдатам больше не грозит неотвратимая медленная гибель, все еще остается неясным. 237] Поэтому для многих эта ночь тянется бесконечно долго. И когда с какого-либо направления слышатся гром орудий, взрывы или треск пулеметов, то кажется, что снова началась чертовщина, что почти невыносимая тишина на нашем участке фронта – это только обман и что над нами вот-вот разверзнется еще более ужасный ад.
Прекращайте борьбу!
Как можно больше солдат должны узнать, что произойдет через несколько часов, когда настанет утро; как можно больше солдат должны капитулировать, сложить оружие, сохранить жизнь. Мои офицеры, врачи, ветеринары тоже пошли к войскам, а также два радиста из штаба полка, которые не участвовали в боях на открытой местности и в снеговых окопах и у которых поэтому еще осталось достаточно физических и моральных сил, чтобы своими действиями противостоять общему упадку, общей апатии.
И это делать было нелегко. Из одного снежного окопа в другой снежный окоп, из одного подвала в другой, из руины в руину – мертвые, раненые, обмороженные, полумертвые от голода, которые, сразу даже не понимая, с безразличием встречают сообщение о капитуляции. Они снова апатично скрываются там, где их подстерегает верная смерть. Главное – надо попытаться спасти не только одиночек, а спасти всех тех, кто доверяет посланным, кто складывает оружие, выползает из укрытий и идет к сборному пункту, при этом – шатаясь, падая, снова поднимаясь.
Что будет с ранеными, с совершенно обессилевшими и с сошедшими с ума? Нести их невозможно, ни у кого для этого нет сил. Итак… лучше не думать об этом, дальше, дальше к следующему окопу: «Перемирие до рассвета… Капитуляция… Женевская конвенция… Плен, сборный пункт: городская тюрьма».
Нам удалось осуществить капитуляцию. Между четырьмя и пятью часами 28 января мы увидели, что решение о прекращении сопротивления распространилось в районы на север и на юг до реки Царица и даже захватило часть центра города.
Оставшиеся с нами советские командиры, примерно семь-восемь человек, в том числе майор и переводчик, непрерывно сообщают в свой штаб, что мы выполнили все условия капитуляции. Около пяти часов к нам снова прибывает советский подполковник со своим сопровождением. Теперь можно начинать движение.
Еще темно, едва заметны признаки наступающего утра. Мы собираемся неподалеку от входа в городскую тюрьму перед фасадом одного из соседних домов, к которому ведет высокая лестница. Тут будет официально объявлено о нашей капитуляции. Собралось много солдат: оборванных, с впалыми глазами, обессилевших, трясущихся от жара, раненых, которых, несмотря ни на что, притащили сюда.
Потом выступает генерал фон Даниэльс. Серьезно и прочувствованным голосом он говорит всего несколько фраз: «Удалось договориться с русскими офицерами о прекращении боевых действий, причем меня заверили, что с нами будут обращаться в соответствии с международным правом. Нам предстоит тяжелый, очень тяжелый путь. Но надо надеяться, что этот путь многим спасет жизнь. И это правильный путь; ведь гибнуть дальше, как этого требуют от нас, бессмысленно. Надо, чтобы офицеры и солдаты и в плену вели себя с честью». Он выражает надежду, что мы когда-нибудь снова увидимся в нашем немецком отечестве.
В этой прощальной речи, которая на всех нас произвела большое впечатление, не было ни звука о фюрере. Но большинство и так знает, что это он обрек 6-ю армию на полное уничтожение, что это он предал целую армию!
Походная колонна трогается. Рядом с нами стоят советские офицеры, которые своими мужественными действиями помогли нам сделать этот шаг. Затем и мы, офицеры, становимся в ряды бесконечной колонны. Спотыкаясь и шатаясь, поддерживая друг друга, а иногда и падая, солдаты движутся мимо руин, зигзагами через сады, на край оврага реки Царицы и оттуда круто спускаются в ее долину. Сквозь морозную утреннюю дымку видны заснеженные склоны и дно оврага, где колонна пленных петляет, пока совсем не исчезает между развалинами небольших домов и фабрик.
Так проходит около двух часов. Все плетутся вперед с трудом. В это утро каждому приходится тащить не только груз своего изнуренного, обессиленного тела, но еще больший груз непонятного и гнетущего прошлого, груз тяжелых раздумий. Все двигаются пошатываясь, с глухим топотом и приглушенным шумом, прерываемым кашлем, глубокими вздохами и стонами. Резко и хрипло звучат отчаянные просьбы, передаваемые сзади в голову колонны: замедлить движение. Но мольбы не помогают, потому что темп движения определяется теми, кто, будучи еще относительно здоровым и способным вынести марш, поставлен во главе колонны. Мера сама по себе понятная, так как надо как можно быстрее выбраться из безотрадной, покрытой снегом пустыни в районе Сталинграда. Время от времени, чтобы все подтянулись, устраиваются короткие привалы. Но перед многими перерыв движения ставит роковой вопрос, не окажется ли данный привал для них последним привалом в их жизни.
В короткие минуты отдыха никто не нарушает молчания. Мысли у всех еще слишком притуплены, каждому приходится концентрировать все свои усилия на том, чтобы выдержать марш; и, кроме того, все еще мучают сомнения и недоверие, которые уже и так немало осложнили и замедлили капитуляцию.
Меня знобит. В ногах зудит и покалывает. Пальцы на ногах потеряли чувствительность. Снова я чувствую ноющую боль в коленях и суставах. Как и несколько дней назад, мои уши распухли, горят, стали шероховатыми на ощупь. Возобновился и зуд на веках.
Мысли путаются. Было ли то, что произошло в последние часы, действительностью или это игра моего воображения? В голове трещит, так что нет не только желания, но и возможности думать. Я чувствую, как у меня невольно текут по щекам слезы. С трудом сдерживаюсь чтобы не зарыдать как ребенок.
Тяжкий путь познания
Первые беседы в плену с советскими офицерами
Через несколько часов после начала движения колонны генералы и мы, старшие офицеры, были отделены от солдат и на открытых грузовиках доставлены в небольшой, почти не разрушенный населенный пункт.
Здесь мы выпили горячего чаю, умылись, надели свежие русские солдатские рубашки и несколько привели себя в порядок. Затем парикмахер остриг нам волосы наголо. Это было необходимо ввиду того, что мы давно не мылись и завшивели. И хотя мы стали выглядеть необычно, наше самочувствие улучшилось.
Случайно я оказался поблизости, когда советские фотографы снимали Шлемера и Даниэльса. Кстати сказать, этот снимок в апреле 1943 года появился в одной из швейцарских газет. Шлемер, который в один из последних боев был довольно серьезно ранен осколком снаряда, во время съемки опирался на палку и взял под руку генерала Даниэльса.
Потом мы все вместе оказались в большом помещении одного из деревянных домов. Перед нами стояли три или четыре советских офицера, среди них и тот подполковник, с которым мы вели переговоры. Нам, вероятно, хотели сделать нечто приятное и предложили печенье и водку, что для наших пустых желудков явно представляло некоторую опасность. Мы угостились. Затем началась первая беседа, которая велась уже в обстановке, не требовавшей формальной сдержанности. Как-то сразу разговаривать стало легко. Даниэльс поднял свой стакан и поблагодарил советских офицеров, врачей, старшин и солдат за их самоотверженные действия. Это звучало почти так же, как заключительное слово при подведении итогов на маневрах после удавшегося «мирного сражения": производится оценка, отмечаются успехи, пожимают друг другу руки. Мне показалось это даже несколько неуместным. Однако поставить это в вину Даниэльсу нельзя: он всегда был склонен к возбудимости, особенно если хороший глоток алкоголя помогал забыть условности.
Подполковник, внимательно наблюдавший за нашей совершенно различной реакцией, наверное, был хорошим человеком; один из его первых вопросов, который одновременно был пожеланием, относился к судьбе наших жен и детей на родине; они, наверное, сильно обрадовались бы сообщению, что мы живы и здоровы. Я был крайне растроган, некоторое мгновение помедлил, а потом подошел к нему, и недолго думая, снял с себя бинокль и подарил ему в знак благодарности и на память об этом часе.
Затем нас отвели в другой дом, находившийся неподалеку. По трем сторонам не слишком большой комнаты стояли столы, за которыми сидели советские офицеры. Судя по погонам – до сих пор мы не особенно интересовались знаками различия Красной Армии, – это были старшие офицеры и генералы. Непосредственно за ними по двум сторонам помещения стояли еще столы и стулья» Там тоже сидели офицеры и несколько мужчин в штатском. Таким образом, для нас оставалось сравнительно мало места, так сказать арена. Атмосфера была напряженной, разве только кто-нибудь шепнет что-нибудь соседу.
Коли я не ошибаюсь, рядом со мной оказались генералы Даниэльс, Шлемер, полковники Шварц, Вебер, Бойе, Кур, подполковник Вернебург и несколько других, Один из старших советских офицеров коротко сказал, что советская сторона хотела бы побольше узнать о подоплеке нашего решения капитулировать, поскольку известно, с каким упорством дрались соединения и части 6-й армии. При этом речь шла и о предложении советского командования от 8 января о капитуляции. Почему уже тогда мы не решились на этот шаг; ведь можно было избежать напрасного кровопролития.
Кто-то начал отвечать – не помню теперь, был ли это Шлемер или Шварц. Во всяком случае, я не разделял того, что было ими сказано. У русских могло возникнуть представление, совершенно не отвечавшее ни тому, что наши солдаты и младшие офицеры ощущали в действительности, ни тому, что думали именно те, кому приходилось расплачиваться своей жизнью за то, что командование не хотело правильно оценить обстановку. Я не удержался и коротко высказал свое мнение, отличавшееся от оценки генералов, но, по моему мнению, отвечавшее истине. Но что и мое мнение лишь частично соответствовало действительности, я понял значительно позднее, после долгих размышлений, переосмысливания и преодоления прошлого.
Во всяком случае, уже в первой беседе с советскими офицерами в наших рядах четко обозначились расхождения, которые до тех пор были скрыты за привычкой на все реагировать обычным: «Слушаюсь!» От этой привычки никто из нас не мог тогда еще избавиться.
После того как на этой первой встрече я изложил свое особое мнение, я почувствовал, что мое поведение было расценено как нетоварищеское, как попытка взорвать единство, которое именно в плену надо было укреплять. Духовная самостоятельность, собственные мысли и умозаключения – все это, разумеется, признавалось, но в то же время считалось, что в присутствии «советских» нельзя допускать никакого расхождения мнений, наоборот, и в плену надо сохранять спаянность и дисциплину.
Диалог, который мы вели на этой первой большой беседе; еще долго продолжал оказывать на нас свое воздействие. То, что говорили советские офицеры, было убедительно и показывало, что они стремились понять наш образ мышления. Наши собеседники проявили высокую образованность и – вопреки вдалбливавшемуся в наши головы представлению о «коммунистических роботах» – проявили разнообразие индивидуальностей и положительных личных качеств. Все это позволило благоприятно воспринять преподанный нам урок. Ведь все-таки нас обрабатывала – и не только с 1933 года – антикоммунистическая пропаганда. Мы были жертвами этой обработки. Поэтому наше положение после капитуляции пугало нас, казалось опасным и почти невыносимым.
С наступлением ночи мы разместились в открытых грузовиках и, обгоняя многокилометровые колонны пленных, проехали около полутора часов. Вокруг русские солдаты жгли костры, в отдельных домах виднелся свет, мелькали руины. Мы свернули с шоссе на узкую дорогу, проехали еще с полкилометра, затем последовала команда выгружаться, и, тяжело ступая друг за другом, мы направились напрямик к группе разрушенных домов. Первую ночь мы провели в полностью выгоревшем длинном сарае, стоя или сидя вдоль полуобвалившихся стен. Советская охрана разрешила принести разбитые двери и ящики, и вскоре посреди сарая запылал костер.
Языки пламени вырывались в ясное звездное небо, и впервые за много дней мы как следует согрелись. Часа через два огонь потух; только в середине костра сохранялся жар. Мы легли на каменные плиты, тесно прижавшись друг к другу, так что никому не пришлось стоять.
Несмотря на утомление, настоящего сна не было: нам не давали спать мучительные и беспокойные мысли. Мы вслушивались в темноту; стрельбы совершенно не было слышно; если даже еще и велись бои на отдельных участках этого невероятно большого города на Волге, то эта стрельба заглушалась гудением и шумом непрерывно проносившихся невдалеке автомашин.
К утру в сарае стало совсем холодно. С трех часов утра понемногу начали подниматься, и, чтобы как-то согреться, одни топали ногами, другие размахивали руками, растирали их, третьи похлопывали и толкали друг друга.
В шесть часов мы двинулись дальше. Снова путь шел через заснеженные поля. За развалинами этой деревни мы увидели наших солдат, которые ночевали под открытым небом и уже были построены в более или менее стройные колонны. Я нашел остатки своего полка, а также входивших в боевую группу Штейдле зенитчиков, железнодорожников и солдат одной полевой почты. Нам разрешили использовать короткое время, чтобы попрощаться с солдатами, пояснив, что отсюда наши пути разойдутся. Мы уже знали, что в соответствии с положением о военнопленных офицеры и солдаты могут размещаться вместе только в особых случаях. И тут состоялось волнующее расставание.
Здесь мы встретили также офицеров, которые раньше нас искали и нашли путь в плен. Все же число тех, кто капитулировал с нами, было значительно больше, чем мы предполагали. Говорили о шести-восьми тысячах. Многие хотели только разузнать почему неожиданно прекратились боевые действия, а в результате были вынуждены присоединиться к идущим в плен.
Штаб 6-й армии и южный котел под командованием генерал-полковника Гейтца капитулировали 31 января. Генерал Штрекер, к сожалению, до конца остался неисправим и продолжал бессмысленное сопротивление в северном котле до 2 февраля. Тогда-то сталинградский ад и перестал существовать.
Марш позора и вины
Группа офицеров, пополненная несколькими солдатами и унтер-офицерами, была построена в колонну по восемь человек (в восемь рядов). Предстоял марш, который потребовал от нас напряжения всех сил. Мы взяли друг друга под руки. Пытались сдерживать темп марша. Но для тех, кто шел в конце колонны, он был все же слишком быстрым. Призывы и просьбы идти медленнее не прекращались, и это было тем более понятно, что мы взяли с собой многих с больными ногами, а они с трудом могли двигаться по наезженной, блестевшей как зеркало, оледеневшей дороге. Чего только я как солдат не видел на этих маршах! Бесконечные ряды домов, и перед ними – даже у маленьких хаток – с любовью ухоженные огороды и садики, а позади – играющие дети, для которых все, что происходит, либо стало обыденным, либо осталось непостижимым. А потом все время тянулись бесконечные поля, перемежающиеся с лесными полосами и крутыми или пологими холмами. Вдалеке проглядывали контуры промышленных предприятий. Часами мы маршировали или ехали вдоль железных дорог и каналов. Были испытаны все способы переходов, вплоть до использования горной дороги на головокружительной высоте. А затем снова марши мимо дымящихся развалин, в которые были превращены существовавшие в течение столетий населенные пункты.
Во Фландрии мы форсировали каналы и портовые водоемы, в которых застоявшаяся вода отвратительно воняла нечистотами, падалью и гнилью, так как водоводы были повсюду забиты. Поверху плавала нефть и все, что было принесено течением из хлевов, домов и разрушенных предприятий. Тут были трупы животных, ящики с гнилыми фруктами, домашняя утварь, бревна.
В России мы проходили мимо типичных и маленьких русских домов, немногие из них уцелели, мимо бесконечных рядов руин, из которых все еще торчали крепко сложенные русские печи, среди руин валялись остатки искореженных железных кроватей – живое свидетельство нашего невероятного варварства. Часто можно было видеть и шнырявшие по дорогам странные фигуры, закутанные во все черное, которые хоть что-нибудь пытались спасти. Мы видели людей, в глубоком отчаянии бесцельно бродивших взад и вперед.
Всюду на нас смотрели мрачные глаза, метавшие проклятия, безмолвные, но с глубоким укором! У нас от этого перехватывало дыхание, потому что эти сверлящие взгляды сжимали горло, проникали в сердце. Вряд ли кто забудет это…
По обе стороны нашего пути простирались заснеженные поля. По крайней мере, так казалось нам в то январское утро, когда морозный воздух смешивался со спускавшимся туманом и земля как бы терялась в бесконечности. Только время от времени можно было увидеть тесно сгрудившихся военнопленных, которые, как и мы, совершали этот марш, марш вины и позора!
Под тяжестью пережитого
Примерно через два часа мы добрались до большой группы зданий при въезде в Бекетовку. Это, вероятно, была школа или институт, закрытый на время войны. Нас разместили там во всех помещениях от подвала до чердака, большей частью группами по восемь, десять или пятнадцать человек. Кто сначала не захватил себе места, тому пришлось стоять или сидеть на площадках лестницы как придется. Зато в этом здании были окна, была крыша, вода и временно оборудованная кухня. Напротив главного здания находились уборные. В соседнем здании была санитарная часть с советскими врачами и медсестрами.
Нам разрешили в любое время дня ходить по большому двору, встречаться и разговаривать друг с другом.
Чтобы избежать сыпного тифа, холеры, чумы и всего прочего, что могло возникнуть при таком скоплении людей, была организована широкая кампания по предохранительным прививкам. Однако для многих это мероприятие оказалось запоздалым. Эпидемии и тяжелые болезни были распространены еще в Сталинграде. Кто заболевал, тот умирал один или среди товарищей, где придется: в переполненном, наспех оборудованном под лазарет подвале, в каком-нибудь углу, в снежном окопе. Никто не спрашивал о том, отчего умер другой. Шинель, шарф, куртка мертвого не пропадали – в этом нуждались живые. Через них-то и заражались очень многие. И здесь, в Бекетовке, проявилось то, что мы считали совершенно невозможным, но что сделало чрезвычайно ясным и преступный характер действий Гитлера, и нашу собственную вину за то, что мы не выполнили давно созревшего решения: физический, психический и духовный крах небывалого масштаба. Многие сумевшие выбраться из сталинградского пекла не выдержали и погибли от сыпного тифа, дизентерии или полного истощения физических и психических сил. Любой, кто еще несколько минут назад был жив, мог неожиданно рухнуть на пол и уже через четверть часа оказаться среди мертвых. Любой шаг для многих мог стать роковым. Шаг во двор, откуда больше не вернешься, шаг за водой, которую больше не выпьешь, шаг с буханкой хлеба под мышкой, которую больше не съешь… Неожиданно переставало работать сердце.
Советские женщины – врачи и санитарки, – часто жертвуя собой и не зная покоя, боролись против смертности. Они спасли многих и помогали всем. И все же прошла не одна неделя, прежде чем удалось приостановить эпидемии.
Постепенно начал складываться распорядок дня. Холода усилились. Несмотря на это, мы стремились наружу, стояли, прислонившись к стене, на которую в полдень падали солнечные лучи. Переступали с ноги на ногу, чтобы согреться, прислушивались к разговорам, обменивались слухами, ожидая, пока нам дадут хлеб или кашу. Равнодушно смотрели мы, когда из зданий выносили мертвых туда, где уже лежали многие. Сталинград опустошил нас физически, психически и духовно. Становилось все труднее бороться с апатией и безразличием к жизни. Парализующая все летаргия усиливалась. Порожденный фашистской пропагандой психоз страха возродился с новой силой и стал хорошей питательной средой для самых диких слухов.
Поэтому мы радовались любому собеседнику, любой теме разговора. Мы обменивались мыслями об отношении советских людей к нам при первой встрече после капитуляции и здесь, в Бекетовке. Советские командные инстанции приложили немало сил для того, чтобы зарегистрировать всех пленных, опросить их, сделать прививки; естественно, что все это делалось для постоянного улучшения организации жизни в нашем лагере. Нас поразило, как много женщин работало в качестве военных врачей, санитарок, а также и офицеров Советской Армии. Все шло по-деловому, без спешки и с нескрываемым интересом к немецким офицерам из-под Сталинграда. Вопросы, которые задавали нам молодые женщины в военной форме при заполнении анкет, часто нас сильно озадачивали. С военным делом эти вопросы не имели ничего общего. Речь шла обычно о доме, семье, профессии и часто также – с деликатным любопытством – о том, что мы думаем, что нас сейчас больше всего волнует.
Да, таковы советские женщины – врачи и санитарки… Но это здесь, в карантине… Но ведь долго нас тут держать не будут. Куда мы попадем, и что ждет нас? Снова тревожила неизвестность, появились раздумья обо всем, что произошло – по вине немцев, – и о том, что теперь эти немцы, то есть мы, могут ждать. Так много времени для размышлений у нас никогда не было.
Мы – Вебер, Кур, Вернебург и все оставшиеся в живых офицеры моего полка – договорились встречаться у ограждавшей лагерь стены, там, где солнечные лучи грели дольше всего. Каждый по-своему старался содействовать тому, чтобы часы, дни и ночи ожидания не были слишком тяжкими, чтобы каждый мог освободиться от того морального груза, который ему помогал нести товарищ. Эпизоды из повседневной семейной жизни и работы, мелочи из жизни провинциального городка, сплетни, рассказы о приключениях с женщинами – все это отвлекало от грустных размышлений и помогало нам прочно держаться за жизнь. «Помните ли вы еще, когда…» Не перечислить разговоров, которые начинались такими именно словами. Кроме того, мы увлекались разбором по косточкам той или другой фазы боя критической ситуации, когда какое-то время никто не знает, чем кончится бой. Интересно, что именно при этом разгорались споры, напрягались нервы и рассудок совершенно забывал, что эта вечная, вошедшая в плоть и кровь смена отдачи приказов и повиновения вдруг потеряла для нас всякий смысл.
Полковник Боне ходил взад и вперед, как всегда, руки в карманах шинели, с поднятым воротником, с выражением лица, за которым могло скрываться все: ирония, безразличие к ходу событий и холодный расчет. Полковник Шварц, как всегда, оставался добродушным; полковник Курт был замкнутым, неразговорчивым; Вернебург – дельный и находчивый, оптимистически взвешивающий все «за» и «против». Штренг, несмотря на высокую температуру, вопреки советам врачей всегда был с нами. Лицо его было багрово-красным, взгляд лихорадочный. Он хоть и с трудом, но владел собой, так как твердо верил в возвращение на родину, и потому надеялся одолеть изнурительную болезнь. Все же ему пришлось отправиться в лазарет. После этого я его больше не видел.
К вечеру пал густой туман. Было необычно тихо. Эта почти гнетущая тишина изредка прерывалась гулом самолетов и далеким орудийным громом, вскоре все это затихло. Вероятно, со сталинградским котлом было окончательно покончено!..
На следующее утро, 4 февраля, это официально объявил нам один советский майор. Он произвел на нас большое впечатление не только тем, как он стоял перед всеми нами, построившимися в несколько рядов, не только тем, что на нем безупречно сидела форменная одежда, удивительно белый полушубок и меховая шапка, но главным образом своей спокойной, располагающей манерой держать себя. Мы не так уж много поняли из того, что он сказал по-русски, запомнились лишь несколько названий и имен: Сталинград, Жуков, Чуйков и еще несколько неизвестных нам фамилий, запомнить которые не удалось. Позднее капитан Вильдемани пояснил нам, что советский офицер высоко оценил подвиги простых солдат в последней фазе боев.
Это особенно поразило нас. Значительно позднее мы привыкли к тому, что не было почти ни одной сводки советского командования о крупных боевых действиях, в которой – совершенно иначе, чем у нас, – не указывалось бы на отличные действия на передовой сержантов, старшин и солдат.
Путь на север
Спустя неделю или полторы мы неожиданно получили приказ готовиться к походу. Наш путь лежал через Бекетовку. Надо полагать, это была деревня, но она больше напоминала обширный поселок, раскинувшийся на много километров. Этот сравнительно не очень разрушенный поселок был заполнен частями Красной Армии и, что удивительней всего, местными жителями: фронт к тому времени продвинулся на Запад на несколько сотен километров.
Мы построились на почти пустых путях перед бесконечно длинным составом пассажирского поезда. Железнодорожная колея в Советском Союзе шире, чем в Германии. Вагоны показались нам огромными, просто гигантскими. Вскоре мы сидели в чистом вагоне третьего класса, по восемь человек в каждом купе. Единственные встреченные нами советские люди были часовые на парных постах – в начале и в конце каждого вагона: украинцы, кавказцы, белорусы, а может быть, и уроженцы Ташкента. Все они говорили между собой на чистом русском языке, как объяснил нам Бойе, который к тому времени был переброшен к нам вместе с другими полковниками. Передавали, что вместе с нами едут и многие генералы.
Никому не удалось узнать, куда мы едем. Стемнело очень рано. Под равномерный стук колес, погрузившись в раздумья и мечты, мы заснули.
Поезд часто останавливался, но всегда в таком месте, где невозможно было ни прочесть название станции, ни завязать разговор с кем-нибудь по ту сторону вагона; во время стоянки запрещалось открывать окна. Женщины разносили в купе хлеб, чай, еду и даже выдавали по порции масла. Если бы наши семьи знали, в каких мы сейчас условиях!
На третий день в поезде распространились слухи, будто мы скоро приедем в Москву. Во всяком случае, уже давно стало ясным общее направление пути: на север-северо-запад. Мы часами глядели в окна. Мелькали то небольшие, то крупные селения, мирно покоившиеся в беспредельной дали среди исполинских снежных сугробов, а на полях – огромные стога, часто гораздо выше низеньких домиков.
А затем мы проехали через Москву. Хотя была ночь, нам все же удалось получить первое, еще смутное представление о размерах этого мирового города, призрачные очертания которого скользили мимо нас в глубокой тьме.
В Красногорске
Поезд остановился за станцией между многочисленными железнодорожными путями. Когда рассвело, мы прошли походным порядком через поселок, который, казалось, жил своей обычной жизнью, точно в мирное время; мы остановились у ворот лагеря. Деревянный забор, как и многие другие предметы внутри, выкрашенный в голубой цвет… Это был Красногорск!
Мы разместились в бараках. Мне посчастливилось: вместе с восемью товарищами я оказался в большом помещении, которое прежде служило сапожной мастерской. У нас было просторно, мы могли смотреть через широкие окна на лагерный двор; комната была солнечная.
Распорядок дня был строго регламентирован. Особенное внимание уделялось личной гигиене, то есть борьбе со вшивостью: всякий раз дезинсекция, а затем душ. В перерыве между дезинсекциями мы выскребывали маленькими осколками стекла гниды из шерстяных курток, кителей и фуражек. И горе тому, у кого их найдут при ближайшей проверке. Три дня карцера были ему обеспечены. Карцер находился примерно на 30 ступенек выше, под самой кровлей, вид у него был отнюдь не заманчивый.








