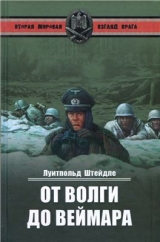
Текст книги "От Волги до Веймара"
Автор книги: Луитпольд Штейдле
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Как-то я схватил одного из таких и забрал его с собой. Это солдат средних лет, по профессии приказчик, отец двоих детей. Он стоит передо мной, узкогрудый, худой, В кармане шинели кусок хлеба, пара смятых грязных сигарет, пропитанных талой водой, и сломанный гребешок. Все это он взял у мертвецов! Я отпускаю его…
Через несколько дней и у моего связного появилась пара новых сапог. Бойкий юнец, не стесняясь, рассказывает, что эти сапоги стоили нескольких часов работы на поте мертвых. Затем у другого солдата появляется толстый серый шерстяной шарф с бахромой в узелках.
Правда, в одном месте шарф разорван. И хотя он с поля мертвых, но зато теплый, очень теплый. На третьем – толстый ватник с коричнево-красными пятнами крови на спине. Но он защищает от ветра, и, в конце концов, это именно та вещь, которую он уже давно искал – на поле мертвых.
На поле мертвых остались обнаженные трупы, и оно выглядит еще более страшным. Среди мертвецов стоит во весь рост оледеневший труп, у которого рука и нога закинуты, как у деревянного паяца. Ветер колышет конец перевязки на бедре, которую раненый намотал в надежде на спасение. Издали кажется, что среди мертвых стоит живой.. Да, так оно и есть: трупы живут, напоминают. Гляди на нас, мертвецов, на мертвецов Казачьего Кургана, высоты 129, кладбища танков, оврагов у «Платины» и «Золота», Дона, Клетской. Каждому из нас они напоминают, и каждый, кто идет мимо поля мертвых, наклоняет голову и невольно думает о самом себе. Значит, большего мы не стоим… Значит, большего мы не заслужили. Вот так ограбят тебя, так же осквернят и твой заледенелый труп.
Неверно, будто бы все солдаты становятся бесчувственными и равнодушными к таким переживаниям. Они становятся более замкнутыми, молчаливыми, а вовсе не равнодушными. Просто у них не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Часами молча сидят они у костров, наблюдая, как разгорается и ярко пылает всепожирающий огонь, но никак не выражают своих чувств. И нет разницы между солдатами и офицерами перед лицом смерти.
Теперь она всегда рядом с нами. Вскоре у нас установятся с ней нормальные отношения, по крайней мере, мы так думаем. Думаем, но не говорим, потому что каждый из нас избегает проявлять эмоции по отношению к другому, если слышит, что кто-то убит. Мы обманываем себя. Собственно говоря, все мы дрожим при мысли о том, что нас неотвратимо ждет точно такая же судьба, что и обитателей поля мертвых.
Когда в приказе по дивизии или в телефонограмме упоминается, как превосходно держатся солдаты в своих снеговых окопах, меня охватывает негодование. Все это легко говорить, когда сидишь в бункере, по крайней мере, имея крышу над головой, в тепле, когда можешь есть чистыми руками и, главное, можешь обойти стороной поле мертвых. Но пехотинец на Казачьем Кургане уже несколько недель живет среди трупов. Трупы справа, трупы слева, трупы рядом с ним, трупы под ним или под его винтовкой.
Все попытки похоронить погибших не удаются, хотя у нас уже имеется опыт могильщиков. В середине сентября в северной излучине Дона между Кременской и Ближней Перекопкой, у высоты 199, мы похоронили мертвых прямо в окопах, в которых мы сами сидели пригнувшись. И пока связисты шифровали донесения и стучали ключами, посыльные притаскивали с покинутых позиций тела наших погибших товарищей, втискивали их между радиоаппаратурой в неглубокие стрелковые ячейки и присыпали землей. Уже через несколько часов на нашем командном пункте путали могилы с окопами, а то и садились на тонкий земляной слой, который пружинил, так как под ним лежало еще даже не успевшее остыть тело. А потом горячо спорили, можно ли с чистой совестью сообщать родственникам погибших, что их родные погребены на кладбищах.
Здесь, в котле, все выглядит иначе. Тот, кто не падает сам в свой снеговой окоп, не умирает там и его не заносит снегом, тот остается на поле. Могилы копали только в первые дни, и появилось кладбище с деревянными крестами, надписями и высоким четырехметровым дубовым крестом. Но это длилось лишь несколько дней. Но уже не хватало живых, чтобы копать могилы мертвым и сколачивать кресты, а земля промерзала все глубже и глубже.
То, что на въезде в Дмитриевку устроено кладбище, служит темой разговоров, но кто же в нашем отчаянном положении станет спрашивать, что целесообразно и что нет? На небольших санках, сколоченных из грубых досок, по вечерам в снеговые окопы, которые называются «позициями», привозят продовольствие, а в обратный путь грузят на них окоченевшие трупы.
На огневые позиции минометов и противотанковых орудий на санках доставляют ночью боеприпасы, а увозят тяжелораненых на передовой перевязочный пункт. Проезжая мимо кладбища, смотрят, подает ли еще раненый признаки жизни. В таком случае его волокут до санитарного бункера. Если нет, то без всяких формальностей увозят вместе с мертвецами на кладбище. Так из лежащих рядами мертвецов образуется поле мертвых. Сотни и сотни трупов лежат рядом друг с другом или друг на друге.
И эти штабеля трупов грабят, раздевают, как находящиеся на свалке автомобили, забирая то моторный блок, то шасси, демонтируют то, что нужно. Различия почти никакого. Здесь все бесплатно. Необходимо лишь примириться с пронизывающим холодом и замерзшей человеческой кровью.
Сердце и разум должны молчать, и солдаты в отчаянии ищут объяснений происходящему. На их глазах растут горы трупов. Это ввергает их в еще большее отчаяние. И перед мысленным взором возникают разорванные облака, какие можно видеть в бурную ночь, восходит луна, потом она прячется за темными причудливыми облаками, наконец исчезает совсем, и в бесконечной дали открывается темная, черно-синяя бездна. А на безграничной заснеженной степи неожиданно возникают то светлые, то мрачные очертания фантастических фигур.
Так в снежной пустыне под Дмитриевкой всплыли в памяти картины прошлого, и перед глазами чередой проносятся мертвецы и кладбища. Все время кладбища, кресты и могилы – нескончаемыми рядами. И никуда от этого не уйти, ибо, как только выходишь из жалкого блиндажа на морозный воздух, сразу оказываешься на гигантском кладбище.
И разве эти покрытые снегом высоты и долины, пропитанные кровью, не превратились уже давно в бесконечное кладбище? Меня пробирает дрожь. Сегодня я с Вернебургом, Фрезе, Штренгом и Урбаном подсчитал численный и боевой состав полка. Дальше так продолжаться не может! Потери полка, артиллерии, подразделений связи и противовоздушной обороны не поддаются учету. Солдатский рацион – это два куска хлеба в день, порция жидкого супа, две-три кружки кофе или чаю. Кто сможет выдержать это долго?
И в таком состоянии мы встречаем рождество! О чем же думают все они – солдаты, сидящие в снежных окопах, юные лейтенанты, артиллеристы, живущие между лафетами зенитных орудий и ящиками с боеприпасами?
Богослужение на выжженной земле
До рождества осталось всего два дня. И мы снова будем желать друг другу счастья и удачи, хорошо зная, что все это пустые слова. Я уже несколько раз встречал рождество на фронте и знаю, что и в праздничные дни поднимаются осветительные ракеты, идет стрельба, слышны разрывы ручных гранат и гибнут люди. И в то же самое время в церквах молятся богу, просят, чтобы, наконец, наступил мир на земле, разумеется, после того, как будет одержана победа. И это богослужение происходит во время войны, когда в невиданных размерах происходит преднамеренное убийство, земля превращается в выжженную пустыню и матери теряют детей. Кощунством звучит слово «богослужение» в устах тех, кто повинен во всех этих злодеяниях. При чем же здесь вера, взывающая к сердцу, к совести?
Вероятно, по этой причине богослужения в вермахте, как и в первую мировую войну, посещаются многими солдатами и офицерами. Внутренняя необходимость заставляет подумать о себе. Они пытаются хоть на мгновение уйти в себя, даже если и в эти часы гремит орудийная канонада.
Невольно мои губы шепчут молитву, которую я в раннем детстве слышал от бабушки: «Помилуй, боже!»
Я вспоминаю о богослужении после крестного хода от церкви Крещения господня в Тауфкирхене на Вильсо в Алътфрауэнхофен, маленький нижнебаварский городок паломников. Рядом со мной – погонщики быков, первый и второй батраки, крестьяне, а в рядах идущих – сотни крепких парней с высокими флагами и крестами, все как на подбор, а вместе с ними глубокие старики, которым не так-то легко выдержать длинный путь.
Я вспоминаю простые и помпезные походные алтари, перед которыми я когда-либо молился как солдат. Вот рядом с разрушенными крестьянскими домами Бэио – шатающийся, ветхий, стертый стол, покрытый полотнищем палатки. На нем – переносный алтарь: маленькая каменная плитка с пятью высеченными на ней крестами, на которых в пору раннего христианства совершались первые богослужения, под ними вставлены мощи святых, символизирующие погребения мучеников.
Во время первой мировой войны в нашем альпийском корпусе военные священники имели своих вьючных лошадей. На одной стороне седла помещался хорошо сделанный ящик с предметами для богослужения, на другой стороне – офицерский чемодан, а сверху были пристегнуты полотнища палаток и одеяла или мешок с кормом. Эти ящики служили алтарями – у подножия Монте-Матажур, Мопте-Томба или в одной из высокогорных долин Доломитов.
В одном из французских загородных дворцов алтарем служил великолепный столик эпохи Ренессанса. На Сомме близ Эпеи это был поставленный боком старый шкаф. В Амьене во время первой мировой войны это был главный алтарь в соборе. Однако во всех алтарях реликва-рии{71} были взломаны с помощью зубил или мотыг. Воры подозревали, и не напрасно, что их оправы золотые, чего доброго, с драгоценными камнями. Стоявшая перед удивительной работы церковной кафедрой фисгармония была разбита, ризница взломана. Мы снова задвинули железную решетку между клиросом и нефом. На ней также были видны следы упорной работы грабителей. О богослужении нечего было и думать. Тем более что пастор Эбен Эмаэля с негодованием говорил о вероломном нарушении нейтралитета 10 и 11 мая 1940 года, когда этот бельгийский форт был захвачен в первой воздушно-десантной операции с помощью тяжелых планеров.
Эти воспоминания нахлынули на меня под Сталинградом. Всюду, где ступал немецкий солдатский сапог, это было святотатством и кощунством. Такова одна из многих мрачных глав нашей «славной германской истории», и никакое богослужение не может скрыть это из памяти.
Дело наших рук…
С середины декабря активность противника чрезвычайно возросла. Однажды незадолго до рассвета прямо перед нашим командным пунктом из тумана внезапно появился советский танк с десантом пехоты. Солдаты в снежных окопах были раздавлены. Советская штурмовая группа попыталась ворваться в дома и руины южной части Дмитриевки. Ее внезапное появление вызвало у нас невероятный переполох.
Почти всегда такие атаки предваряются сильным огневым налетом батарей многоствольных реактивных установок, так называемых «сталинских органов», что вынуждает всех прижиматься к земле. По опыту мы знаем, что эта огневая поддержка будет длиться до последнего мгновения, то есть до тех пор, пока советские солдаты не бросятся в еще дымящиеся воронки и на покрываемые осколками участки, чтобы захватить наши позиции или участки обороны.
В таких операциях в зависимости от погоды и направления ветра используется искусственный туман. Для маскировки дымовые снаряды выстреливают и туда, где в действительности наступление не планируется. Этим противник достигает исключительно сильного распыления наших сил и находит достаточно слабых мест, чтобы наносить нам тяжелые потери в людях и в материальной части.
Между рождеством и Новым годом мы сидим в нашем низком бункере из небольших искривленных стволов деревьев, от сырости подгнивших и покрывшихся плесенью. Щели между стволами, чтобы не сыпалась земля, заткнуты травой. Однако то, что мы гордо называем бункером, в лучшем случае погреб для хранения картофеля, капусты и лука. В одну из изматывающих ночей, когда мы разговорились с Вернебургом, я заметил, что он смотрит на меня вопросительно, испытующе, почти недоверчиво. По выражению его лица, которое в свете масляной мигалки казалось бледно-желтым, я понял, что его мучает совесть.
Наконец он прерывает гнетущую тишину, задавая вопрос медленно и таким тоном, который уже предрешает ответ: «Значит, я совершенно сознательно убивал людей, уничтожал людей?»
Разговор не клеился. Очевидно, нас тяготит одно и то же. Он, наверное, увидел на моем лице и отражение своих мыслей.
Вернебург – коммерсант. В первую мировую войну он также служил артиллеристом. Если батарея противника замолкает, загорается танк, рушатся дома и взлетают мосты, то это его успех. Разумеется, он нередко видел в бинокль или через стереотрубу, как его снаряды убивают людей. Не раз он имел возможность убедиться в губительности действий его орудий. Он видел трупы людей и лошадей, горящие автомашины и изрытую землю, пахнувшую порохом. Однако лично он не стрелял в людей.
Только здесь, в котле, ему пришлось применить пистолеты. Противник прорвался и со всех сторон бросился на одну из его батарей. Вернебург неожиданно оказался в воронке над одним советским солдатом, которому он выстрелил в грудь. Красноармеец пробормотал что-то непонятное и умер у него на глазах. Это потрясло Вернебурга, глубоко взволновало его. Он, вероятно, знал, что, для того чтобы победить в войне, приходится убивать. Но раньше он никогда непосредственно не участвовал в этом.
«Да, Вернебург. Вы правы. Чем дальше от фронта, тем меньше думаешь о том, к каким беспощадным, жестоким действиям готовят всех нас. Но каждому из нас когда-либо приходится поразмыслить об этом. И как только это случается, в нас закрадывается страх, овладевает чувство вины. И это давит, преследует неделями, месяцами, годами. А в этой войне вина лежит на нас. Быть может, то, что происходит здесь, в котле, – это заслуженная кара за несправедливости, которые мы допустили или которые совершили сами.
Знаете, Вернебург, я до сих пор не забыл о первых боях в марте – апреле 1917 года. Это было под Армантьером-Бэйо! Наш королевско-баварский пехотный лейбполк в тяжелых, подбитых крупными гвоздями сапогах и обшитых кожей брюках, с нагруженными до отказа вьючными лошадьми и легкими пулеметными повозками прошел через город. Мы прибыли из Вогез, чтобы захватить бельгийско-фландрскую землю, наступать на Монт-Руж и Монт-Нуар. Цель нашей операции состояла в том, чтобы выйти к морю. Наступление началось в семь утра. Прежде чем рассеялся туман, на позиции противника обрушился сосредоточенный огонь из минометов и гранатометов, пулеметов и горных орудий. Пять минут спустя пехота должна была начать атаку, чтобы сломить последнее сопротивление. Я был в пулеметном расчете и видел, как пулеметные очереди били точно в цель.
Каждая десятая пуля была трассирующей. Канадцы стремглав бросились бежать, падали, и лишь немногие снова поднимались. Я выстреливал ленту за лентой. После огневого налета наши стрелки бросились на вражеские позиции. И через несколько минут мы увидели мертвых канадцев, с изуродованными лицами, искромсанными телами и простреленными касками. Некоторые еще были живы. Один, тяжело раненный в плечо, прислонился к березе. Вдруг я начал дрожать всем телом, как сумасшедший, как пораженный параличом.
Так вот какая у нас работа. Вот для чего нас воспитывали, для этого нами командуют, это мы считаем правильным! Дорога к Каналу проходила по трупам и по раненым. Картины, развернувшиеся передо мной, не оставляли меня весь день, целые недели и месяцы. Я видел их даже во сне».
Я прерываю беседу. Что пользы рыться в воспоминаниях, которые в молодости так угнетающе подействовали на меня? Беспокойство, овладевшее мной при этих воспоминаниях, заставляет меня выйти из бункера. Нужно вернуться к действительности, привести в порядок свои мысли. И все же картины прошлого бередят мое сознание.
Неожиданно вспоминается широкоплечий обер-ефрейтор из взвода связи полка. Его лицо искажено от боли, он громко кричит. Я вижу, как он растопыренными руками прижимает к себе выпадающие из его тела внутренности, ловит ртом воздух и пронзительно вопит о помощи, шатаясь, делает несколько шагов вперед. «Господин полковник, господин полковник, помогите. Я хочу домой, помогите, помогите! Я хочу домой. О мама, мама…»
Но помочь ему невозможно. Вокруг идет ожесточенный бой, под Логовским, вдоль проселочной дороги на Мело-Логовский. Снова вопреки нашей оценке противника советские войска неожиданно вклинились южнее Дона, нанося удар с фланга. И все время в похожем на удары бича щелканье пулеметных и автоматных очередей мне слышится пронзительный крик: «О мама, мама!» Когда мы оставляем высотку, я еще раз прохожу мимо того места, где погиб солдат. Никогда не забыть мне, что за этим отчаянным призывом к матери стоял безжалостный вопрос, обращенный к тем, кто командует: «Во имя чего?»
Каким мучительным может быть этот вопрос! И не ответит на него ни командир, сам отец семейства, ни военный священник, который дает отпущение грехов, и ни друзья, с которыми о таких переживаниях уже был разговор после первой мировой войны. Нет на него ответа в книгах. И мы утешаемся тем, что до последней минуты выполняем свой долг по отношению к народу и отечеству – теперь же по отношению к фюреру. Так, как этого требует присяга…
Раненые в овощехранилище
На западной окраине Дмитриевки между обгоревшими зданиями колхоза находится большое, наполовину врытое в землю овощехранилище с перегородками, по-видимому, для хранения корнеплодов, запасов корма и всего того, что в большом хозяйстве должно храниться долгую зиму. Там пришлось разместить сотни тяжелораненых, они лежат вплотную друг к другу двумя или тремя тесными рядами. Передние доски перегородок оторваны, чтобы удобнее было ухаживать за ранеными.
Все строение, которое прилегает к западному склону, за исключением плоской крыши, засыпано снегом. Это несколько защищает от артиллерийского огня и шальных пуль. Снег перед входом утоптан, но перемешан с мусором, окровавленными обрывками бинтов, пустыми консервными банками и лоскутьями одежды. Все это смешалось в отвратительно пахнущую грязную массу. Такое впечатление, как будто стоишь не около лазарета, а у помойной ямы.
Врачи и санитары вместе с санитарами-носильщиками прилагают большие усилия, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок. Но это им не удается.
Сразу же за входом, справа и слева, находятся комнаты для врачей и санитаров. Это совершенно необорудованные подсобные помещения. Они годятся только для того, чтобы, присев в углу, немного поспать. Если кто захотел бы лечь, ему пришлось бы искать место рядом с ранеными. Выдолбленные в стене отверстия, заменяющие окна, скудно освещают строение метров пятьдесят длиной, так что в разных местах повесили керосиновые лампы. В самом конце прохода работает бензоагрегат, обеспечивающий электрическим светом «операционную линию».
Когда я протиснулся сюда, мне показалось, что я попал в подземную шахту, в место, где произошла катастрофа. К моему удивлению, здесь есть и несколько медицинских сестер. Если бы они не стояли как раз на свету, то было бы невозможно узнать, кто здесь работает: мужчины или женщины. У них бледные, усталые, печальные и суровые лица. Сначала я не поверил, что между ними есть и русские. Сейчас не время спрашивать, откуда они, почему они остались или кто задержал их. Они помогают усердно, старательно, неутомимо. Среди них бросается в глаза одна пожилая женщина, широкая в плечах и несколько согнувшаяся, вероятно, под тяжестью лет.
В это время шла обработка солдата, тяжело раненного в грудь и ноги. Из-за перегородок слышны причитания и стоны. Несмотря на это, здесь делается все, что положено, и притом с железным спокойствием. Удушливый воздух становится просто нестерпимым, когда с солдата сдирают последние лохмотья.
Полчаса мы можем провести у раненых. Разговор не клеится. Вместе с нами молча сидят русские женщины. Каждый пытается хоть на несколько мгновений отвлечься от жалоб и стонов раненых.
Я не могу оторвать взгляд от старой русской женщины. Выражение ее лица, ее отсутствующий взор показывают, что она переживает такие человеческие чувства, которые, вероятно, только мать проявляет по отношению к беспомощному ребенку. За ее чисто механическими движениями угадываются ее чувства, страдания, немой плач, заглушенный крик по поводу тысячекратных страданий, которые причинены ей и всем русским людям.
Она как будто не реагирует на то, что происходит вокруг. Рассеянно смотрит она то туда, то сюда – то на стол, то на раненых, которые нуждаются в уходе и которых она хотела бы успокоить, как когда-то утешала своих сыновей.
Еще светло, и я жду, пока стемнеет, чтобы отправиться на командный пункт роты, расположенный на Казачьем Кургане. Дорога туда идет через извилистые впадины и доходит до окопа – неглубокой выемки, укрепленной мешками с песком и досками. Забраться в окоп можно только ползком, а сидеть приходится на корточках. Командиру роты я принес новогодний подарок – буханку хлеба и банку мясных консервов, которые накануне мне подарил генерал фон Даниэльс.
Мы не знаем, о чем говорить друг с другом. Впереди полная неизвестность, а о прошлом не отваживаешься и думать.
Я понимаю состояние молодого лейтенанта. Он тоскует по родине, свидание с которой – несбыточная мечта.
Там теперь зажигают рождественские свечи, короткие огарки, так как в эту военную зиму свечи очень дороги. Каждый думает о своей семье, о родине, о друге.
Утром следующего дня меня снова навещает командир дивизии. Пасмурная погода позволяет незаметно пробраться по дороге от Дмитриевки к передовым позициям. Даниэльс непременно хочет еще раз взглянуть на Вертячий и говорит, что еще не поздно прорваться. А что касается обещания деблокировать нас, то оно не выполнено, и это, говорит он, большое свинство.
Мы слышим немецкую речь
Вскоре после Нового года лейтенант и унтер-офицер с передового наблюдательного пункта южнее дороги между Дмитриевкой и Песковаткой решились доверительно сообщить мне кое-что очень важное. Накануне вечером, примерно между 21 и 22 часами, они слышали с советской стороны немецкую речь. По-видимому, использовался мегафон. Несмотря на сильный западный ветер, отдельные слова были слышны хорошо. Говоривший назвал себя немцем, который хочет обратиться к немецким солдатам, к немецким братьям. Он утверждал, что положение окруженных безнадежно. Попытки Манштейна пробиться провалились. На выручку извне рассчитывать не приходится. Гитлер предал солдат в котле. Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Единственное спасение – прекратить его. Фразы примерно такого содержания были повторены по нескольку раз. «Что я думаю по этому поводу, могут ли там быть немцы?» – спросил лейтенант.
Лейтенант и унтер-офицер высказали предположение, что передачу мог вести немец, хотя я тут же сказал им, что вполне мог быть и русский. Разве среди военнопленных не было знающих немецкий язык? Может быть, это просто попытка застращать нас или ввести в заблуждение. Так или иначе, нужно следить за тем, что будет дальше. Не исключено, что передача повторится, а может быть, удастся заглушить ее. Это вполне возможно, так как направление установить нетрудно, а расстояние придется определить приближенно. Я спросил у лейтенанта, не знает ли он, известно ли об этих передачах пехоте, находящейся в непосредственной близости от нас. На это последовал отрицательный ответ. Но лейтенант тут же добавил, что он ни с кем по этому поводу не говорил.
Я заметил, что человек, ведущий передачу, действует, конечно, не в одиночку. Не исключено, что он говорит из снегового окопа, впереди советского переднего края. Все это возможно, сказал лейтенант, но таким путем удалось узнать кое-что о нашем положении. Кое у кого это может вызвать интерес к передачам с русской стороны, а это позволит прояснить наше положение. Лейтенант вопросительно и несколько неуверенно смотрит на меня: он явно испуган своей смелостью.
Что делать? Я говорю, что наведу соответствующие справки у командиров рот и что, видимо, надо издать приказ об обстреле местности, откуда слышен голос. Если передача повторится, то надо открыть огонь из тяжелого пехотного оружия. Это заглушит передачу.
Удивительное дело! Неужели оттуда к нам обратился немец?
Разговор кончается тем, что я отдаю распоряжение немедленно и в любое время сообщать мне по любому виду связи, если передача повторится.
Затем я добираюсь до пехотного взвода, которым командует лейтенант Гейдельбергер. Там были слышны только отрывки передачи. По-видимому, помешал сильный ветер. Возможно, взвод расположен в стороне от передатчика. Выясняется, однако, что все слышали передачу в одно и то же время. Первым обратил внимание на передачу пулеметный расчет, который подумал сначала, что это кричат наши товарищи. Возможно, что, выполняя разведывательное задание, они отклонились от намеченного маршрута и теперь нуждаются в помощи.
Я отдаю приказание: «В каждом случае доносить непосредственно мне. Нужно выяснить, в чем дело».
После моего возвращения поздней ночью в Дмитриевку в штаб полка мы обсуждаем случившееся. Вспоминаем, что еще в октябре солдат нашей дивизии несколько дней находился в советском плену, а затем неожиданно ночью вернулся в наши позиции. Солдат этот из пехотного взвода, который проводил ночную разведку под Мело-Клетской. Там он и был взят в плен. Ранен он не был. Командир роты, на участке которого около трех часов утра появился этот солдат, доставил его ко мне, поскольку высказывания солдата показались ему сомнительными. Солдат утверждал, что в плену с ним обращались хорошо. Обстоятельному допросу он не подвергался. Он встретил там несколько немецких солдат, которым тоже было неплохо, но затем их разлучили. Ясно, что он увидел кое-что такое, чего раньше не знал. Его самого спросили, не хочет ли он вернуться в свою роту. У Красной Армии уже столько немецких пленных, что в нем но нуждаются. Его вполне могут отослать назад. Вернувшись к себе, он должен будет рассказать о том, что видел и слышал. Ясно, что Гитлер просчитался, погнав стольких немецких солдат на Дон, за тысячи километров от Германии. Это может принести Германии огромное несчастье. Не лучше ли и не умнее ли покончить с этим? Во всяком случае, в Донской степи немцу делать нечего.
Таково примерно было сообщение солдата. Это совпадало с тем, что он рассказывал по возвращении на передний край. Там его засылали вопросами: «Хорошо ли вооружены русские? Чем тебя кормили? Оказывали ли на тебя давление? Угрожали ли тебе? Как ты перебрался через Дон туда и обратно? Как глубоко ты был в тылу? »
Солдат отвечал, что он около часа ехал ночью в тыл на джипе с советским офицером. Назад он был доставлен также ночью.
Я хотел, однако, узнать от него больше. Этому помог счастливый случай. Солдат говорил на швабском диалекте, примерно так, как говорят жители Альгау{72}. Все, что он говорил о своей родине и что он отвечал на мои вопросы, требовавшие подробных ответов, я мог подтвердить исходя из своего жизненного опыта. Он не лгал. И я спрашивал себя: чего же хотят добиться русские, в чем заключаются их намерения?
Несколько дней спустя мне сообщили по телефону, что снова слышны немецкие голоса. Я тотчас же отправился на мотоцикле на наблюдательный пункт. Однако КП переменил позицию, так как прежняя была совершенно разбита артиллерией. Мне удалось услышать последние фразы. С русской стороны напоминали, предупреждали, требовали. То же самое слышали в пехотных подразделениях.
Сперва я хотел было промолчать об этих происшествиях. Но уже на следующее утро поступили однотипные донесения из соседних полков. Следовательно, что-то надо было предпринять. В ту же ночь я вместе с командиром артиллерийского дивизиона подполковником Вернебургом и командиром стрелковой роты обсудил создавшееся положение. На карте я отмечаю три сектора обстрела.
Расстояния между передатчиками и нашим передним краем равно, вероятно, 200-600 метров. Можно, однако, предположить, что говорящий работает не с мегафоном, а использует выносной динамик, который ночью устанавливается где-либо в стороне. Представляется, что это именно так, поскольку стрельба из пулемета в ту сторону, откуда слышался голос, была безрезультатной. Мы попытаемся прервать передачу беспокоящим огнем. Из штаба дивизии сразу же запросили, почему мы открыли огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий. Чтобы ответить на запросы штаба дивизии, я до 7 января еще дважды побывал на передовой, последний раз – в снеговом окопе, на высоте южного склона отрога Казачьего Кургана. Оттуда снова донесся голос, настойчиво призывавший нас одуматься и прекратить сопротивление. Продолжение сопротивления – чистое самоубийство. Красная Армия наступает все дальше на запад и тем самым уничтожает последние надежды на деблокировку.
Мы не знаем, кто ведет передачу. Первые фразы, с которыми он обращается к нам, плохо слышны. А нам, конечно, хочется узнать что-нибудь новое о положении в котле и на всех фронтах. Позднее, в Красногорском лагере для военнопленных, я узнал кто пытался тогда в снежной пустыне вокруг Сталинградского котла положить конец бессмысленным жертвам и спасти жизнь немецких солдат и офицеров. Это были Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель и с ними капитан д-р Хадерманн, обер-лейтенант Харизиус и обер-лейтенант Рейер.
Никакой капитуляций. По парламентерам открывать огонь!
На одном из командирских совещаний, это было, кажется, 5 января, генерал фон Даниэльс охарактеризовал все сообщения о выступлениях немцев со стороны противника пустой болтовней или жульничеством. Даниэльс любит употреблять такие выражения. Очевидно, считает он, русские не рассчитывали на наше упорное сопротивление и теперь прибегают к таким средствам, чтобы поколебать моральное состояние наших войск. То же они пытаются делать с помощью листовок.
8 января мне доставляют одну из таких листовок. В ней содержится предложение о капитуляции на почетных условиях. «Положение ваших окруженных войск, – говорится в ней, – тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях,
Вы как командующий и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежно, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла"{73}. Все это верно.








