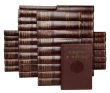Текст книги "За Маркса"
Автор книги: Луи Альтюссер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В собранных в данной книге статьях читатель несомненно заметит некоторую неоднородность используемой терминологии.
Так, в статье «О материалистической диалектике» термин «Теория» (с большой буквы) используется для обозначения марксистской «философии» (диалектического материализма), в то время как термин философия применяется для обозначения идеологических философий. Именно в этом смысле, т. е. для обозначения идеологической формации, термин философия употребляется уже в статье «Противоречие и сверхдетерминация».
Эта терминология, отличающая (идеологическую) философию от Теории (или марксистской философии, конституированной благодаря разрыву с философской идеологией) может быть обоснована многочисленными пассажами из работ Маркса и Энгельса. В «Немецкой идеологии» Маркс постоянно говорит о философии как о чистой и простой идеологии. В первом предисловии к «Анти – Дюрингу» Энгельс пишет:
«Если теоретики являются полузнайками в области естествознания, то современные естествоиспытатели фактически в такой же мере являются полузнайками в области теории, в области того, что до сих пор называлось философией»*.
Этот пассаж доказывает, что Энгельс ощущал потребность в терминологическом различении отразить различие между идеологическими формами философии и совершенно новым философским проектом Маркса. Он предложил зафиксировать это различение, обозначив марксистскую философию термином теория.
Но одно дело – сама новая терминология, пусть даже она и является совершенно обоснованной, и другое дело – ее реальное использование и реальное распространение. Представляется довольно трудным, преодолевая сопротивление давно вошедшего в привычку словоупотребления, утвердить термин Теория для обозначения научной философии, основы которой заложил Маркс. Кроме того, большая буква, отличающая его от других случаев употребления слова теория, становится незаметной в устной речи… Поэтому после завершения текста «О материалистической диалектике» мне показалось необходимым вновь вернуться к принятой в наши дни терминологии и употреблять слово философия даже тогда, когда речь идет о самом Марксе; таким образом, я вновь стал использовать термин марксистская философия.
2. О ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЬЯХ
Текст «Философские манифесты Фейербаха» был опубликован в журнале La Nouvelle Critique (декабрь 1960 г.).
Статья «О молодом Марксе (Вопросы теории)» был опубликован в журнале La Pensée (март – апрель 1961 г.).
Статья «Противоречие и сверхдетерминация» была опубликована в журнале La Pensée (декабрь 1962 г.). Приложение к ней прежде не публиковалось.
Статья «Заметки о материалистическом театре» была опубликована в журнале Esprit (декабрь 1962 г.).
Философская рецензия на издание «Рукописей 1844 г.» была опубликована в журнале La Pensée (февраль 1963 г.).
Статья «О материалистической диалектике» была опубликована в журнале La Pensée (август 1963 г.)
Статья «Марксизм и гуманизм» была опубликована в Cahiers de ITSEA (июнь 1964 г.)
«Дополнительные замечания о «реальном» гуманизме» были опубликованы в журнале La Nouvelle Critique (март 1965 г.)
Автор выражает свою признательность издателям этих журналов, которые любезно согласились предоставить ему право собрать данные тексты в настоящей книге.
«ФИЛОСОФСКИЕ МАНИФЕСТЫ» ФЕЙЕРБАХА
Журнал «La Nouvelle Critique» обратился ко мне с просьбой представить публике тексты Фейербаха, которые несколько месяцев тому назад были опубликованы в серии Epimetée (Р U. Е). Я с удовольствием исполню эту просьбу, кратко ответив на несколько вопросов.
Под заголовком «Философские манифесты» я собрал наиболее значительные тексты и статьи, опубликованные Фейербахом в период между 1839 и 1845 годами: «К критике философии Гегеля» (1839), Введение к «Сущности христианства» (1841), «Предварительные тезисы к реформе философии» (1842), «Основные положения философии будущего» (1843), Предисловие ко второму изданию «Сущности христианства» (1843) и статью, представляющую собой ответ на полемические выпады Штирнера (1845). То, что было создано Фейербахом между 1839 и 1845 гг., не ограничивается этими текстами; тем не менее они отражают наиболее существенные черты его мысли в эти исторические годы.
Почему было выбрано такое название: «Философские манифесты»?
Это выражение не принадлежит самому Фейербаху. Я пошел на этот риск по двум причинам: одна из них носит субъективный, другая – объективный характер.
Прочтите тексты о реформе философии и предисловие к «Основным положениям». Вы увидите, что это подлинные воззвания, страстные провозглашения того теоретического откровения, которому суждено освободить человека от его цепей. Фейербах обращается к человечеству. Он срывает покровы со Всемирной истории, разрушает мифы и ложь, открывает человеку его истину и возвращает ее ему. Время пришло. Человечество готово породить революцию, которая позволит ему обладать своим бытием. Людям нужно лишь осознать это, и тогда они в действительности станут тем, что они суть по истине: свободные, равные и связанные братскими узами существа.
Такой дискурс для его автора мог быть только Манифестом.
Но Манифестом он был и для его читателей. В особенности для молодых радикально настроенных интеллектуалов, которые в 40–х годах XIX столетия вели споры, находясь в плену противоречий «немецкой нищеты» и неогегельянской философии. Почему 40–е годы? Потому что они были проверкой этой философии. В 1840 г. младогегельянцы, которые верили, что у истории есть цель – царство разума и свободы, – ожидали от претендента на престол осуществления своих надежд: устранения прусского феодального и автократического порядка, отмены цензуры, разумной организации церкви, короче говоря, установления режима политической, интеллектуальной и религиозной свободы. Тем не менее, как только этот претендент, которого называли «либералом», утвердился на троне, он стал Фридрихом Вильгельмом IV и вернулся к деспотизму. Подтвержденная, консолидированная тирания положила конец теории, которая обосновывала и резюмировала все их надежды. Пусть в принципе история была разумом и свободой; в действительности она была не чем иным, как неразумием и рабством. Следовало принять урок, преподанный фактами, т. е. само это противоречие. Но как его помыслить? Именно тогда появилась «Сущность христианства» (1841), а затем и брошюры о «Реформе философии». Эти тексты, которые, разумеется, не освободили человечества, вывели младогегельянцев из их теоретического тупика. На драматический вопрос о человеке и его истории, который они перед собой ставили, Фейербах давал точный и адекватный ответ, причем в тот самый момент, когда они находились в величайшей растерянности! Эхо этого облегчения, этого энтузиазма все еще заметно в одном тексте Энгельса, написанном сорок лет спустя. Философия Фейербаха была именно той «новой философией», которая разделалась с Гегелем и со всей спекулятивной философией, которая вновь поставила на ноги тот мир, который философия заставляла ходить на голове, которая разоблачила все формы отчуждения и все иллюзии, но в то же время разумно объяснила их, позволив помыслить и подвергнуть критике неразумие истории во имя самого разума, которая, наконец, привела в соответствие идею и факт, заставив понять как необходимость противоречия, господствующего в мире, так и необходимость его освобождения. Вот почему неогегельянцы, как признавал стареющий Энгельс, «все сразу стали фейербахианцами». Вот почему они восприняли его книги как манифесты, указывающие пути в будущее.
Добавлю, что речь шла о манифестах философских. Поскольку совершенно очевидно, что все это все еще ограничивалось философией. Но порой и философские события бывают событиями историческими.
Чем интересны эти тексты?
Эти тексты интересны прежде всего с исторической точки зрения. Если я выбрал эти произведения, написанные в 40–е годы, то не только потому, что они являются наиболее известными и наиболее живыми (причем живы они и сегодня, когда некоторые экзистенциалисты и теологи пытаются вновь найти в них истоки некоего современного вдохновения), но также и прежде всего потому, что они принадлежат определенному историческому моменту и сыграли определенную историческую роль (в среде довольно ограниченной, но богатой будущими событиями). Фейербах – свидетель и действующее лицо кризиса теоретического роста младогегельянского движения. Следует читать Фейербаха для того, чтобы понять тексты младогегельянцев, написанные между 1841 и 1845 годами. Так, можно заметить, до какой степени сформированы мыслью Фейербаха тексты молодого Маркса. Не только терминология Маркса в 1842–1844 годах является фейербахианской (отчуждение, родовой человек, целостный человек, «превращение» субъекта в предикат и т. д.), но, что, несомненно, более важно, фейербахианским является и фон философской проблематики. Такие статьи, как «К еврейскому вопросу» или «К критике гегелевской философии права», становятся понятными только в контексте фейербахианской проблематики. Разумеется, темы размышлений Маркса выходят за пределы того, что непосредственно занимает Фейербаха, но теоретические схемы и теоретическая проблематика остаются теми же самыми. Лишь в 1845 году Маркс по – настоящему «свел счеты» (это его собственное выражение) с этой проблематикой. «Немецкая идеология» – первый текст, отмечающий собой сознательный и окончательный разрыв с философией и влиянием Фейербаха.
Таким образом, сравнительное изучение текстов Фейербаха и произведений молодого Маркса делает возможным историческое прочтение текстов Маркса, а также более верное понимание его эволюции.
Имеет ли это историческое понимание какое – то теоретическое значение?
Несомненно. Прочитав Фейербаховы тексты 1839–1843 годов, невозможно заблуждаться относительно происхождения большей части понятий, которые традиционно оправдывали «этические» интерпретации Маркса. Такие знаменитые формулы, как «обмирщение философии», «переворачивание субъекта и атрибута», «корнем для человека является сам человек», «политическое государство есть родовая жизнь человека», «воплощение философии в действительность», «голова человеческой эмансипации – философия, ее сердце – пролетариат», и т. д. и т. п. суть формулы, которые были или непосредственно заимствованы у Фейербаха, или же опосредствованно вдохновлены его мыслью. Все формулы идеалистического «гуманизма» Маркса суть формулы фейербахианские. И несомненно, что Маркс всего лишь цитирует, развивает или повторяет Фейербаха, который, как это видно из «Манифестов», всегда имеет в виду политику, хотя он никогда о ней и не говорит. Для него все ограничивается критикой религии, теологии и того мирского обличья теологии, которым является спекулятивная философия. Напротив, молодой Маркс одержим политикой и тем, по отношению к чему политика – всего лишь «небеса»: конкретной жизнью отчужденных людей. И тем не менее в таких работах, как «К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской философии права», а чаще всего даже в «Святом семействе» он – всего лишь фейербахианец авангарда, который использует этическую проблематику для понимания человеческой истории. Другими словами, можно было бы сказать, что в эти годы Маркс всего лишь применяет теорию отчуждения, т. е. Фейербаховой «человеческой природы» к политике и конкретной деятельности людей, а позднее (главным образом) в «Экономико – философских рукописях 1844 г.» – и к политической экономии. Важно точно определить исток этих фейербахианских понятий – не для того, чтобы все вопросы разрешить простой атрибуцией (это принадлежит Фейрбаху, а вот это – Марксу), но для того, чтобы не приписывать Марксу изобретения понятий и проблематики, которые он всего лишь заимствовал. Но даже более важным является признание того, что эти заимствованные понятия были заимствованы не по отдельности и изолированно, но все вместе, как единое целое, и что этим целым как раз и является проблематика Фейербаха. Именно в этом заключается наиболее существенный момент. Поскольку заимствование какого – то изолированного понятия может иметь всего лишь случайное и второстепенное значение. Заимствование изолированного (от своего контекста) понятия не обязывает заимствующего по отношению к тому контексту, из которого оно извлечено. (Таковы те понятия, которые автор «Капитала» заимствует у Смита, Рикардо и Гегеля). Но заимствование совокупности понятий, связанных друг с другом систематическим образом, заимствование подлинной проблематики не может быть случайным, оно обязывает своего автора. Я считаю, что сравнение «Манифестов» с работами молодого Маркса с несомненной очевидностью показывает, что Маркс на протяжении 2–3 лет буквально усвоил, сделал своей саму проблематику Фейербаха, что он глубоко идентифицировал себя с нею и что для того, чтобы понять смысл большей части тезисов этого периода, причем даже тех, которые относятся к предметам более поздних размышлений Маркса (например, политика, общественная жизнь, пролетариат, революция и т. д.), и которые по этой причине могут показаться вполне марксистскими, следует подойти к самому средоточию этой идентификации, чтобы постичь все ее теоретические следствия и импликации.
Это требование кажется мне имеющим первостепенную важность, поскольку если верно то, что Маркс усвоил целую проблематику, то его разрыв с Фейербахом, это знаменитое «сведение счетов с нашей прежней философской совестью» предполагает принятие новой проблематики, которая, разумеется, может включать в себя определенное число понятий проблематики прежней, но в таком целом, которое придает им радикально новое значение. Для того чтобы проиллюстрировать это следствие, я бы хотел воспользоваться одним образом из греческой истории, на который ссылается сам Маркс. После тяжких поражений в войне с персами Фемистокл советует афинянам отказаться от земли и основать будущее города на другой стихии: море. Теоретическая революция Маркса состоит именно в том, что он основал на новой стихии свою теоретическую мысль, освобожденную от стихии старой: от стихии гегелевской и фейербахианской философии.
Между тем эту новую проблематику мы можем постичь двумя способами:
Прежде всего, мы можем обнаружить ее в самих текстах зрелого Маркса: в «Немецкой идеологии», «Нищете философии», «Капитале» и т. д. Однако эти тексты не дают систематического изложения теоретической позиции Маркса, сравнимого с изложением философии Гегеля, которое можно найти в «Феноменологии», в «Энциклопедии» или в большой «Логике», или же с изложением философии Фейербаха, содержащимся в «Основных положениях философии будущего». Эти тексты Маркса являются или полемическими («Немецкая идеология», «Нищета философии»), или позитивными («Капитал»). Разумеется, теоретическая позиция Маркса, которую, используя в общем – то довольно двусмысленное слово, можно было бы назвать его «философией», присутствует здесь и оказывает свое воздействие, но она скрыта в этом воздействии и смешивается со своей критической или эвристической активностью; лишь очень редко она систематически и развернуто разъясняется как таковая. Это обстоятельство, разумеется, отнюдь не упрощает задачу интерпретатора.
Именно здесь знание проблематики Фейербаха и оснований разрыва Маркса с Фейербахом приходит нам на помощь. Дело в том, что благодаря Фейербаху мы приобретаем непрямой доступ к новой проблематике Маркса. Мы знаем, с какой проблематикой Маркс порвал, и раскрываем теоретические горизонты, которые «выявляет» этот разрыв. Если верно то, что человек в той же мере раскрывается в своих разрывах, как и в своих связях, то мы можем сказать, что столь требовательный мыслитель, как Маркс, в своем разрыве с Фейербахом может раскрыться и сделаться более понятным в той же мере, как и в своих более поздних заявлениях. И поскольку разрыв с Фейербахом располагается в решающей точке процесса конституирования окончательной теоретической позиции Маркса, знание Фейербаха представляет собой незаменимое и скрывающее в себе многочисленные теоретические импликации средство доступа к философской позиции Маркса.
Кроме того, я мог бы сказать, что он может позволить нам лучше понять и природу отношений Маркса с Гегелем. Если Маркс порвал с Фейербахом, то ту критику Гегеля, которую можно обнаружить в большинстве трудов молодого Маркса, по крайней мере относительно того, что касается ее предельных философских предпосылок, следует считать критикой недостаточной и даже ложной в той мере, в какой она проводилась с фейербахианской точки зрения, т. е. именно с той точки зрения, которую Маркс впоследствии отверг. Между тем существует постоянная и простодушная тенденция (которая порой объясняется соображениями удобства) считать, что даже если позднее Маркс и изменил свою точку зрения, то критика Гегеля, которую можно найти в его ранних работах, в любом случае остается оправданной и что на нее можно «опираться». Но думать так значит не принимать во внимание тот фундаментальный факт, что Маркс дистанцировался от Фейербаха именно тогда, когда осознал, что Фейербахова критика Гегеля была критикой, «остававшейся в пределах самой гегелевской философии», что Фейербах все еще оставался «философом», который хотя и «перевернул» гегелевское построение, но при этом сохранил его структуру и его предельные основания, т. е. теоретические предпосылки. В глазах Маркса Фейербах остался на почве гегельянства, он был ее пленником даже тогда, когда подвергал ее критике, он всего лишь обращал против Гегеля его же собственные принципы. Он не сменил «стихии». Но подлинная марксистская критика Гегеля предполагает именно такую смену, т. е. отказ от той философской проблематики, бунтующим пленником которой оставался Фейербах.
Для того чтобы в нескольких словах, отнюдь не безразличных в контексте идущих сегодня споров, резюмировать то, чем с теоретической точки зрения интересно это привилегированное столкновение Маркса с мыслью Фейербаха, скажу, что вопрос, встающий в связи с этим двойным разрывом – вначале с Гегелем, а затем с Фейербахом, – это вопрос о смысле самого термина «философия». Какой, в сравнении с классическими моделями философии, может быть «философия» марксистская? Другими словами, какой может быть теоретическая позиция, порвавшая с традиционной философской проблематикой, последним теоретиком которой был Гегель и от которой отчаянно, но безуспешно пытался освободиться Фейербах? Немалая часть ответа на этот вопрос может быть негативным образом извлечена из самой мысли Фейербаха, этого последнего свидетеля «философской совести» молодого Маркса, этого последнего зеркала, в котором созерцал себя Маркс, прежде чем он отбросил этот заимствованный образ, чтобы найти свое настоящее лицо.
Октябрь 1960 г.
«О МОЛОДОМ МАРКСЕ» (Вопросы теории)
Немецкая критика, вплоть до своих последних потуг, не покидала почвы философии. Все проблемы этой критики, – весьма далекой, правда, от того, чтобы исследовать свои общефилософские предпосылки, – выросли все же на почве определенной философской системы, а именно – системы Гегеля. Не только в ее ответах, но уже и в самых ее вопросах заключалась мистификация.
К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология
Огюсту Корню, посвятившему свою жизнь молодому человеку по имени Маркс
Издание Recherches Internationales предлагает нам одиннадцать исследований зарубежных марксистов, посвященных «молодому Марксу». Одна, появившаяся уже несколько лет тому назад (1954), статья Тольятти, пять статей из Советского Союза (три из которых принадлежат перу молодых, 27–28–летних исследователей), четыре статьи из ГДР и одна из Польши. Раньше можно было считать, что истолкование трудов молодого Маркса – привилегия и крест западных марксистов. Этот труд и «Введение» к нему показывают, что отныне они не одиноки перед этой задачей, ее опасностями и ее наградами[4]4
Весьма примечательным является интерес, проявляемый молодыми советскими исследователями к работам молодого Маркса. Он является важным знаком, свидетельствующим о нынешних тенденциях культурного развития в СССР. (См. «Введение», с. 4, прим. 7).
[Закрыть].
Я бы хотел использовать повод, предоставляемый чтением этого интересного, но неровного[5]5
Выделяется в нем замечательный текст Хеппнера «О некоторых ложных концепциях развития мысли от Гегеля к Марксу» (с. 175–190).
[Закрыть] сборника, чтобы рассмотреть некоторые проблемы, устранить некоторые недоразумения и предложить некоторые разъяснения.
Ради удобства изложения я рассмотрю вопрос о ранних работах Маркса с трех фундаментальных точек зрения: политической (1), теоретической (2) и исторической (3).
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Спор о ранних работах Маркса есть прежде всего спор политический. Нужно ли напоминать, что работы молодого Маркса, история которых была в общем и целом достаточно удачно описана и проинтерпретирована уже Мерингом, были эксгумированы социал – демократами и использованы как аргумент против теоретических позиций марксизма – ленинизма? Великими предшественниками этой операции были Ландсхут и Майер (1931). Предисловие к их изданию можно прочитать в переводе Монитора, издательство Costes (Oeuvres Philosophiques de Marx). В нем все сказано предельно ясно. «Капитал» – это этическая теория, неявная философия которой заявляет о себе в полный голос в ранних работах Маркса[6]6
См. «Oeuvres Philosophiques de Marx», перевод Молитора, изд. Costes, т. Введение Ландсхута и Майера: «Очевидно, что в основе той тенденции, которая определяла собой анализ, проведенный в «Капитале»… лежат некоторые скрытые гипотезы, и только они способны дать внутреннее обоснование всей направленности фундаментального труда Маркса… именно эти гипотезы представляют собой формальную тему работы Маркса до 1847 г. Для Маркса «Капитала» они – отнюдь не ошибки молодости, от которых он освобождался по мере того, как его знание достигало зрелости, и которые в операции его личного очищения должны были исчезнуть как бесполезный шлак. В работах 1840–1847 годов Маркс открывает для себя целый горизонт исторических условий и выявляет всеобщую человеческую основу, без которой любое объяснение экономических условий оставалось бы простым трудом умного экономиста. Тот, кто не постиг это внутреннее течение, в котором происходит работа мысли в ранних работах, не может понять Маркса, даже если изучит все его труды… принципы его экономического анализа прямо вытекают из «подлинной действительности человека»…» (с. XV–XVII). «Если подвергнуть первую фразу «Манифеста коммунистической партии» незначительному изменению, она могла бы иметь следующий вид: вся предшествующая история есть история самоотчуждения человека…» (XLII) и т. д. В статье Пажитнова «Рукописи 1844 г.» можно найти удачное краткое описание основных авторов этого ревизионистского течения, называемого «Молодой Маркс».
[Закрыть]. Этому тезису, смысл которого я передаю лишь в общих чертах, была уготована поразительная судьба. Не только во Франции и в Италии, о чем нам уже давно было известно, но и в Германии и в Польше, как показывают эти зарубежные статьи. Философы, идеологи, верующие – все объединились в гигантском предприятии, целью которого были критика и обращение: да вернется Маркс к истокам Маркса, да признает он наконец, что зрелый Маркс – не кто иной, как переодетый молодой. Но если он будет упорствовать и настаивать на своем возрасте, то пусть он признает свои грехи зрелости, пусть он скажет, что принес философию в жертву политической экономии, этику – в жертву науке, а человека – в жертву истории. Но согласится ли он или откажется, все равно его истина, все, что останется после него, что может помочь в жизни и мышлении нам, живущим теперь людям, содержится в этих немногих Ранних работах.
Итак, эти милые критики оставляют нам только один вариант выбора: признать, что «Капитал» (и «зрелый марксизм» в целом) есть или выражение, или предательство философии молодого Маркса. И в том и в другом случае необходимо полностью изменить устоявшуюся интерпретацию и вернуться к молодому Марксу, устами которого говорит сама Истина.
Такова почва спора: молодой Маркс. Подлинной ставкой спора является марксизм. Наконец, термины спора: можно ли сказать, что молодой Маркс уже был Марксом.
Если спор начат при таких условиях, то кажется, что согласно идеальному порядку тактической комбинаторики марксисты могут выбирать между двумя вариантами ответа[7]7
Разумеется, они могли бы – и эта парадоксальная попытка действительно имела место, причем во Франции, – спокойно принять (не ведая о том) тезисы своих противников и заново продумать труды Маркса, исходя из его ранних работ. Но история всегда в конце концов разрушает подобные недоразумения.
[Закрыть].
Если они хотят спасти Маркса от опасностей его молодости, которые используют против них их противники, они могут или признать, что молодой Маркс не является Марксом, или же утверждать, что молодой Маркс – уже Маркс. Эти тезисы можно нюансировать до бесконечности; они даже побуждают к такой нюансировке.
Разумеется, такое перечисление возможностей может показаться смехотворным. Если мы имеем дело с историческим спором, то он исключает всякую тактику и разрешается только вердиктом, вынесенным научным изучением фактов и свидетельств. Тем не менее прошлый опыт, как и чтение данного сборника, доказывают, что в том случае, когда необходимо отразить политическую атаку, порой бывает неверно отвлекаться от более или менее ясных тактических соображений или защитных реакций. Ян[8]8
В. Ян, «Экономическое содержание понятия отчуждения» (Recherches, с. 158)
[Закрыть] говорит об этом очень ясно: отнюдь не марксисты начали спор о ранних работах Маркса. И поскольку молодые марксисты, несомненно, не оценили по достоинству классические работы Меринга, а также содержательные и скрупулезные исследования Огюста Корню, они были застигнуты врасплох и не были подготовлены к сражению, которого не предвидели. Они ответили, как смогли. Отчасти эта неподготовленность все еще заметна в предлагаемой защите, в ее рефлекторном характере, ее беспорядочности и неуверенности. Но также и в опасениях ее авторов. Ибо эта атака застала марксистов врасплох на их собственной территории, она касалась Маркса. И так как речь шла не просто о каком – то понятии, но о проблеме, прямо затрагивавшей историю Маркса и самого Маркса, они чувствовали, что на них лежит особая ответственность. И тем самым попадали в ловушку второй реакции, укреплявшей первую защитную реакцию: страха не справиться с этой ответственностью, страха потерять позиции, долг защиты которых был возложен на них самой историей. Скажем прямо: если эта реакция не будет проверена мыслью, подвергнута критике и поставлена под контроль, она может вынудить марксистскую философию дать «катастрофический» и глобальный ответ, который, стремясь наилучшим образом разрешить проблему, на деле ее устраняет.
Так, для того чтобы привести в замешательство тех, кто противопоставляет Марксу его собственную молодость, некоторые решительно выдвигают противоположный тезис: они примиряют Маркса с его собственной молодостью; они читают не «Капитал», исходя из «К еврейскому вопросу», но «К еврейскому вопросу», исходя из «Капитала»; они не проецируют тень молодого Маркса на Маркса зрелого, но тень зрелого Маркса на Маркса молодого; и при этом, для того чтобы оправдать этот ответ, они создают некую псевдотеорию истории философии в futur antérieur, не замечая, что она является просто – напросто гегельянской[9]9
См. Шафф, «Подлинный облик молодого Маркса» (Recherches, с. 193). См. также следующий отрывок из «Введения» (с. 7–8): «Попытка серьезного понимания трудов Маркса как целого, а также самого марксизма как мысли и как действия невозможна, если мы исходим из того, как сам Маркс понимал свои первые тексты во время работы над ними. Верным является только обратный метод, который для того, чтобы постичь значение и ценность этих предварительных ступеней и чтобы проникнуть в ту творческую лабораторию марксистской мысли, которой являются Крейцнахские тетради и Рукописи 1844 года, исходит из того марксизма, который завещал нам Маркс, и который – это следует сказать со всей ясностью – в течение целого века закалялся в огне исторической практики. В противном случае ничто не может гарантировать того, что Маркса не станут оценивать с помощью критериев, заимствованных из гегельянства или даже томизма. История философии пишется в futur antérieur. Не соглашаться с этим значит в конечном счете отрицать историю и подобно Гегелю измышлять ее основателя». Я намеренно выделил две последние фразы. Но читатель, несомненно, и сам обратил бы на них внимание, пораженный тем, что марксизму приписывается гегельянская концепция истории философии, и что в то же время – верх замешательства! – его объявляют гегельянцем, если он ее отвергает… Позднее мы увидим, что такая концепция имеет и другие мотивы. Но в любом случае этот текст ясно показывает то движение, на которое я указывал: поскольку Маркс как целое оказывается в опасности, исходящей от его молодости, то ее восстанавливают как момент целого, и с этой целью фабрикуют некую философию истории философии, являющуюся просто – напросто… гегельянской. Хеппнер в своей статье «О развитии мысли от Гегеля к Марксу» (Recherches, с. 180) хладнокровно расставляет все точки над i: «Нельзя рассматривать историю задом наперед и с высоты марксистского знания исследовать прошлое, разыскивая в нем идеальные зародыши. Нужно прослеживать эволюцию философской мысли, исходя из реальной эволюции общества». Такой же была и позиция самого Маркса, подробно изложенная, например в «Немецкой идеологии».
[Закрыть]. Священный страх нарушить неприкосновенность Маркса порождает рефлекс решительной защиты всего Маркса: нам объявляют, что Маркс – это целостность, что «молодость Маркса принадлежит марксизму»[10]10
«Введение», с. 7. Формулировки не оставляют места для двусмысленностей.
[Закрыть], – как будто мы рискуем потерять всего Маркса, если подобно ему самому отдаем его молодость истории; как будто мы рискуем потерять всего Маркса, подвергая его молодость радикальной критике истории, не той истории, в которой он собирался жить, но той истории, в которой он жил, не истории непосредственной, но истории продуманной, той, принципы научного понимания которой (а не «истину» в гегелевском смысле слова) он дал нам, достигнув зрелости.
Даже в области тактики не бывает удачной политики без удачной теории.