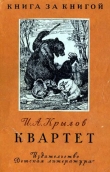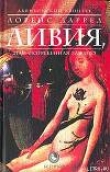Текст книги "Александрийский квартет"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
На соседнем стуле лежала феска, и я рассеянно надел ее себе на голову. Она была еще теплой и липкой изнутри, и толстая кожаная подкладка тут же приклеилась ко лбу. «Я очень хотел бы знать, что все это значит», – сказал я своему отражению в зеркале, заклеенном вдоль трещин зубчатыми краешками почтовых марок. Я имел в виду, конечно же, невероятный кавардак, в просторечии именуемый сексом, акт физического проникновения в чужеродный организм, акт, имеющий власть заставить человека впасть в отчаяние ради нелепого существа с двумя грудями и le croissant [76]76
Полумесяц; рогалик (фр.).
[Закрыть], как это называется на живописном левантинском арго. Шум за занавеской стал громче – застенчивые стоны и скрип, и к старческому скрежету древней деревянной кровати воодушевленно присовокупился сочный человеческий голос. Тот самый для всех одинаковый безличный акт, коим мы, Жюстин и я, привязаны были к миру и уравнены с ним. Какая разница? Как далеко уводили нас чувства от трезвой реальности простого, бездумного, животного акта? До которой степени вероломный разум – с вечным его catalogue raisonné [77]77
Комментированный каталог (фр.).
[Закрыть] сердечных дел – в том виновен? Вопрос был бессмысленный, ответа все равно не будет; но мне так хотелось хоть какой-то определенности, и я убедил себя в том, что стоит мне только застать сей феномен физиологии врасплох, при условии, ежели я буду ведом не любовным, но научным стяжательством, ежели подойду к эксперименту безо всяких предубеждений, – и я, быть может, успею поймать за хвост некую истину о собственных моих желаниях и чувствах. В нетерпеливом желании поскорее отделаться ото всех неразрешимых вопросов на свете я поднял занавеску и тихо шагнул в кубической формы клетушку, освещенную с подобающей случаю тусклостью единственной прикрученной на нет парафиновой лампой: лампа жужжала, огонек дрожал.
На кровати шевелилась бесформенная масса плоти, нечто вроде муравьиной кучи – движение возникало одновременно в нескольких местах, длилось, затухало. Через некоторое время мне все же удалось мысленно отделить бледные и густо волосатые члены немолодого мужчины от зеленовато-белого выгнутого тела женщины с головой боа-констриктора и с черными, слипшимися сосульками волос на голове, длинными, свисшими через край засаленного матраца. Мое неожиданное появление, вероятнее всего, означало полицейскую облаву, на кровати дернулись и затихли. Как будто внезапно опустел муравейник. Мужчина застенчиво застонал и чуть скосил в мою сторону глаз, а затем, словно пытаясь избежать опознания, спрятал лицо меж огромных грудей женщины. Объяснять им, что я всего лишь исследую акт, в который они вовлечены, – сам по себе, – было бессмысленно. Я твердо шагнул к кровати, стараясь не выглядеть слишком нахальным, и с видом, должно быть, чрезвычайно научным и сосредоточенным положил ладони на ржавую каретку и принялся глядеть вниз, не на них, нет, я вообще едва отдавал себе отчет в их существовании, но на себя и Мелиссу, себя и Жюстин. Женщина посмотрела на меня – глаза у нее были угольно-черные и абсолютно бесстыжие – и что-то сказала по-арабски.
Они лежали передо мной подобно жертвам какой-то жуткой катастрофы, неловко соединенные вместе, как участники авангардного эксперимента, впервые в истории человеческой расы додумавшиеся до столь странного способа общения. Поза их, неудобная и непродуманная, казалась репетицией, первой попыткой, из которой столетия проб и ошибок спустя может выйти взаиморасположение тел, столь же великолепное и безусловно законченное, как балетное па. И все же я понимал: данность сия непреложна и на все времена – эта от века трагичная и унизительная поза. Отсюда взрастали причуды любви, преображенные фантазией поэтов и сумасшедших в целую философию галантных градаций. Здесь брали начало болезнь и безумие; здесь же – прообраз унылых, покинутых искрою духа лиц тех, кто давно женат, связанных, говоря фигурально, спина к спине, словно собаки, что не могут разлепиться после случки.
Я хохотнул надтреснутым тихим смехом и сам удивился, но подопытные мои как-то вдруг приободрились. Мужчина приподнял на несколько дюймов лицо и стал внимательно слушать, словно желая убедить себя в том, что ни один полицейский на свете не станет так смеяться. Женщина еще раз уяснила про себя, кто я есть, и улыбнулась. «Подожди минутку, – громко сказала она, указывая белой прыщавой рукой в сторону занавески, – я недолго». Мужчина же, будто услышав в ее словах укор, сделал несколько конвульсивных движений, как паралитик, пробующий ходить, – движений, продиктованных никак не желанием получить удовольствие, но чистой галантностью. Черты его лица сложились в гримаску угодливой вежливости – как если бы в переполненном трамвае он встал и уступил место mutilé de la guerre [78]78
Инвалиду войны (фр.).
[Закрыть]. Женщина застонала и вцепилась пальцами в матрац.
Я отвернулся от них, нелепо слепленных вместе, и вышел, смеясь, назад на улицу, чтобы довершить свой обход квартала, живущего, словно в насмешку, до нелепого конкретной жизнью плоти. Дождь закончился, и влажная земля выдохнула мучительно нежный запах глины, человеческих тел и увядших цветов жасмина. Я медленно двинулся прочь, совершенно ошеломленный, пытаясь уложить в слова весь этот квартал Александрии: я знал, что скоро он исчезнет, совсем, что приходить сюда станут лишь те, на чьи воспоминания наложил свои дрожащие в лихорадке лапы сумасшедший наш город, превратив паутинки памяти в подобие давних запахов, навеки въевшихся в рукава стареющих мужчин: Александрия, столица Памяти.
Улица из спекшейся, со сладковатым запахом глины, размякшей под дождем, но не мокрой. Во всю ее длину – шеренга размалеванных хибарок местных шлюх, и перед каждой дверью – зябкое мраморное тело, как перед входом в раку. Они сидят на трехногих табуретах как пифии, попирая уличную пыль разноцветными тапочками. Необычное освещение бросает на сей пейзаж отблеск бессмертной романтики, ибо вместо электрических фонарей – сверху – улица освещена стоящими прямо на земле пульсирующими светом карбидными лампами: лампы отбрасывают жадные прожорливые тени во все закоулки кукольных домиков, прячут их за карнизы; тени вползают в глазницы и ноздри здешних обитательниц, в податливую, пушистую меховую шубу тьмы. Я тихо иду вдоль неровной шеренги ярких цветов человеческой плоти, размышляя о том, что город, совсем как человек, собирает к старости целую коллекцию чудачеств, страстишек и страхов. Он медленно врастает в зрелость, рождает пророков и погружается медленно в трясину старческого маразма либо одиночества – последнее, пожалуй, страшнее. Город умирал, а смертные его дети, о том не догадываясь, сидели себе на улице, освещенные карбидными лампами, похожие на кариатид, подпирающих тьму, и боли завтрашнего дня пушинками свисали с их ресниц; они глядели бессонно, охотницы за бессмертием, готовые гнать редкостного сего зверя сквозь рощи пророчеств по плоским равнинам времени, бесконечно.
Вот будка, расписанная сверху донизу старательно и со знанием дела прорисованными голубыми королевскими лилиями, на персиковом фоне. У дверей – невероятных размеров девушка-негритянка, лет восемнадцати от роду, одетая в красную фланелевую ночную рубашку, бесформенную, как у сироток в миссионерском приюте. На черной мелкокучерявой голове – корона из ослепительных нарциссов. Руки, неловко сплетенные на коленях – фартук полон отрубленных пальцев. Похожа на кролика небесно-черного цвета, сидящего у входа в норку. У следующей двери женщина постарше, хрупкая как лепесток, за ней еще одна – химическая формула, промытая до полной стерильности малокровием и табачным дымом. И повсюду на красных облупленных стенах я видел главный в здешних местах талисман – отпечаток руки с раздвинутыми пальцами, долженствующий оберегать живущих здесь от страхов, жадной стаей кружащих во тьме вне стен освещенного города. Я проходил мимо женщин, и они издавали не жадные до денег человеческие восклицания, но монотонное голубиное воркование – и тихие их голоса наполняли улицу едва ли не монастырской умиротворенностью. Нет, они предлагали не тусклый секс в унылом уединении, в неровном свете коптилок, но, как истинные дочери Александрии, – глубокое забытье родовых схваток, круто замешенных на звучном зове плоти, без скидок, без жалости.
Кукольные домики дрожат и лопочут во тьме, когда налетает с моря ветер, выдавливая пузыри занавесок, расчленяя перегородки. У одной из хибарок вовсе не было задней стены, и, заглянув в раскрытую дверь, я увидел двор с карликовой пальмой посередине. В жестяной бадье горели стружки, три девушки в рваных кимоно сидели на табуретках вокруг, говорили еле слышно и протягивали кончики пальцев к крошечному огоньку. Далекие, отрешенные, они сидели – как у затерянного в степи костра, одни.
(На заднем плане я увидел вдруг ледяные торосы – сугробы искристого снега и Нессимовы бутылки шампанского в них, отблескивающие голубоватой зеленью, как древний карп в фамильном пруду. И, словно пытаясь воскресить ушедшее, я поднес к лицу рукава – левый, правый, – я искал следы запаха, запаха Жюстин.)
Я завернул в пустое кафе, где перетирал стаканы одинокий копт-саидянин, столь невероятно косоглазый, что каждый предмет под его взглядом, казалось, начинал двоиться, – и выпил чашку кофе. В дальнем углу, свернувшись на крышке сундука в калачик, тихо, – я даже не заметил ее, когда вошел, – сидела древняя старуха и курила наргиле; раз в несколько минут сквозь воду пробегал пузырек и лопался с мягким воркующим звуком. Я сел и попытался представить себе всю свою здешнюю жизнь, от начала до конца, еще с тех времен, когда я не был знаком с Мелиссой, и до необходимой, не столь уж далекой, наверное, точки, до трезвой обыденной смерти в городе, полностью слиться с которым мне так пока и не удалось; история эта предстала предо мной до странности завершенной, как будто она и не имела до меня никакого касательства, – просто нить из пестрого плетения александрийского ковра. Неотъемлемая часть городской истории, в полном соответствии со всем, что случилось прежде, и со всем, что придет потом. Дух места мягко увлек мое воображение в подводный свой мир, сделав невосприимчивым к личным, индивидуальным ходам мысли. Я утратил даже чувство самосохранения. Больше всего, помню, я сожалел о беспорядочной груде рукописей; их непременно найдут в моей опустевшей квартире. Я всегда терпеть не мог незаконченности, фрагментарности. Я решил срочно их уничтожить, первым делом. Я вскочил – и тут меня осенило: мужчина, там, у проститутки, был Мнемджян. Как мог я не узнать его искореженной спины? Думая о Мнемджяне, я пошел обратно через весь квартал к широким, оживленным улицам у моря. Я шел сквозь фатаморгану узких извилистых переулков, как будто через поле битвы, где полегли друзья моей юности, все до единого; и удивлялся, радовался каждому звуку и запаху – счастье выжившего. На одном из углов стоял факир с лицом, поднятым вверх, и плевал в небо языками пламени – рот его чернел сквозь огонь, рыжие языки плясали у губ, а пламя пробивало в небе дыры. Время от времени он прикладывался к бутылке с горючим, затем снова закидывал голову и выдыхал шестифутовый столб огня. Во всех углах залегли фиолетовые тени, чреватые человеческим опытом, жестоким и поэтичным одновременно. Во мне больше не было места сентиментальной жалости к себе, лишь ожидание зова города, желание стать частью его воспоминаний, обыденных и трагичных – если он того захочет. И я воспринял это чувство как симптом зрелости.
Понятное дело, когда я добрел наконец до маленькой своей квартирки и вытащил на свет божий серые тетрадки с записями, мне уже не захотелось с ними расставаться. Более того, я сел, включил настольную лампу и принялся писать, покуда Помбаль рассуждал о жизни из кресла напротив.
«Вернувшись домой, я молча сижу и вслушиваюсь в тяжелые аккорды ее аромата: запахи плоти, фекалий и трав, сотканные в плотную парчовую ткань ее существа. Странная любовь, у меня даже нет чувства обладания ею – да я и не хотел бы ею обладать. Мы словно соединились в само-обладании, товарищи по оружию, по одинаковой стадии роста. Если говорить откровенно, мы надругались над любовью, ибо признали: узы дружбы более сильны и значимы для нас. Для чего я это написал? Только лишь из усердия, из желания высказать как можно искреннее все, что знаю о мире, где был рожден и где делил минуты глубочайшего одиночества – минуты соития – с Жюстин. Ближе к правде мне не подобраться».
«Не так давно мы долго не могли увидеться в силу каких-то особенных обстоятельств, и я настолько истосковался по ней, что прошел пешком всю дорогу до Петрантония, лишь бы отыскать и купить бутылочку ее духов. Тщетно. Удивительно терпеливая барышня за прилавком позволила мне перепробовать все имевшиеся у нее в запасе ароматы, раз или два я даже обрадовался было находке. Но – увы! Постоянно чего-то не хватало – может быть, просто тела, запаха тела под легкою тканью духов. И только когда я в отчаянии помянул имя Жюстин, барышня тут же протянула мне искомый флакончик – мы, оказывается, пробовали его первым. “Что же вы сразу не сказали?” – спросила она так, словно я задел ее профессиональную гордость: весь город – звучало в ее тоне – знает духи Жюстин, кроме меня, недоумка. Узнать их я так и не смог. Духи эти, кстати (“Jamais de la vie”), оказались далеко не из самых дорогих или редких».
(Когда я принес домой маленький флакончик, обнаруженный кем-то в жилетном кармане покойного Коэна, призрак Мелиссы все еще обитал там в заточении. Я будто увидел ее, сразу.)
Помбаль читал вслух длинный жутковатый отрывок из Moeurs, озаглавленный «Кукла заговорила». «Случайность за случайностью выпадают на долю самца, но я ни разу не знал облегчения, каким бы испытаниям ни подвергалось мое тело – с моей же подачи. Я постоянно вижу в зеркале образ стареющей фурии, и она кричит: “J’ai raté mon propre amour, – mon amour a moi. Mon amour-propre, mon propre amour. Je l’ai raté. Je n’ai jamais souffert, jamais eu de joie simple et candide”» [79]79
«Я упустила свою настоящую любовь – мою любовь к самой себе. Самолюбие мое – моя любовь, и ничья больше. Я ее упустила. Я никогда не страдала, но радости, простой и невинной радости, у меня тоже не было» (фр.).
[Закрыть].
Помбаль остановился и сказал: «Если он прав, тебе твоя любовь пойдет только на пользу», – и его фраза ударила меня, словно топор в чьей-то могучей и бездумной руке.
* * * * *
Подоспело время большой ежегодной охоты на озере Мареотис, и на Нессима вдруг снизошло магическое чувство облегчения. Он понял наконец-то: все, чему надлежит случиться, произойдет именно сейчас, не раньше и не позже. У него был вид человека, счастливо переборовшего тяжелую болезнь. Неужели это возможно: так долго и так нелепо ошибаться, даже если полагаешься при этом исключительно на интуицию? Долгие годы после свадьбы он повторял изо дня в день: «Я так счастлив!» – с фатальностью старческого боя дедовских часов, едва способного раздвинуть плотные шторы тишины. Теперь он пробовал сказать – и не мог. Их общая жизнь была подобна кабелю, проложенному под толщей песка; но вот кабель вышел из строя, неведомо почему, место обрыва неизвестно, и объяла их обоих непривычная и непереносимая тьма.
Сумасшествие, естественно, не желает принимать в расчет ничьих обстоятельств. И строит мрачные свои замки, как оказалось, опираясь вовсе не на терзаемую сверх всякой меры личность, но на ситуацию, в которой личность оказалась. Если уж на то пошло, все мы были сумасшествию причастны, но лишь в Нессиме оно воплотилось, обрело способность жить и действовать. Краткий период в ожидании большой охоты на Мареотисе длился около месяца – едва ли дольше. И для людей, близко с ним не знакомых, опять же ничего не произошло. Однако в его дневниках записи галлюцинаций занимают столько места, что поневоле возникает ассоциация с раковой тканью, наблюдаемой в микроскоп, – здоровые на вид клетки, потеряв голову, размножаются с невероятной быстротой, забыв о необходимости сдерживать себя.
Он шел по городу, и встреченные по дороге таблички с названиями улиц являли собой серию адресованных ему шифрованных сообщений, – весьма недвусмысленное свидетельство сверхъестественного вмешательства, полного угроз, чреватого возмездием – он только сомневался, кого будут наказывать, его или прочих. В витрине книжного магазина он увидел пожелтевший трактат Бальтазара, и в тот же день, проходя через еврейское кладбище, наткнулся на могилу его отца – характерные еврейские имена, вбитые в камень, как иероглифы вечной меланхолии европейского еврейства в изгнании.
Еще ему мерещились звуки в соседней комнате: нечто вроде тяжкого дыхания и затем, внезапно, бравурная игра на трех пианино сразу. Все это, он отдавал себе в том отчет, были вовсе не галлюцинации, но звенья оккультной цепи, логичной и постижимой лишь для умов, освободившихся от узких рамок причинно-следственных связей. Ему становилось все труднее носить маску нормальности – согласно общепринятым нормам поведения. Он шел путем Devastatio [80]80
Опустошения (лат.).
[Закрыть], описанного Сведенборгом.
Угли в камине взяли обыкновение принимать причудливые формы. Он проверял себя, гасил и поджигал их снова – жуткие пейзажи и лица никуда не исчезали. Его беспокоила также и родинка на запястье Жюстин. Во время еды он вынужден был так яростно бороться с желанием прикоснуться к родинке, что бледнел как полотно, дело едва не доходило до обморока.
В один прекрасный день вдруг задышала скомканная простыня и продолжала дышать на протяжении получаса, принявши форму человеческого тела. Как-то ночью его разбудил легкий шорох крыльев, и он увидел похожее на летучую мышь существо со скрипкой вместо головы, оно сидело на каретке кровати…
Затем противодействие сил добра – послание, принесенное божьей коровкой, она опустилась на страницу его записной книжки, когда он писал; музыка Веберова «Пана» в фортепьянном исполнении каждый день между тремя и четырьмя из окон соседнего дома. Он чувствовал, что его мозг стал полем битвы сил добра и зла и задача его – каждым нервом почувствовать и отделить свет от тьмы. Задача, мягко говоря, не из легких. Мир явлений принялся шутить с ним шутки, и пять его чувств уже готовы были обвинить в непоследовательности саму реальность, собственной персоной. Возникла серьезная угроза поражения.
Однажды его жилет, висевший на спинке стула, начал тикать на разные голоса, как будто в нем завелся целый выводок чужих сердец. Стоило взять его в руки, и он замолчал. Селиму, призванному в качестве свидетеля, жилет также отказался доставить удовольствие услышать хоть что-нибудь. В тот же день он увидел свои инициалы, выписанные золотом на облаке, отразившемся в витрине на Рю Сент-Саба. И все встало на свои места.
На той же неделе он зашел в кафе «Аль Актар», намереваясь выпить стопочку арака, – в дальнем углу, всегда зарезервированном для Бальтазара, сидела некая фигура и прихлебывала его арак. Незнакомец показался ему искаженной копией его самого: увидя в зеркале Нессима, он полуобернулся и отлепил в улыбке губы от белых зубов – в зеркале же. Нессим не стал ждать заказа и быстро ушел.
Прогуливаясь вдоль по Рю Фуад, он почувствовал, как тротуар становится губкой у него под ногами; пока наваждение не рассеялось, он успел увязнуть по пояс. Несколько часов спустя, в два тридцать пополудни, он очнулся от лихорадочного сна, оделся и снова отправился в город проверять истинность догадки, почему-то невыносимой, что ни у Паструди, ни в кафе Дордали нет ни единого человека. Так и вышло, и факт сей почему-то несказанно обрадовал его. Однако облегчение оказалось недолговечным: вернувшись домой, он вдруг почувствовал недомогание и боль – словно кто-то пытался выдрать сердце из его груди короткими механическими рывками – как воздушным насосом. Ему внезапно опротивела его собственная комната, он даже стал ее бояться. Он долго стоял и слушал, пока не возобновится звук – шорох разматываемых по паркету проволочек и придушенные крики маленького животного, как если бы его запихивали в сумку. Затем, совершенно отчетливо, звук защелкнутых чемоданных застежек и человеческое дыхание – человек стоит в соседней комнате у стены и тоже прислушивается к малейшему звуку. Нессим снял тапочки и на цыпочках прокрался в фонарь, пытаясь заглянуть в соседнюю комнату. Его убийца, так ему казалось, был стареющий человек с худыми заострившимися чертами лица и красноватыми запавшими глазами медведя. Никаких доказательств своим догадкам он отыскать не мог. Однако, пробудившись чуть свет утром того самого дня, когда нужно было рассылать приглашения на охоту, он выглянул в окно спальни и с ужасом увидел на соседней крыше двоих подозрительного вида мужчин, одетых по-арабски, они привязывали веревку к некоторому подобию лебедки. Один из них заметил Нессима и указал на него другому пальцем; они принялись тихо переговариваться. Затем они стали спускать вниз что-то тяжелое, завернутое в шубу, прямо на улицу. Его руки дрожали, когда он сел за стол и начал надписывать большие белые куски картона изящным летящим почерком, выбирая имена из длинного списка, с вечера оставленного Селимом на его столе. Тем не менее, стоило ему только вспомнить, сколько шума поднимает из года в год местная пресса вокруг сего знаменательного события, большой охоты на Мареотисе, – и губы его тронула улыбка. Голова у него была загружена до предела, и он решил ничего не пускать на самотек. Хотя Селим всегда был под рукой, готовый выполнить любое поручение, он поджал губы и настоял на том, что развезет приглашения лично. И вот одно из них предвестником беды уставилось на меня с каминной полки. Сквозь дымку алкоголя и никотина я тоже гляжу на него, и постепенно до меня доходит: неким непостижимым образом в этом кусочке картона – решение, к которому стремимся мы все. («Там, где кончается наука, начинаются нервы». Moeurs.)
«Конечно, тебе следует отказаться. Ты же не собираешься ехать?» – произнесла Жюстин так резко, что я понял: ее взгляд следовал за моим. Она стояла рядом, надо мной, в тусклом свете раннего утра и вслушивалась между фразами в тяжелое дыхание за дверью – призрак Хамида, ночной его эквивалент. «Не стоит искушать судьбу. Ты не согласен? Ну, что ты молчишь?» И, словно для пущей убедительности, она выскользнула из юбки и туфель и мягко упала ко мне на кровать – теплые губы и волосы, уклончивые движения тела, она прижалась ко мне, как к незажившей ране, осторожно и нежно. Мне просто казалось тогда – безо всякой бравады, – мне казалось, что я не имею права отказать Нессиму в сатисфакции, лишить его права на месть, а всю нашу историю – права на развязку. Внизу же, где-то еще глубже, билась тонкая жилка радости, до тех самых пор, пока я не увидел скорби на лице моего собрата по оружию. Она лежала, глядя сквозь невероятно красноречивые скорбные свои глаза, как сквозь окно в высокой башне памяти. Она глядела, я знал уже тогда, в глаза Мелиссы – в открытые, встревоженные глаза малознакомой женщины, которая с каждым днем, с каждым новым знаком опасности становилась ближе нам обоим. В конце концов, кому Нессимов удар, если Нессим собирался ударить, принесет больше боли, как не ей? Жюстин ковала железную цепь поцелуев, и я медленно спускался – звено за звеном – в сумеречную глубь, подобно моряку, скользящему вдоль якорной цепи в темную бездну огромной стылой бухты: памяти.
Из всех возможных неудач человек выбирает наименее опасные для чувства самоуважения: хочется упасть помягче. Мой вариант: в искусстве, в религии, во взимоотношениях с людьми. В искусстве я оказался беспомощен (мне только сейчас пришло в голову), потому что не верил в самостоятельно существующую человеческую личность. («Кто мог бы сказать с уверенностью, – пишет Персуорден, – что лица у людей одни и те же, постоянно? Может, они просто примеряют маску за маской со скоростью, недоступной глазу, создавая тем иллюзию неизменности черт лица – так подергивается лента в старом немом кино, а?») Я давно утратил веру в подлинность всякого сходства человека с самим собой – как мог я писать портреты? Вера? Что ж, я не встретил пока ни одного достойного учения, где жертва Богу не была бы отравлена чувством вины. Pace Balthazar [81]81
С дозволения Бальтазара (лат.).
[Закрыть], все церкви и секты казались мне центрами самоподготовки по борьбе со страхом. Последняя и наихудшая моя неудача (я спрятал губы в темных, живущих тайной жизнью волосах Жюстин) – неудача с людьми. Причина была в постоянно возраставшей отчужденности духа: мне все проще становилось со-чувствовать людям, обладание же было мне заказано. Моя любовь необъяснимым образом делалась все менее совершенной с каждым разом, и все проще давалась мне труднейшая и наилучшая ее часть – отдавать себя. На эту наживку, я понял вдруг с ужасом, и клюнула Жюстин. С рождения наделенная женским инстинктом собственницы, она была обречена на бесплодные попытки поймать меня там, где я был недосягаем, в моем последнем убежище за прочными щитами смеха и дружеского участия. В итоге – ничего, кроме разочарования и отчаяния, ибо я был совершенно от нее независим; а страсть обладать, владеть, если морить ее голодом, делает человека существом абсолютно и безусловно зависимым – от предмета страсти. Как трудно разобраться в хаосе нитей, протянутых от человека к человеку под шероховатой кожей поступков и слов; ведь любовь есть всего лишь язык кожи, а секс – система терминов.
Стоит, однако же, воздать должное сей печальной истории, принесшей мне столько боли, – она заставила меня понять, что память только болью и питается; радость самодостаточна и кончается в себе самой – та боль и та радость завещали мне беспредельный запас душевного здоровья: животворного умения глядеть со стороны. Я был как электрическая батарея. Отсоединенный от цепи, я обретал полную свободу передвижения в мире мужчин и женщин, как хранитель законных прав любви – любви, которая не есть страсть и не есть привычка (то лишь атрибуты ее), но божественное шествие Бессмертного средь смертных – Афродита-во-Всеоружии. Я, помимо собственной воли, выковал себе оружие, и я весь был – в нем; весь – оно, хоть и страдал от него больше всех (как иначе?). И оружие было – безличность. Вот что любила во мне Жюстин, вовсе не мою неповторимую индивидуальность. Женщины – разбойники на большой дороге секса: она и пыталась выкрасть у меня волшебный дар отрешенности, жемчужину, вызревшую в голове живой жабы. Именно знаки отрешенности она искала и находила на полотне моей жизни – беспорядочной, несвязной и нелепой. Ценность моя заключена была не в том, чем я владел или чего достиг. Она сумела разглядеть внутри стержень, который невозможно было ни изогнуть, ни сломать, – за него и любила меня. Как могла она жить спокойно, если чувствовала: даже когда я был с ней, я только и хотел, что – умереть. Как могла она такое вытерпеть!
А Мелисса? Конечно, ей не под силу было копать столь глубоко. Ей довольно было знать, что на силу мою можно опереться там, где она слабее всего: во взаимоотношениях с внешним миром. Она ценила каждую мою человеческую слабость – привычку к беспорядку, неспособность делать деньги и тому подобное. Она любила мои слабости, ибо могла быть в свою очередь полезной мне; Жюстин же отметала их прочь, как недостойные ее внимания. Она искала иной силы. Я интересовал ее только лишь как обладатель собственности, которую она не могла ни получить от меня в дар, ни украсть. Здесь вся суть обладания – война до победного конца за черты несходства друг в друге, за золото души близкого человека. Но разве может подобная война не быть разрушительной и безнадежной?
И все же насколько запутанны порой мотивы человеческих поступков: почему именно Мелисса должна была изгнать Нессима из его убежища в царстве грез и повернуть его лицом к необходимости (весьма прискорбной и для нас, и для него) – нашей смерти. Ибо не кто иной, как Мелисса, одержимая несчастливым бесом, подошла как-то вечером к его столику – он задумчиво смотрел на кордебалет, и на столе перед ним стоял пустой бокал из-под шампанского – и, вспыхнув, спрятав под накладными ресницами глаза, выпалила шесть слов: «Ваша жена больше вам не верна», – и эта фраза дрожала с тех пор в его голове, как брошенный в стену нож. Конечно, его досье давно уже распухло от донесений на сей прискорбный счет, но те донесения были похожи на газетные сводки с места далекой катастрофы в чужой, незнакомой стране. Теперь же перед ним стоял очевидец, жертва, выживший участник катаклизма… Эхо единственной сказанной фразы вновь пробудило в нем способность чувствовать. Бесконечно длинная змея исписанной бумаги восстала вдруг из мертвых и закричала ему в лицо.
Уборной Мелиссе служил дурно пахнущий куб, где на стенах неуклюже изгибались членистые трубы, дерьмопроводы с верхних этажей. Из мебели – только необработанная полоска зеркала и маленькая полочка под ней, одетая слоем белой бумаги: на такой бумаге кулинары воздвигают свадебные торты. На полочке – вечная мешанина пудр, теней и макияжных карандашей, с чьей помощью она умудрялась создавать жестокие шаржи на саму себя.
В этом зеркале и проявился из тьмы Селим, подрагивая в свете газовой горелки, как посланец загробного мира. Отточенность фраз, продуманность интонаций – казалось, устами его говорит сам Нессим; в прилежном копировании даже тональности голоса хозяина Мелисса услышала трогательную заботу о единственном человеческом существе, бывшем для Селима едва ли не богом: он готов был стать глиной в его руках.
Мелиссе стало страшно, ей ли было не знать, как в традициях Города наказывают задевших честь великих мира сего, – быстро и страшно. Она вспомнила сказанное, ахнула про себя и стала дрожащими пальцами снимать с век накладные ресницы. Отклонить приглашение было невозможно. Она надела свое жалкое парадное платье и пошла вслед за Селимом, придавленная усталостью и страхом, к великолепному авто, поджидавшему их в глухой тени. Селим помог ей сесть, и она оказалась бок о бок с Нессимом. Они медленно скользили сквозь тусклый александрийский вечер, и она была настолько напугана, что поначалу даже не понимала, куда ее везут. Они прокрались вдоль моря, отливающего сапфиром, и свернули в глубь трущоб, комкая переулок за переулком, в сторону Мареотиса и битумно-черных шлаковых отвалов Мекса: столб света автомобильных фар счищал слой за слоем бурой тьмы, вызывая из небытия крошечные сценки египетской частной жизни – поющего пьяницу, библейскую фигуру на ослике, с двумя детьми, они спасаются бегством от страшного царя Ирода, носильщик сортирует поклажу – быстро, как карта за картой вылетает из рук профессионального игрока. Знакомые виды вызывали в ней теперь острое чувство, ибо дальше лежала только пустыня – и отзывалась мотору гулким эхом пустоты, как морская раковина. За все это время ее спутник не проронил ни слова, а она не осмеливалась даже взглянуть в его сторону.