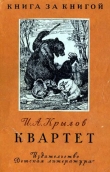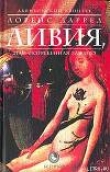Текст книги "Александрийский квартет"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Небезынтересно было вдобавок ко всему узнать, кто из моих знакомых работал на ту же контору. Мнемджян, к примеру: его парикмахерская была общегородской явкой, и выбор в данном случае был безупречен. Свои обязанности он исполнял с невероятным тщанием и осторожностью и вдобавок ко всему взял моду брить меня бесплатно; мне еще предстояла горечь разочарования, когда я узнал, много позже, что разведсводки свои он прилежно переписывал в трех экземплярах и продавал копии другим – не английским – спецслужбам.
У новой моей работы оказалась и еще одна забавная особенность: можно было с полным правом учинить налет на квартиру любого из приятелей. Особенно большое удовольствие я получил от обыска в апартаментах Помбаля. Бедняга имел пагубное обыкновение приносить официальные документы домой и работать с ними по вечерам в тиши и удобстве. Так что в наши руки попала целая кипа бумаг, приведших старину Скоби в неописуемый восторг, ибо среди прочего там оказались развернутый меморандум о французском присутствии в Сирии и полный список французских агентов в самом городе. В одном из списков я обнаружил имя старого меховщика, Коэна.
После обыска Помбаль долгое время не мог опомниться и около месяца ходил по городу, поминутно оглядываясь в поисках хвоста. Еще он вбил себе в голову, что одноглазого Хамида подкупили с целью его, Помбаля, отравить, и ел приготовленную дома пищу лишь после того, как я ее попробую. Он все еще надеялся получить крестик и повышение по службе, а потеря папок с документами, как он вполне разумно рассудил, нимало тому не способствовала; но мы предусмотрительно оставили ему обложки с номерами, и ему удалось незаметно поставить их на место, вложив вовнутрь записку с уведомлением, что содержимое уничтожено «согласно инструкции».
Последнее время его тщательно продуманные вечерние коктейли, куда он порой приглашал представителей самых что ни на есть постыдных профессий, вроде проституток или писателей, делались все удачнее и удачнее. Они были мучительно роскошны и скучны, и я помню, как однажды, совершенно подавленный, он попытался объяснить мне – почему: «Сам по себе коктейль – как то понятно из смысла слова [72]72
Если вторая часть этого составного слова по-английски достаточно однозначна – «хвост», то о первой этого никак не скажешь. Помимо центрального в данном случае значения – «петух», «петушиный» и глагола, связанного с любым почти движением вверх, существует множество других, и среди них то самое, которое по-русски удачно замещается также давно уже не эвфемизмом «хрен».
[Закрыть] – изобрели собаки. Это просто обнюхивание, возведенное в ранг церемонии». Тем не менее он упорно ставил на одну и ту же карту и был в конце концов вознагражден благосклонным вниманием генерального консула, который, помимо презрения, до сих пор вызывал в нем едва ли не детское чувство священного ужаса. Ему даже удалось убедить Жюстин, после долгих забавных в своей серьезности увещеваний, показаться на одном из приемов с целью облегчить ему крестный его путь. Нам же взамен предоставил возможность поближе познакомиться с Пордром и прочими представителями не слишком многочисленной популяции александрийских дипломатов – эти люди по большей части казались нарисованными пульверизатором, до того бесцветны и призрачны, на мой взгляд, были их протокольные души.
Сам Пордр был похож скорее на шарж, чем на живого человека. Прирожденная мишень карикатуриста. Длинное порочное лицо, оттененное великолепной седой шевелюрой, предметом его трепетной заботы – так ливрейный лакей заботится о медных ручках на дверцах кареты. Его вопиющая неестественность (преувеличенная забота и дружелюбие по отношению к едва знакомому человеку) не могла вызвать во мне ничего, кроме раздражения, и помогла по достоинству оценить девиз, изобретенный моим приятелем для французского дипломатического корпуса, – те же слова, уже в качестве эпитафии, он мечтал увидеть на могильном камне шефа. («Посредственность его была его спасеньем».) В приглушенном свете Помбалевых приемов он сиял, как листик золотой фольги, – поверхностный блеск подобающей по долгу службы, а потому затверженной наизусть культуры.
Апогеем той вечеринки стало приглашение на обед, полученное Пордром от Нессима, – старый дипломат буквально светился от счастья, на сей раз совершенно ненаигранного. Было общеизвестно, что сам король был довольно частым гостем за столом у Нессима, и старичок явно уже строчил про себя депешу в Париж, где во первых строках стояло: «Обедая на прошлой неделе с королем, я перевел разговор на вопрос о… Он сказал… Я ответил…» Губы его шевелились, взгляд застыл, и он погрузился в характерный тихий транс, вздрогнув через несколько минут, дабы прийти в себя и одарить недоуменно умолкших собеседников глуповатой смущенной улыбкой: так улыбается треска в витрине у рыбного торговца.
Что до меня, то я испытывал странное ностальгическое чувство в маленькой, похожей изнутри на цистерну квартире, где прошли два года моей здешней жизни: вспомнив, что именно в этой комнате я в первый раз встретил Мелиссу… Квартира очень изменилась стараниями последней Помбалевой любовницы. Она заставила его обить стены панелями, крашенными в серовато-белый цвет, и пустить понизу каштанового цвета плинтус. Старые кресла, сеявшие вот уже который год из прорех в боках желтоватой трухой, были заново обиты блестящей камкой с узором из геральдических лилий; три же древних дивана и вовсе исчезли, и комната стала чуть просторнее. Конечно, их уже давно продали, а то и просто выбросили вон. «Бог знает, – подумал я цитатой из старого поэта. – Бог знает, где теперь вся эта мебель» [73]73
Строка из стихотворения К. Кавафиса «Послеполуденное солнце» в переводе С. Ильинской.
[Закрыть]. Сколь беспощадна память, и как жестоко запускает она когти в сырой материал повседневности.
Мрачная Помбалева спальня приобрела невнятный аромат fin de siécle [74]74
«Конца века» (фр.), стиль рубежа XIX—XX веков.
[Закрыть] и сияла чистотой, как новенькая булавка. Оскар Уайльд увидел бы в ней идеальную декорацию для первого акта. Моя собственная комната тоже изменилась, но кровать все так же стояла у стены неподалеку от жестяной раковины. Желтая занавеска, конечно, исчезла, на ее месте висела какая-то белая тряпка из плотной шерсти. Я положил руку на ржавую каретку кровати и едва не задохнулся от боли, вспомнив ясные глаза Мелиссы, обернувшейся ко мне в сумеречном полумраке комнаты. Удивление и стыд – подобного я от себя не ждал. Жюстин зашла в комнату следом за мной, я захлопнул дверь и принялся целовать ее часто-часто, губы, волосы, лицо, стиснув ее изо всех сил, она едва не задохнулась: чтобы только не дать ей заметить слез на моих глазах. Но она поняла, сразу, и, возвращая мне поцелуи в самоотверженном запале дружеского участия, прошептала: «Я понимаю. Понимаю».
И, мягко высвободившись из моих рук, увела меня из комнаты, закрыла дверь. «Мне нужно кое-что рассказать тебе. О Нессиме, – сказала она тихо. – Слушай. В среду, за день до отъезда из Летнего дворца, я поехала покататься на лошади к морю, одна. У берега были чайки, целая туча, а потом я заметила машину, она ползла сквозь дюны – к морю, за рулем был Селим. Я никак не могла сообразить, что они делают. Нессим сидел сзади. Я думала, они застрянут, но машина выкарабкалась в конце концов на берег, на твердый песок, и понеслась вдоль кромки в мою сторону. Я была не на пляже, а в ложбинке, метрах в пятидесяти от воды. Когда они поравнялись со мной и чайки разом поднялись в воздух, я заметила, что у Нессима в руках старая магазинная винтовка. Он поднял ее и стал стрелять в чаек, раз за разом, пока не кончились патроны. Три или четыре упали в море, бились на поверхности воды, но машина не остановилась. Они так и уехали на полной скорости. Наверно, где-то можно выехать с длинного пляжа на песчаник, неподалеку от шоссе, потому что, когда я через полчаса вернулась домой, машина уже была там. Нессим сидел в обсерватории. Дверь была заперта, и он сказал, что занят. Я спросила у Селима, что они делали на пляже, он пожал плечами и указал на дверь обсерватории. “Он отдает приказы”, – больше я от него ничего не добилась. Но, дорогой мой, если бы ты видел, с каким лицом Нессим поднимал винтовку…» И, вспомнив, она невольно коснулась длинными пальцами скул и щек, словно пытаясь воспроизвести это выражение в собственных своих чертах. “У него было лицо сумасшедшего”.
В соседней комнате шел вежливый разговор о международной политике, о ситуации в Германии. Нессим грациозно облокотился о спинку стула Пордра. Помбаль старательно глотал зевки, которые самым огорчительным образом возвращались в виде отрыжки. Я все еще думал о Мелиссе. Днем я послал ей немного денег, и мысль, что она потратит их себе на платье, на хорошее платье – или даже просто глупейшим образом их растранжирит, – грела меня. «Деньги, – услышал я игривый голос Помбаля, он обращался к хорошо пожившей женщине с лицом кающейся верблюдицы. – Никогда не следует забывать о доходах. Ибо только лишь с помощью денег можно делать новые деньги. Мадам, вне всякого сомнения, известна арабская поговорка, гласящая: “Роскошь купит роскошь, нищете же не купить и поцелуя прокаженного”».
«Нам пора», – сказала Жюстин, и, глядя в ее теплые темные глаза, пока мы прощались, я понял, что она догадалась, насколько полны мои мысли Мелиссой; и ее рукопожатие стало еще более теплым и дружеским.
Сдается мне, в тот же самый вечер, когда она переодевалась к обеду, в комнату к ней вошел Нессим и обратился к ее отражению в мечевидном зеркале. «Жюстин, – сказал он твердо, – мне придется задать тебе один вопрос, не то у меня возникнут серьезные сомнения в собственной вменяемости; итак – Бальтазар когда-либо был тебе больше чем другом?» Жюстин как раз вставляла золотую цикаду в мочку левого уха; она подняла на него глаза, помолчала и ответила в тон, так же спокойно и ровно: «Нет, дорогой мой».
«Спасибо».
Нессим долго смотрел на свое отражение, задумчиво и напряженно. Потом вздохнул и вынул из кармана смокинга маленький золотой ключ в форме анкха. «Я понятия не имею, как он ко мне попал», – сказал он, густо покраснев, и протянул ключ ей. Тот самый ключ, потеря которого так огорчила Бальтазара. Жюстин взглянула на ключ и снова перевела на мужа несколько настороженный взгляд. «Где ты его нашел?»
«В коробочке с запонками».
Жюстин вернулась к своему туалету, но медленнее, чем прежде, удивленно глядя на мужа. Нессим упорно, с показной сосредоточенностью изучал свое отражение в зеркале. «Надо придумать способ вернуть ему ключик. Может быть, он просто обронил его при встрече. Есть одно странное обстоятельство…» Он снова вздохнул. «Нет, ничего». Им обоим было совершенно ясно, что ключик он украл. Нессим повернулся на каблуках и сказал: «Жду тебя внизу». Как только дверь за ним закрылась, Жюстин посмотрела на ключ внимательно и удивленно.
* * * * *
Тогда же, осенью, пришла к нему длинная череда видений, снов о временах давно ушедших, об историческом прошлом, вытеснив сны о детстве; и в видениях этих, словно в сетях, бился сам Город – как будто искавший долго и наконец нашедший идеальной чуткости механизм, способный воспринять, осознать и выразить коллективную волю, коллективные страсти, стержневые линии его души, его культуры. Очнувшись ото сна, он видел башни, видел минареты, впечатанные в сухое, припорошенное пылью небо – а поверх, как в комбинированных съемках, гигантские следы исторической памяти, что таится под слоем воспоминаний личных, индивидуальных, ведет и направляет память каждого отдельного человеческого существа: даже и владеет ею всецело, ибо что есть человек, как не функция от духа места.
Они тревожили его, потому как далеко не всегда избирали для визита отведенные снам ночные часы. Они раздвигали узорчатый занавес реальности и заслоняли свет дневного солнца так, словно тонкая пленка рассудка рвалась – еще, еще и еще раз – и в отверстия проникали сны.
Бок о бок с циклопическими постройками снов – галерея мудрых образов, уходящих корнями в читанные когда-то книги и в долгие часы раздумий о собственном прошлом, – набегали все более и более яростные приступы необоснованной ненависти к самой редкой и нежно лелеемой когда-то ипостаси Жюстин, преданного друга и самоотверженной любовницы. Они были кратковременны, но столь интенсивны, что, справедливо расценив их как оборотную сторону своей к ней любви, он стал опасаться не за нее, а за себя. Ему становилось страшно, когда он брился по утрам в стерильной белизны ванной. Он стал ходить к Мнемджяну, и тот несколько раз, расправляя складки укрывавшей Нессима белой простыни, замечал у него на глазах слезы.
Грезы о прошлом прочно обосновались на авансцене его мозга, но фигуры друзей и знакомых, осязаемые, живые, никуда не ушли: они бродили неприкаянно среди развалин древней Александрии, осваивая понемногу чужое пространство и время, подобные обретшим вдруг плоть и кровь литературным персонажам. Прилежно, как клерк в конторе актуария, записывал он все, что видел и чувствовал, – в дневник, заставляя затем бесстрастного Селима перепечатывать рукопись на машинке.
Он видел Мусейон, к примеру, а в нем – унылых, высокооплачиваемых художников, вышивающих гладью вдоль незыблемых, никогда не выходящих из моды узоров, которые когда-то придумали отцы-основатели; и позже среди одиночек и мудрецов – философа, загоняющего мир, как кобылу, в стойло с надписью «Для внутреннего пользования», – ибо на каждой стадии своего развития каждый человек находит мир заново, чтобы привести его опять в соответствие с собственной природой; и каждый мыслитель, каждая мысль оплодотворяет мир наново.
Буквы, врезанные в музейный мрамор, шептали ему вослед, шевелясь, как губы. В музее его ждали Бальтазар и Жюстин. Он пришел на свидание с ними, одурманенный лунным светом и влажной тенью колоннад. Он услыхал их тихие голоса и подумал, складывая губы для свиста – был у них с Жюстин такой пароль: «Не вульгарно ли, если ты умен, верить столь безрассудно в незыблемость первопринципов – как Бальтазар?» И тут же услышал последнюю фразу Бальтазара: «А мораль – ничто, покуда она остается лишь формулой хорошего поведения».
Он медленно проходил арку за аркой, и голоса звучали все ближе и ближе. Мраморные плиты, иссеченные полосами тени и лунного света, как зебры. Они сидели на мраморной крышке саркофага, а снаружи, в безжалостной тьме двора, кто-то выхаживал взад и вперед по мягкому дерну, насвистывая одну и ту же фразу из Доницетти. Золотые цикады у Жюстин в ушах преосуществили ее в проекцию сна, и он вдруг в самом деле увидел их одетыми в тоги из лунного света. Бальтазар, голосом верующего, отдающего себе отчет в том, что вера его основана на парадоксе, сказал: «Конечно, в каком-то смысле даже проповедовать Слово Божие – грех. Сколь нелепа человеческая логика. По крайней мере, с силами тьмы связывает нас не Слово Божье, а тяга проповедовать его. Вот тем-то и полезен Кружок: здесь не учат ничему, кроме умения Правильно Слушать».
Они подвинулись, освободив ему место с собою рядом, но, прежде чем он успел присоединиться к ним, ось его разума снова сместилась, и перед глазами возникло Иное, тяжко и непреложно, презрев пространственные и временные соответствия, презрев необходимость хоть какой-то мотивации.
Он ясно увидел походный алтарь, воздвигнутый Афродите с Голубями македонской пехотой на пустынном аллювиальном берегу. Они были голодны. Долгий марш довел их до ручки, до предела обострив ожидание смерти, постоянно живущее в душе солдата, – пока чувство это не оделось плотью и не засияло перед их глазами в непереносимой достоверности чуда. Вьючный скот дох от нехватки фуража, люди – от нехватки воды. Они не смели даже остановиться у отравленных родников и колодцев. Дикие ослы нахально бродили на расстоянии выстрела из лука – разве что на десяток локтей дальше, – и они сходили с ума, мечтая о мясе, мясе, которого никто из них и в глаза не увидит, пока колонна медленно тянется меж редких островков растительности вдоль богом проклятого берега. Им приказали идти к городу, не обращая внимания на знамения. Пехота шла нагишом, зная, что это безумие. Оружие ехало следом, на повозках, а повозки вечно отставали. Колонна оставляла за собой кислый запах немытых тел – запах пота и стойла: македонские пращники пердели, как козлы.
Враги были легки и до неприличного элегантны – всадники в белых доспехах, они то собирались у них на дороге в боевом порядке, то снова облаками рассыпались по пустыне. С близкого расстояния были видны их пурпурные плащи, расшитые туники и узкие шелковые шаровары. Они носили золотые цепи на непостижимо смуглого оттенка шеях и браслеты на сросшихся с короткими копьями руках. Они были желанны, как стайка девушек. Их голоса: высокие и свежие. Как непохожи были они на своих, на пращников, на задубелых ветеранов, знающих только, как примерзают зимой сандалии к подошвам ног и как солнце сушит пропитанную потом кожу под ступней, пока она не станет тверже мрамора. Добыча, а вовсе не страсть привела их сюда, и они переносили все тяготы пути с профессиональным стоицизмом наемников. Жизнь уже давно превратилась в бесполую полоску кожи, подбородный ремень, все глубже и глубже врезающийся в плоть – и еще чуть глубже. Солнце высушило их и вылечило ото всех болезней, пыль лишила членораздельной речи. Бравые шлемы с гребнями из перьев, красовавшиеся у них на головах в начале пути, слишком легко накалялись на солнце, чтобы носить их днем. Африка казалась им продолжением Европы – общее море, общее прошлое, – но оказалась совершенно чужой: запретная для смертных страна тьмы, где крики воронов созвучны сухим восклицаниям здешних лишенных душ людей, а короткий, в несколько выдохов смех – верещанию бабуинов.
Иногда они кого-нибудь ловили – одинокого напуганного человека, вышедшего поохотиться на зайцев, – и удивлялись, видя, что он человек, совсем как они сами. Они срывали с него лохмотья и разглядывали вполне человеческие гениталии внимательно, сосредоточенно, непонимающе. Иногда по дороге им попадалось небольшое селение или одиноко стоящая у подножия гор усадьба какого-нибудь местного богача, и тогда они грабили, и на обед им доставались ломтики маринованного в кувшинах дельфиньего мяса (пьяные солдаты, пир в хлеву, меж жующих жвачку волов, гирлянды из крапивы, солдаты пьют из сегодня же добытых золотых и роговых кубков). Все это было еще до пустыни…
На перекрестке дорог они принесли жертву Гераклу (и единым духом зарезали двоих проводников, просто на всякий случай); но с того самого дня все пошло наперекосяк. Втайне они знали: им никогда не дойти до города, не взять его. О боги! Пусть никогда не повторится зимняя стоянка в горах. Отмороженные носы и пальцы! Налеты по ночам! В памяти его памяти до сих пор сохранился скрипучий и одновременно чавкающий звук солдатских сандалий о снег – всю зиму! Враги в тех краях носили на головах лисьи шкуры, эдакие островерхие шапки на разбойничьих рожах, и длинные одежды из шкур, закрывающие ноги. Они атаковали молча и, казалось, срослись, как искривленный здешний кустарник, с глубокими трещинами ущелий и захватывающими дух перевалами великого водораздела.
На марше память становится фабрикой грез, а общие лишения и тяготы сколачивают из грез общие мысли. Он знал, что тот вон отрешенный солдатик думает о розе, найденной в ее постели в день Игр. Идущий с ним рядом никак не может отвязаться от воспоминаний о человеке с рваным ухом. Кособокий софист, коего только нужда заставила пойти в солдаты, во время величайших битв скучал, как ночной горшок на симпосии. А толстый, очень толстый человек, на всю жизнь сохранивший странный запах младенческого тела, шутник, над чьими остротами авангард всю дорогу покатывался со смеху? Он думал о новом египетском средстве для удаления волос, о знаменитых своей мягкостью кроватях с торговой маркой «Геракл», о белых голубях с подрезанными крыльями, порхающих вокруг пиршественного стола. Всю жизнь у дверей борделя его встречали раскатами смеха и бросали в воздух тапочки – ура! Кое-кто думал об удовольствиях не столь общепринятых – о волосах, припорошенных свинцовыми белилами, или о мальчиках, шагающих нагишом, по двое в ряд, на заре в школу Властителя Арф, сквозь падающий снег, густой, как похлебка. На вульгарных сельских Дионисиях несли огромный кожаный фаллос сквозь бурю непристойного хохота, но посвященный брал ритуальную щепоть соли и фаллос, и воцарялось трепетное молчание. Их грезы множились в его душе, и, едва заслышав невнятные их голоса, он открывал своему разуму сокровищницу памяти – жестом по-королевски щедрым, как будто вскрывал вену.
Странное чувство поднялось в нем, когда он, переборов едва не захлестнувшую его приливную волну памяти, сел рядом с теплым телом Жюстин, испещренный пятнами света осенней луны: он ощутил свое физическое тело, вытесняющее тонкую ядовитую материю грез одной лишь силой веса и плотности. Бальтазар подвинулся, уступая ему место, не переставая тихо говорить с его женой. (Они мрачно допили вино и выплеснули остатки себе на доспехи. Командиры только что сказали: им ни за что не пробиться, не выйти к городу.) И вспомнил необычайно ясно, как Жюстин, едва успевшая высвободиться из-под его тела, садилась, скрестив ноги, на кровати и раскладывала старшие арканы Таро, – колода всегда лежала на полке между книгами, – словно пытаясь вычислить вероятную степень счастья, оставшегося им на двоих после этого, последнего погружения в ледяные воды подземного потока страсти, потока, не желавшего подчиняться ей и не утолявшего жажды. («Души, раздираемые зовом плоти, – сказал однажды Бальтазар, – не могут обрести покоя, покуда старость и упадок сил не объяснят им наконец: молчание и тишина им не враждебны».)
Был ли диссонанс, воцарившийся в их судьбах, мерилом страстей, перешедших по наследству от города, от века? «О Господи, – едва не произнес он вслух, – что бы нам не уехать из этого города, Жюстин, поискать иных небес, не затененных призраками потерь и неприкаянности?» Строки старого поэта пришли ему на ум, опустились тяжко, как нога на педаль пианино, и зазвучали, закипели отпущенными на свободу струнами, густым туманом звуков обволакивая хрупкую надежду, едва пробудившуюся было от затяжного сна[75]75
Перевод «Города» есть среди «Рабочих заметок».
[Закрыть].
«Все дело в том, – сказал он еле слышно, сам себе, прикоснувшись ладонью ко лбу, чтобы проверить, нет ли жара, – что женщина, которую я любил, удовлетворяла меня целиком и полностью, не делаясь оттого счастливее либо несчастнее», – он задумался над виденным когда-то сном, странным образом отраженным реальностью. Он бил Жюстин, бил долго и страшно, пока не заболела рука и трость не переломилась пополам. Во сне, конечно. Однако, проснувшись, ощутил в руке боль. Он закатал рукав пижамы – рука распухла. Чему верить, если реальность передразнивает воображение, кривляясь и обезьянничая?
Тогда же, вне всякого сомнения, он понял окончательно: страдание, как и любая болезнь, есть острая форма себялюбия, и учение каббалы пришло подобно свежему ветру, чтобы наполнить паруса его презрения к себе. Он слышал отдаленным эхом блуждающие в памяти города слова Плотина о необходимости не отказываться, но искать; не бегство от непереносимых мук временной обусловленности, но поиск нового света, нового Светлого Града. «Не спешите выйти за порог, это не дорога для ног. Загляните в себя, уйдите в себя и смотрите». И вот здесь-то был бессилен, он знал: никогда и ничего подобного у него не выйдет.
Я вспоминаю события тех дней и не могу не удивляться тому, сколь мало все эти внутренние пертурбации сказывались на полированной поверхности внешних форм его жизни – даже для тех, кто знал его близко. Не к чему было придраться – разве что легкое ощущение пустоты, отсутствия мелкой привычной детали – как если бы знакомый мотив играли где-то вдалеке, чуть изменив тональность. Та же осень дала начало и длинной череде приемов, вопиюще роскошных, – ничего подобного доселе не позволяли себе даже самые богатые семьи города. В особняке теперь никогда не бывало пусто. Огромная кухня, куда мы частенько забирались на ночь глядя, придя с концерта или из театра, чтобы сварить себе пару яиц или вскипятить стакан молока, – пребывавшая в пыли и запустении, – была в одночасье оккупирована полчищами угодливых вороватых поваров в хирургически чистых хламидах и припорошенных мукою колпаках, и гарнизон сей, судя по всему, окопался здесь надолго. Комнаты наверху, высокая лестница, галереи и залы, отзывавшиеся прежде лишь скорбному бою часов, заплетенные паутинками тихого тиканья, перешли отныне во власть круглосуточных патрулей черных слуг, чьи движения были царственны, как величавое скольжение лебедя, несущего под мышкой важный законопроект. Их белоснежное белье, благоухающее портновским утюгом, было безупречно – свободные одеяния подхвачены алым кушаком с золотою пряжкой в форме черепашьей головы: своеобразный личный герб Нессима. Мягкие дельфиньи глаза влажно искрятся из-под обязательных алых цветочных горшков на головах, обезьяньи лапы затянуты белым шелком перчаток. Они были беззвучны, как смерть.
Если бы он не переплюнул – столь явно – величайшие фигуры египетского света роскошью своих приемов, можно было бы заподозрить его в стремлении потягаться с ними в широте вкусов. Стены особняка овевала то прохлада похожих на листья папоротника пассажей струнных квартетов, то раскаленные вихри саксофонов, стенающих в ночи, как обманутые мужья.
Изящные продолговатые приемные покои были дополнены, изрыты бессчетными нишами и уголками для интимных бесед, в самых неожиданных местах; количество сидячих мест едва ли не удвоилось против обычного, и так уже, на мой взгляд, чрезмерного, и порою до двух-трех сотен гостей собиралось на тщательнейшим образом продуманные и совершенно бессмысленные званые обеды – чтобы подивиться на хозяина дома, с головою ушедшего в созерцание лежащей перед ним на пустом блюде розы. Но рассеянность его не вызывала раздражения, потому как если и случалась в общей светской беседе неудобная пауза, он заполнял ее обворожительнейшей из улыбок, и все присутствующие замирали вдруг в изумлении и отрешенности, подобно энтомологу, который машинально поднял перевернутый стакан и обнаружил под ним некое членистоногое чудо, чье научное название безнадежно затерялось в его многотомной памяти.
Что еще добавить? Легкая экстравагантность в одежде едва ли бросалась в глаза, если речь шла о человеке слишком богатом, чтобы носить напропалую старые фланелевые брюки и пальто из твида. Теперь же, в ослепительно-элегантном костюме из искусственного шелка, с широким алым кушаком, он казался именно тем, кем должен был быть всегда, – самым богатым и самым красивым из городских банкиров: этих воистину найденышей судьбы. Люди удовлетворенно перешептывались: наконец-то он стал самим собой. Именно так должен жить человек с его положением и средствами. Одни лишь дипломаты унюхали за неожиданным всплеском расточительности некие подводные токи, скрытые мотивы, может быть, даже заговор против короля и зачастили к нему в гостиную с букетами заученных любезностей. За масками лиц, ленивых или фатоватых, ощутимо тикало любопытство, профессиональный азарт: докопаться во что бы то ни стало до истинных побуждений и скрытых планов хозяина дома – а как же иначе, ведь даже сам Король бывал теперь у Нессима запросто.
Господи, как далеко от настоящего эпицентра бури ходили эти волны! Нечто, задуманное Нессимом, вызревало медленно, как сталактит, и возникшую долгую паузу можно было заполнить чем угодно – расчерчивали бархатное небо искристыми хвостами ракеты, вонзаясь все глубже и глубже в прохладную ночь, где лежали, запертые друг у друга в объятиях и в мыслях, Жюстин и я. В тихом зеркале пруда всплески человеческих лиц, озаренных светом золотых и алых звезд, с шипением взлетевших в небо – как мучимые жаждой лебеди. Из тьмы, с теплой ладонью на моем запястье, я глядел на бьющееся в конвульсиях цветного света осеннее небо, спокойно и просто, как человек, чья обязательная доля незаслуженных страданий уже отмерена и боль растворяется и гаснет, – так покидает она больные члены, чтобы разлиться равномерно, заполнить без остатка все тело, – или мозг. Изящные спирали фейерверков на темном небе вливали в наши жилы ностальгическое чувство единения с необъятной вселенной любви, уже готовой выставить нас за ворота.
Небо в ту ночь по-летнему полыхало зарницами; еще не успел отплясать фейерверк, как захрустела где-то над пустыней, на востоке, черствая корочка грома, струпом разрастаясь в мелодичной ночной тишине. Брызнул легкий дождь, молодой и свежий, и в одно мгновение темнота заполнилась бегущими фигурами людей – назад, под укрытие освещенных изнутри домов; поднятые выше колен платья, и в голосах – прохладный перезвон радости. Фонари снимали отпечатки с обнаженных тел под мокрою насквозь одеждой – мы же, не сговариваясь, нырнули в беседку за сладко пахнущей живой изгородью и легли на резную, из камня скамью в форме лебедя. Болтали и смеялись люди, пробегавшие мимо беседки дальше, к свету; мы покачивались в мягкой колыбели темноты, чувствуя, как покалывают наши лица ласковые иголочки дождя. Люди в смокингах подожгли запалы последних, ненужных уже зарядов, и сквозь ее волосы я увидел, как карабкаются в небо запоздалые бледные кометы. Я попробовал на вкус, с разноцветной круговертью радости перед глазами, теплый отчаянный рывок ее языка, ее рук поверх моих. Сколь несоразмерно было счастье – мы даже не говорили, мы просто глядели друг на друга в темноте, глазами полными непролитых слез.
Из дома долетели сухой хлопок – открыли шампанское – и звуки смеха человеческих существ. «Ни единого вечера вдвоем».
«Что творится с Нессимом?»
«Я уже ничего не понимаю. Когда тебе есть что скрывать, поневоле станешь актером. И всем окружающим тоже придется играть».
Все тот же человек улыбался публике с фасада их семейного благополучия – как и прежде, уверенный в себе, пунктуальный, интеллигентный: внутри же царили хаос и смятение – его больше не было, он исчез. «Мы как-то потеряли друг друга», – сказала она угасающим шепотом и, пододвинувшись ближе, всадила в меня по самую рукоятку здравого смысла долгий поцелуй, как итог всего прожитого нами вместе, – еще с минуту отзвук поцелуя не покидал наших соединившихся тел, затем затих, истаял в непроглядной тьме вокруг – навсегда. И все-таки, лежа с ней рядом, я знал, о чем она думает, при каждом объятии: «Может быть, именно так, с такой болью, даже, наверное, желанной болью, – может быть, именно так я найду дорогу назад к Нессиму». Дикая тоска сдавила вдруг мое сердце.
Позже, бредя сквозь обветшалый туземный квартал, провожаемый штыковыми уколами фонарей и подзатыльниками резких запахов, я безнадежно гадал – как обычно, впрочем, – куда ведет нас время. И, как будто для того, чтобы проверить истинность чувства, вокруг которого мы нагромоздили столько страстей и слов, я завернул в освещенную изнутри будку, украшенную обрывком киноафиши – громадное полулицо героя-любовника, бессмысленное, как брюхо дохлого кита на поверхности моря, – и уселся на стул для клиентов, словно в парикмахерской, в ожидании своей очереди. Из-за грязной занавески, делившей будку на две части, доносились невнятные звуки – казалось, там резвятся неведомые миру существа, не слишком отвратительные, возможно, в своем роде даже интересные, как интересны естественные науки тем, кто оставил всякую надежду развить в себе способность чувствовать. Я, конечно, был уже здорово пьян – отчасти Жюстин, отчасти легким, как воздушный змей, «Поль Роже».