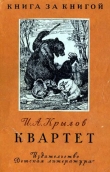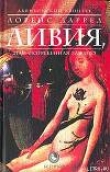Текст книги "Александрийский квартет"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Я как раз вспомнил, весьма кстати, одно замечание Персуордена, оно, пожалуй, могло бы подвести черту под тем, как он видел наших общих друзей. «Александрия! – произнес он (это было во время одной из наших долгих прогулок при луне). – Евреи с их трактирной мистикой! Что, и вы хотите все это выразить словами? Это место, этих людей?» Может статься, в тот самый момент он и замышлял свою злую новеллу, так и эдак примеряясь к нам всем. «Есть сходство между Жюстин и ее городом – у них обеих сильный запах при полном отсутствии какого бы то ни было настоящего характера».
Я припоминаю, как мы бродили вместе той последней (навсегда) весной, пьяные мягким оцепенением, разлитым в воздухе города, тихими пассами воды и лунного света – они полировали город, будто большую шкатулку. Эфирный сомнамбулизм одиноких деревьев на темных площадях и длинные пыльные улицы, протянутые из полуночи в полночь, голубые, как кислород, только еще более голубые. Проплывающие мимо лица становятся все отрешеннее, как драгоценные камни, – булочник замешивает в чане фундамент завтрашней жизни, любовник спешит вернуться домой, гвоздем вколоченный в серебряный шлем смятения, шестифутовые тумбы киноафиш воруют мертвенное великолепие месяца, – а месяц – он брошен на нервы, словно тугой гнутый смычок.
Мы сворачиваем за угол, и мир становится сетью налитых серебром артерий, неровно обрезанной по краям тьмой. В здешнем дальнем закоулке Ком-эль-Дика нет в этот час ни души, и лишь назойливый бродячий полицейский слоняется по улицам, как виноватая мысль в мозговых извилинах города. Наши шаги вызванивают тротуар с мертвой мерностью метронома, двое мужчин, каждый в собственном времени и в собственном городе, отрешенных от мира, шагающих так, как ступали бы первопроходцы по мрачным каналам Луны. Персуорден говорит о книге, которую он всегда хотел написать, а еще – о той преграде, что возникает перед горожанином, стоит ему только встретить произведение искусства.
«Если представить себя спящим городом, к примеру… а, каково? Можно сидеть тихо-тихо и слушать, как течет жизнь, струйками, множеством струек; желание, страсть, воля, познание, вожделение, желание желать. Вот так, словно бежит миллионом ног тысяченожка с телом, не вольным с ними совладать. Просто трупом ложишься, пытаясь этаким Магелланом замкнуть бесконечность в шар. Мы никогда не бываем свободны, мы, писатели. Если бы сейчас рассвело, я говорил бы куда более стройно. Хотел бы я быть музыкален, душой и телом. Мне нужны – стиль, гармония. Не эти тонкие струйки, что сочатся сквозь барабанный бой рассудка. Это ведь болезнь века, разве нет? Потому и плещут вокруг нас тяжелые валы оккультизма. Ну вот, Кружок, Бальтазар. Он никогда не поймет, что ни с кем не нужно быть столь осторожным, как с Богом, ведь Он так властно апеллирует ко всему что ни на есть самому низменному в природе человеческой – к нашему чувству собственной ничтожности, к страху перед неизвестностью, перед неуспехом, и прежде всего – к нашему чудовищному эгоизму, склонному даже в венце мученика видеть атлетический приз. Истинная, сокрытая сущность Бога должна быть свободна от всяких определений: стакан родниковой воды, без вкуса, без запаха, только свежесть; и конечно же, зов ее снизойдет к немногим, очень немногим истинно посвященным».
«Что же до большинства – они все это носят в себе, да только ни за что на свете в том не признаются, не станут копать вглубь. Я не верю в системы, в доктрины, даже лучшие из них способны лишь – и это максимум, на который они способны, – извратить изначальную идею. Да и вообще, все попытки означить Бога словами, идеями… Никакая частность не в состоянии объяснить полноты бытия; хотя полнота бытия время от времени просвечивает именно сквозь частности. Господи, какой же я пьяный. Если Бог захотел бы воплотиться, он стал бы искусством. Скульптурой или медициной. Вот только безумный рост знаний в разнесчастную нашу эпоху вконец отбил у нас природный нюх – нам уже не учуять нужных запахов, не взять след.
Знаешь, если закроешь свет свечи ладонью, на стену падает сетчатая тень кровеносных сосудов, живая карта внутреннего тока крови. И даже этой тишины недостаточно. Никогда там, внутри, не наступает мертвый штиль: никогда не приходит тишина, которой питается Трисмегист. Всю ночь напролет лежишь и слушаешь, как пульсирует кровь в артериях головного мозга. Чресла мышления. И ты послушно забредаешь в ловушки примеров из истории, причин и следствий. И не отдохнуть тебе, не отречься, не глянуть в магический кристалл. Ты ползешь сквозь плоть, сквозь тело, мягко раздвигая перед собой сплетения мышц – мышцы гладкие, мышцы полосатые; следишь глазами кольчатые извивы пламени на внутренностях, брюшная полость, бледные цукаты плоти, корчится в приступе удушья печень, словно засорившийся фильтр, мешок с мочой – пузырь, красный расстегнутый пояс кишечника, мягкий стынущий коридор пищевода, голосовая щель, сочащаяся слизью, мягкая, мягче сумки кенгуру. О чем я? Ты – в поисках принципиальной схемы, ты ищешь синтаксис Воли, чтобы именем его установить раз и навсегда незыблемый порядок и заглушить во рту металлический привкус безысходности. Тебя бросает в холодный пот, стылые порывы паники – когда, сокращаясь снова и расслабляясь, мягко дотрагиваются до тебя занятые своей повседневной работой внутренности, и нет им дела до человека, наблюдающего за ними, и человек этот – ты. Целый город, в постоянном движении, фабрика экскрементов – господи, прости, – ежедневное жертвоприношение. Ведешь человека к алтарю и попутно приглашаешь его в туалет. Как одно с другим соотносится? Где отыскать соответствие? Во тьме под открытым небом у железнодорожного моста ждет женщина, ждет любимого человека, а в крови ее и плоти – все то же неописуемое кишение; плещется вино в невидимых миру сосудах, привратник желудка срыгивает как младенец, непостижимый, иррациональный мир простейших множится в каждой капле семени, слюны, мокроты, мускусом пахнущего пота. Он заключает в объятия спинной хребет, протоки, полные аммиака, сеющие пыльцой оболочки мозга, мерцает роговица в маленьком своем тигле…»
И он смеется вызывающим мальчишеским смехом и откидывает голову назад, пока не взблескивает лунный свет на великолепных белых зубах под аккуратными усиками.
В одну из таких ночей ноги принесли нас к порогу Бальтазара, и, увидев свет в его окне, мы постучали. Той же ночью из трубы допотопного граммофона (с чувством столь сильным, едва ли не с ужасом) я услышал любительскую запись голоса старого поэта, читающего строки, которые начинаются так:
Эти беглые воспоминания ничего не объясняют, ни за что не в ответе: но они возвращаются снова и снова, лишь стоит мне вспомнить о моих друзьях, – как если бы сами наши привычки, оттенки наших голосов были пропитаны тем, что мы чувствовали тогда, затверженными когда-то ролями в давно сыгранных спектаклях. Скольжение шин по желтым валам пустыни под небом голубым и стылым, зимой; или же летом, пугающая сила лунного света обращает море в фосфор – тела отблескивают жестью, раздробленные во прах, в шипящие пузырьки электричества; прогулки к последнему клочку песка возле Монтазы, сквозь плотную зеленую тьму Королевских садов, крадучись, мимо дремлющего на часах солдатика, туда, где море вдруг теряет силу, покалеченное сушей, и соленые валы ковыляют по песчаной отмели. Или – держась за руки, вдоль по длинной галерее, сумеречной в столь ранний час из-за странного желтого зимнего тумана за окнами. Рука ее замерзла и потому скользнула в мой карман. Она сегодня абсолютно бесстрастна, оттого и говорит, что любит меня, – раньше мне этого слышать не доводилось. Сквозь высокие узкие окна внезапно врывается шорох дождя. Темные глаза, спокойные и удивленные. Вселенский центр тьмы подрагивает и меняет очертания. «Я с недавних пор начала бояться Нессима. Он стал другим». Мы стоим перед китайскими акварелями из Лувра. «Значимость пространства», – произносит она неприязненно. Исчезли формы, размыты цвета, канул в небытие хрусталик глаза – лишь зияющий пролом, через который льется в комнату бесконечность; голубой залив, где было прежде тело тигра, изливается в суетливый воздух студии. Потом мы поднимаемся по темной лестнице на самый верх, чтоб повидать Свеву, поставить пластинку и потанцевать. Миниатюрная модель разыгрывает разбитое сердце, потому что Помбаль бросил ее после «ураганного романа» длиною едва ли не в целый месяц.
Мой друг и сам слегка удивлен силой чувства, способного заставить его думать об одной и той же женщине столь бесконечно долгое время. Он порезался во время бритья, и лицо его выглядит гротескно с налепленными на верхнюю губу усами из пластыря. «Это город для буйнопомешанных, – повторяет он со злостью. – Я ведь едва не женился на ней. С ума сойти можно. Слава тебе, господи, в конце концов пелена упала с глаз, на том спасибо. Я просто увидел ее голой перед зеркалом. Такое, знаешь, внезапное чувство неприязни – хотя умом я не мог не признать некоторого даже ренессансного, что ли, величия: обвисшая грудь, восковая кожа, впалый живот и маленькие крестьянские лапки. Я просто приподнял вдруг голову с подушки и сказал себе: “Бог ты мой! Это же просто маленький слоник, тоскующий по слою штукатурки!”»
И теперь вот Свева тихо хлюпает в платочек, рассказывая о тех экстравагантных перспективах, которые рисовал перед нею Помбаль и которым не воплотиться теперь во веки веков. «Весьма странная и небезопасная привязанность для легкого на подъем мужчины» (слышу голос Помбаля, он оправдывается). «Такое было чувство, будто ее холодное убийственное милосердие выгрызло напрочь все мои двигательные центры, парализовало нервную систему. Слава богу, я снова свободен и могу наконец заняться работой».
На работе у него нелады. Слухи о его привычках и общих взглядах на жизнь стали эхом доходить и до консульства. Лежа в постели, он планирует широкомасштабную кампанию, которая обеспечит ему орден и выдвижение на более перспективную должность. «Я пришел к выводу, что я просто обязан получить мой крестик. Я хочу устроить несколько тщательно продуманных вечеринок. Рассчитываю на тебя: мне понадобится парочка потрепанных джентльменов для начала, дабы вызвать в моем боссе отеческие чувства и беспокойство за мой социальный статус. Он, конечно, чистой воды парвеню и выдвинулся за счет состояния жены и того, что мыслит здраво и не прочь вылизать время от времени пару высокопоставленных задниц. Но что печальнее всего – у него выраженный комплекс неполноценности в отношении моего происхождения и родословной. Он еще не решил до конца, стоит ли меня свалить; но уже забрасывал удочки на Кэ д’Орсэ, дабы проверить, насколько сильная у меня там лапа. А с тех пор, как умер мой дядюшка и мой епископ-крестный оказался замешанным в том самом грандиозном скандале вокруг борделя в Реймсе, я, конечно, уже не так уверенно стою на ногах. Надо вызвать в этом скоте покровительственные чувства по отношению ко мне, чтобы ему захотелось утешить меня, вывозить меня в свет. Уф-ф! Для начала убогую вечеринку с одной-единственной знаменитостью. Ну зачем я пошел служить? Почему у меня нет маленького такого, кругленького состояния?»
Я слышал все это сквозь наигранные слезы Свевы и, спускаясь по насквозь продуваемой ветром лестнице, снова держа ее руку в своей, думал не о Свеве и не о Помбале, но о том фрагменте из Арноти, где он пишет о Жюстин: «Похожа на женщин, думающих неким биологическим чутьем, без участия разума. Отдать себя подобной женщине – смертельная ошибка; всего-то навсего легкий чавкающий звук, как будто кошка перекусила мышиный хребетик».
Зеркальная поверхность влажных тротуаров под ногами и воздух, плотный от влаги, которой столь вожделенно ждут деревья в общественных парках, статуи и прочие перелетные птицы. Жюстин уже думает о чем-то совсем другом, медленно, в славном своем шелковом платье и в темной мятой накидке, опустив голову. Она останавливается перед освещенной витриной, и берет меня за руки так, что я оказываюсь лицом к лицу с ней, и глядит мне в глаза. «Я подумываю об отъезде, – произносит она тихим озадаченным тоном. – С Нессимом что-то случилось, и я пока не знаю – что». Затем внезапно слезы выступают у нее на глазах, и она говорит: «В первый раз в жизни мне страшно, и я не знаю – почему».
Часть 3
Пришла весна, наша вторая весна, а с ней пришел хамсин, какого не доводилось мне видеть ни прежде той весны, ни позже. Еще до восхода солнца пустынное небо приобретало коричневатый клеенчатый оттенок, затем постепенно темнело, набухало кровоподтеком, покуда наконец не проступали очертания облака, титанические охряные октавы, стекающие с неба Дельты мощно и неумолимо, словно лава по склону вулкана. Город плотно запирал ставни, как будто перед бурей. Несколько выдохов ветра и редкий холодный дождь – предшественники тьмы, готовой заслонить свет небес. И вот, невидимый во мраке закупоренных комнат, возникает из небытия всепроникающий песок, непостижимым образом являясь в складках запертой в сундуках одежды, в книгах, на картинах и на чайных ложках. В замочных скважинах, под ногтями на руках. Колючий удушливый воздух безнадежно сушит носоглотку, отдает глаза на растерзание бесчисленным конъюнктивитам. Облака сухой крови бродят по улицам, как немые пророчества; песок оседает на поверхности моря, словно пудра на локонах несвежего парика. Засорившиеся ручки, сухие губы – и тонкая светлая ретушь вдоль филенок жалюзи, будто пороша в начале зимы. Призрачные фелюки, скользящие каналом, с командами из упырей с замотанными лицами. Время от времени безумный ветер падает вертикально сверху и закручивает вихревым кружением город, и тогда кажется, что все живущие в нем: деревья, минареты, статуи и люди – попали в гигантский водоворот и дальнейшая их судьба однозначна: они будут втянуты пустыней, из которой поднялись когда-то, чтоб снова вернуться к безличной пластике барханов, кануть в застывшие волны песка…
Не стану отрицать, к этому времени души наши были выжаты до капли, лишь отчаяние, лишь безрассудство, лишь томление духа. Вина всегда стремится к своему пределу, к наказанию: только в наказании она обретает завершенность. Скрытая жажда хоть какого-то искупления заставляла Жюстин даже в безумии поступков давать мне фору; а может, мы оба смутно почувствовали, скованные вместе по рукам и ногам, что только какой-нибудь всеобъемлющий переворот сможет каждому из нас вернуть его обыденный здравый смысл. Дни и ночи полнились знаками и предзнаменованиями, и наше нетерпение питалось ими.
Одноглазый Хамид рассказал мне однажды о таинственном посетителе, велевшем ему повнимательнее приглядывать за хозяином, ибо хозяину грозит великая опасность, исходящая от одного из сильных мира сего. По его описанию, человеком этим вполне мог быть Селим, Нессимов секретарь; но с таким же успехом – и любой другой из 150 000 жителей провинции. Тем временем изменилось и отношение самого Нессима ко мне, трансформировавшись в заботливую до приторности нежность. Обращаясь ко мне, он употреблял теперь непривычные ласковые обороты и любовно брал меня за рукав. По временам он внезапно краснел, говоря со мной; бывало, что у него на глазах выступали слезы, и он отворачивался, чтобы скрыть их. Жюстин взирала на все это с участием, что само по себе производило на меня тягостное впечатление. Мы ранили его, и нас снедали унижение и угрызения совести, но, как следствие, мы становились лишь ближе друг другу – сообщники. Иногда она поговаривала об отъезде, иногда уезжать собирался я. Но ни один из нас был не в состоянии сдвинуться с места. Мы принужденно ждали развязки с безнадежностью и безразличием – жуткое чувство.
Несмотря на явственные сигналы опасности, мы не стали безумствовать меньше: скорее наоборот. Кошмарное чувство неотвратимости конца воцарилось над нашими поступками – и опасная бездумность. Мы даже (вот потому-то я и понял, что окончательно потерял голову) не надеялись избежать того, что ожидало нас, каких бы петель и ловчих ям ни приберегла для нас судьба. Единственное, чего мы опасались, – лишь бы нам не пришлось пережить грядущие катаклизмы порознь, лишь бы они нас не разлучили! Перед лицом неприкрытых соблазнов мученичества я понял, что наша любовь обернулась не лучшей своей стороной, самой пустой, самой ущербной. «Какой я, наверно, кажусь тебе мерзкой, – сказала однажды Жюстин, – со всей моей непристойной кучей пожирающих друг друга идей: болезненная сосредоточенность на Боге и полная неспособность подчинить себя элементарнейшим моральным нормам, от меня же, изнутри исходящим, вроде необходимости быть верной мужчине, если уж ты его обожаешь. Меня в дрожь бросает, так я за себя боюсь, просто бросает в дрожь. Я же классическая истеричная еврейка, клинический случай для учебника по невропатологии, куда мне деваться… Если бы я только могла счистить ее с себя, как кожуру с яблока».
В то время, когда Мелисса была в Палестине – она проходила там курс лечения (деньги, чтобы отправить ее туда, я занял у Жюстин), – мы несколько раз едва не влипли. Так, например, однажды мы, Жюстин и я, были у них дома, в большой спальне. Мы только что приехали с пляжа и приняли холодный душ, чтобы смыть с кожи соль. Жюстин сидела на кровати, нагая под купальным полотенцем: она устроила из него некое подобие хитона. Нессим был в Каире, он должен был выступить в радиопередаче, посвященной какой-то благотворительной акции. За окном кивали пыльными ветвями деревья, и сквозь них доносился время от времени отзвук транспортной суеты с Рю Фуад.
Тихий голос Нессима тек из маленького черного радиоприемника, стоявшего подле кровати, обращенный стараниями микрофона в голос малознакомого, прежде времени состарившегося мужчины. Пустые, бессмысленные фразы висли в воздухе, в нашем молчании, пока вся комната не пропиталась запахом банальности. Но голос был красив, голос человека, ценою долгого кропотливого труда избавившего себя от всякого намека на чувства. За спиной Жюстин была открытая дверь в ванную. В дверной проем видна была сквозь стерильной чистоты стекло еще одна дверь, выходящая на пожарную лестницу, – дом был выстроен вокруг двора-колодца так, чтобы все его кухни и ванные комнаты могли быть соединены между собой паутиной металлических лестниц наподобие той, что облепляет стены машинных отделений океанских кораблей. Внезапно, пока голос еще звучал и пока мы внимали ему, лучиком света в комнату проник дробот легких шагов по железным ступенькам за дверью, ведущей в ванную: сомнений быть не могло, по лестнице поднимался Нессим – или любой другой из 150 000 жителей провинции. Взглянув через плечо Жюстин, я увидел, как показались в матовой стеклянной панели наружной двери голова и плечи высокого стройного мужчины в мягкой фетровой шляпе, низко надвинутой на глаза. Он проявился из тьмы, как снимок в кювете фотографа. Фигура помедлила, задержав руку на дверной ручке. Жюстин, заметившая направление моего взгляда, обернулась. Она обняла меня голой рукою за плечи, и вдруг нас окутало облако абсолютного спокойствия, в основании которого, словно бьющееся сердце, трепетало лихорадочно бесплодное сексуальное возбуждение: мы сидели и смотрели на застывшую между двумя мирами темную фигуру, словно прорисованную на рентгеновском экране. Он застал бы нас неестественно застывшими, как перед фотокамерой в ожидании вспышки, с выражением не вины, нет, но невинного облегчения на лицах.
Невообразимо долго человек за дверью стоял без движения, как будто в глубоком раздумье, может быть, он просто прислушивался. Затем он качнул головой, один раз, неторопливо; еще секундой позже он повернулся с видом смущенным и растерянным и медленно стек со стекла. Уходя, он, как мне показалось, сунул что-то в правый карман плаща. Мы выслушали медленно утихающий звук шагов по железной лестнице в колодце – унылая гамма, все ниже, ниже и ниже. Не произнеся ни слова, мы с томительным вниманием обернулись к маленькому черному радиоприемнику, из которого все так же ровно лился мягкий, интеллигентный голос Нессима. То, что он мог одновременно находиться в двух разных местах, казалось сверхъестественным. И только когда диктор проинформировал нас, что речь его передавалась в записи, до нас дошло. Почему он не открыл дверь?
Вероятнее всего, он просто был охвачен той головокружительной нерешительностью, которая у натур миролюбивых непременно следует за побуждением к действию. Некая субстанция накапливалась в нем все это время, зернышко к зернышку, покуда вес возведенных насыпей не стал невыносимым. Он осознал происшедший в нем глубокий внутренний слом, где-то в самом центре, в фундаменте души, которая наконец стряхнула с себя затянувшийся паралич лишенной силы и воли любви, доселе руководившей всеми его поступками. Мысль о простом законченном действии, о четком векторе воли, к добру ли, ко злу, предстала перед ним с опьяняющей новизной. Он почувствовал себя (или мне так показалось) азартным игроком, готовым поставить скудные остатки промотанного состояния на один отчаянный бросок костей. Но решимость его еще не обрела формы. По которой из дорог сделать первый шаг? Коловращение фантастических видений, беспокойные сны.
Позволю себе предположить, что в самой этой решимости слились воедино два основных потока: с одной стороны, досье, собранное его агентами на Жюстин, достигло таких объемов, что игнорировать его и дальше было бы просто немыслимо; с другой стороны, его преследовала неожиданно выросшая в опасное и злобное существо мысль: Жюстин наконец-то готова влюбиться по-настоящему. Казалось, меняется сама дозировка основных компонентов ее личности; впервые в жизни он видел ее задумчивой, рассудительной и переполненной отголосками нежности, какими женщина всегда может позволить себе оделить мужчину, уже нелюбимого. Видите ли, он ведь тоже вынюхивал ее следы на страницах Арноти.
«Сначала я думал: надо дать ей шанс пробиться ко мне сквозь чащобу Проклятия. Когда бы ни настигала меня жалящая мысль об ее изменах, я говорил себе – она не охотница до наслаждений, она ищет боли, чтобы найти себя – и меня. Я считал, что, если какой-нибудь мужчина окажется в состоянии освободить ее от себя самой, она станет доступной для каждого, а уж у меня-то прав на нее больше, чем у кого бы то ни было. Но вот я увидел, как она медленно оттаивает, подобно заснеженным верхушкам гор летом, и страшная мысль посетила меня: тот, кто снимет с нее Проклятие, тот и останется с ней навсегда, ибо даст ей покой, которого она так неистово ищет, продираясь сквозь наши тела и судьбы. В первый раз мной овладела ревность, и не без помощи страха». Так он мог бы описать свои чувства.
Но мне всегда казалось невероятным то обстоятельство, что даже и теперь он ревновал ее к кому угодно, только не к истинному предмету интереса Жюстин – не ко мне. Невзирая на все более и более веские доказательства, он едва ли осмеливался заподозрить меня. Нет, не любовь слепа, но ревность. Сколько еще времени утекло, прежде чем он заставил себя поверить бесчисленным свидетельствам, нагроможденным его агентами вокруг нас, вокруг наших встреч, наших жестов и реплик. Но зато уж теперь факты столь ясно говорили сами за себя: ошибки быть не могло. Возникла проблема: как от меня избавиться – ведь речь идет не только и не столько о моей бренной плоти. Ибо я стал всего лишь неким бесплотным образом, застившим ему свет, стоявшим на его дороге. Я мог умереть, мог уехать. Он еще не решил. Эта неопределенность пьянила его. Конечно, я всего лишь предполагаю, реконструирую.
Были и другие проблемы – оставшиеся в наследство от Арноти, так и не сумевшего их решить; с чисто восточным любопытством Нессим подхватил их и не упускал из виду все эти годы. Он уже почти добрался до человека с черной повязкой на глазу, близко, никто из нас не подходил к нему ближе. Вот и еще одна забота для знающего слишком много – как развязать этот узел? Если Жюстин и в самом деле постепенно освобождается от его власти, что толку мстить живому телу таинственного обитателя ее подкорки? Да, но если я вдруг займу вакантное место, что тогда?..
Я спросил Селима прямо, не заезжал ли он ко мне домой, чтобы предупредить одноглазого Хамида. Вместо ответа он опустил голову и произнес еле слышно: «Мой хозяин сам не свой последнее время».
Между тем мои собственные обстоятельства приняли вдруг нелепый и неожиданный оборот. Как-то ночью раздался оглушительный стук в дверь, я открыл, и в комнату мою вошел щеголеватый египетский армейский офицер в сияющих сапогах и роскошной феске, под мышкой у него была гигантская мухобойка с рукоятью из черного дерева. Звали его Юсуф-бей, по-английски он говорил почти безупречно, небрежно роняя уголком рта за словом тщательно подобранное слово, у него были открытое угольно-черное лицо и ослепительно-белые ровные зубы, как две нитки отборного мелкого жемчуга. В него невозможно было не влюбляться с первого взгляда, как в говорящий арбуз, прямым пароходом из Кембриджа. Хамид принес ему обязательный кофе с липким ликером, и, поверх кофейной чашечки, он сообщил мне, что один мой большой друг, занимающий весьма высокопоставленную позицию, очень желал бы встречи со мной. Я сразу подумал о Нессиме; но этот мой друг, авторитетно заявил арбуз, англичанин и – официальное лицо. Большего сказать он не имеет права. Его миссия носит конфиденциальный характер. Не хочу ли я проехать с ним, дабы навестить моего друга?
Я полон был дурных предчувствий. Александрия, столь добродушная с фасада, в действительности не самое безопасное место для христианина. Только лишь на прошлой неделе Помбаль явился домой с историей о шведском вице-консуле, чья машина сломалась на Матругском шоссе. Он оставил в автомобиле жену, одну, чтобы дойти до ближайшей телефонной будки, позвонить в консульство и попросить их прислать другую машину. Когда он вернулся, ее тело сидело, как и положено, на заднем сиденье – без головы. Вызвали полицию, прочесали всю округу. Среди прочих решили допросить и бедуинов из лагеря неподалеку. Пока они старательно отрицали всякую свою причастность и уверяли, что даже слыхом ни о чем подобном не слыхали, недостающая голова выкатилась из передника одной из их женщин. Они позарились на золотые зубы, столь откровенно портившие ее официальную улыбку. Подобные происшествия были не такой уж редкостью, чтобы вдохновить нормального человека на визит в незнакомый квартал после захода солнца, так что я без особого воодушевления проследовал за офицером к служебной машине, устроился на заднем сиденье за спиной одетого в униформу шофера и принялся наблюдать в окошко, как меня увозят в сторону самых злачных районов города. Юсуф-бей поглаживал тоненькие нитяные усики с предупредительным видом музыканта, настраивающего инструмент. Задавать вопросы было бессмысленно: у меня не было никакого желания обнаруживать свои страхи. Так что я сдался в душе на милость победителя, прикурил сигарету и уставился на бегущую мимо длинную размытую полоску Корниш.
Но вот машина высадила нас, и Юсуф-бей повел меня пешком через заверть маленьких улочек и переулков неподалеку от Рю де Сёр. Если они хотели, чтобы я окончательно отчаялся вернуться сегодня домой хотя бы живым, они своего добились почти сразу. Юсуф-бей шагал впереди легкой, уверенной походкой, тихо мурлыча себе под нос. В конце концов мы вышли из теснин на просторы какой-то окраинной улицы, сплошь застроенной торговыми складами, и остановились перед массивной резной дверью; он сперва позвонил, а затем распахнул ее настежь. Внутренний дворик с чахлой пальмой посередине; пересекавшая его дорожка была освещена парой тусклых фонарей с засыпанными гравием основаниями. Мы миновали двор и поднялись по лестнице туда, где замороженная груша электрической лампочки бесстрастно освещала высокую белую дверь. Он постучал, вошел и отдал честь – одним движением. Я шагнул следом и попал в большую, достаточно элегантно обставленную, залитую теплым светом комнату с отполированным до блеска полом, украшенным вдобавок чудесными арабскими коврами. В дальнем углу, угнездившись за высоким инкрустированным столом, с видом гнома, едущего верхом на грошике, восседал Скоби, и на лице его чопорность знающего себе цену государственного мужа боролась с ласковой улыбкой. «Господи!» – выдохнул я. Старый пират издал смешок в духе Друри Лейн и сказал: «Наконец-то, старина, наконец-то!» – но с места не встал, словно стараясь получше освоиться на неудобном стуле с высокой спинкой: феска на голове, мухобойка на коленях, общий вид слегка потертый, но впечатляющий. Я заметил, что на погонах у него прибавилось по звездочке, знаменуя бог весть какой скачок в силе и славе. «Садись, старина», – произнес он, сделав нелепый, смутно похожий на манеру жестикуляции времен Второй империи, жест рукой, как будто отпилил кусочек воздуха. Юсуф-бей был отослан и, ухмыляясь, удалился. Мне показалось, что Скоби не слишком-то уютно чувствует себя в столь шикарной оправе. У него был вид человека, готового в любой момент встать в оборонительную позу. «Я попросил их взять тебя, – сказал он, понизив голос до театрального шепота, – имея на то чрезвычайно веские причины». На столе у него покоились несколько зеленых папок и стеганый чехольчик для чайника – у этого последнего вид был до странности развоплощенный. Я сел.
Он быстро встал и открыл дверь. Снаружи никого не было. Он отворил окно. На карнизе тоже никого не оказалось. Он накрыл чехольчиком телефонный аппарат и снова сел на место. Затем, наклонившись вперед и уставясь на меня стеклянным глазом, он сказал с мрачной миной профессионального заговорщика, тщательно подбирая слова: «Только никому ни слова, старина. Поклянись, что не скажешь никому ни единого слова». Я поклялся. «Они сделали меня главой Секретной службы». Страшная фраза по капле стекла сквозь его искусственную челюсть. Я удивленно кивнул. Он глубоко, едва не всхлипнув, вдохнул, словно скинув с плеч некое бремя, и продолжил: «Старик, война уже не за горами. Информация для служебного пользования». Он приставил к виску длинный указательный палец. «Вот тут-то и начнется заваруха. Враг работает день и ночь, старина, прямо среди нас». Не согласиться с этим было невозможно. Все, на что я был годен теперь, – так это дивиться на нового Скоби, сидевшего передо мной, этакой картинкой из бульварного журнала. «Ты можешь помочь нам пустить их на дно, старина, – продолжал с непрошибаемой серьезностью чревовещать Скоби. – Мы хотим взять тебя в штат». Это звучало куда более дельно. Я стал ждать подробностей. «Самая опасная шайка окопалась именно здесь, в Александрии, – старина Скоби скрежетал и завывал уже во весь голос, – и ты оказался в самой середке. Все они – твои друзья».