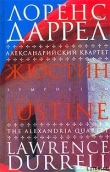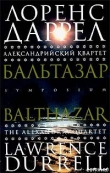Текст книги "Александрийский квартет"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Я уже собрался было уходить, но спящий проснулся и снова схватил меня за руку. «Не уходите, – произнес он голосом сильно надтреснутым, но вполне ясным – складывалось такое впечатление, что он слышал конец нашего разговора. – Останьтесь еще ненадолго. Я тут о многом успел подумать и хочу вам кое-что показать». Повернувшись к сиделке, он сказал тихо, но очень отчетливо: «Выйдите отсюда!» Она разгладила постель и снова оставила нас вдвоем. Он глубоко вздохнул, и, если бы я не следил за его лицом, вздох этот показался бы мне вздохом счастливого облегчения. «В шкафу, – сказал он, – вы найдете мои вещи». В шкафу висели два темных костюма. Следуя его указаниям, я снял с плечиков один из жилетов и копался в его кармашках до тех пор, пока пальцы мои не отыскали два кольца. «Я решил предложить Мелиссе выйти за меня замуж теперь, если она захочет. Поэтому я за ней и послал. В конце концов, что от меня проку? Мое имя?» Он едва заметно улыбнулся потолку. «А кольца, – он осторожно, почти благоговейно держал их кончиками пальцев, словно облатку на первом причастии, – эти кольца она сама выбрала, уже давно. Теперь они должны принадлежать ей. Может быть…» Он посмотрел на меня долгим ищущим взглядом, и в этом взгляде была боль. «Нет, конечно, – сказал он наконец. – Вы-то на ней не женитесь. Зачем это вам? Неважно. Возьмите их, для нее, и шубу тоже».
Я опустил кольца в мелкий нагрудный карман пальто и ничего не сказал. Он снова вздохнул и, к моему удивлению, пропел тоненьким тенорком сказочного гнома, приглушенным почти до пределов слышимости, несколько тактов популярной песенки, по которой некоторое время назад сходила с ума вся Александрия, Jamais de la vie, – Мелисса все еще танцевала под эту мелодию в клубе. «Послушайте, какая музыка», – сказал он, и я вдруг вспомнил умирающего Антония из стихотворения Кавафиса – стихотворения, которого он никогда не читал и никогда не прочтет. В гавани как-то вдруг заревели сирены, словно планеты, мучимые болью. И снова я услышал, как этот гном поет о chargrin и bonheur, и пел он не для Мелиссы, а для Ребекки. Как непохоже на душераздирающие звуки того оркестра, к которому прислушивался Антоний, – мучительное великолепие голосов струн и человеческих голосов, текущих по темной улице, – последнее «прости», Александрия дарит им тех, на ком ставит свои эксперименты. Каждый человек уходит под свою музыку, подумал я и вспомнил, со стыдом и болью, неуклюжие движения танцующей Мелиссы.
Течение уже отнесло его к той тонкой линии, за которой – только сон, и я решил, что пора идти. Я взял шубу и засунул ее в нижний ящик шкафа, а потом на цыпочках вышел из палаты и вызвал сиделку. «Так поздно уже», – сказала она.
«Я приду утром», – сказал я. Я действительно собрался прийти.
Я шел по темному тоннелю из густолистых деревьев, пробуя на вкус растрепанный ветер из гавани, и вспоминал Жюстин, которая, лежа в постели, однажды бросила мне резко: «Мы друг для друга – топоры, чтобы рубить под корень тех, кого по-настоящему любим».
* * * * *
Нас часто ставили в известность, что истории нет дела до частностей, тем не менее мы все же склонны и скупость ее, и расточительность принимать как результат заранее обдуманных намерений; мы никогда не вслушиваемся по-настоящему…
И вот он, этот темный полуостров, похожий по форме на лист платана, пальцы расставлены (зимний дождь хрустит на камнях, как солома), я иду, и волны, жадно жующие набитыми ртами скрипкие губки, туго укутывают меня ветром, структура готова, осталось одеть ее смыслом.
Все формы сознания обусловлены историей, и я просто обязан воспринимать ландшафт как поле деятельности человеческой воли – распластанный на хутора и деревни, распаханный городами. Ландшафт, меченный росчерками людей и эпох. Но теперь я все-таки мало-помалу начинаю понимать, что воля наследует пейзажу; что мебель человеческой воли зависит от местоположения человека в пространстве, от того, родился он среди возделанных полей или в жестокой до садизма чаще леса. И то, что я наблюдаю, вовсе не есть воздействие свободной человеческой воли на неподатливую материю природы (как мне казалось раньше), но неудержимый процесс прорастания сквозь человека бесконечно разнообразных и жестоких, слепых и невыразимых словами догматов этой самой природы. Для опытов своих она выбрала сей бедный разлапистый клочок земли. Как бессмысленны в таком случае слова и дела любого человека, вроде слов Бальтазара, услышанных мною однажды: «Миссия Кружка, ежели таковая у него имеется, состоит в том, чтобы облагородить все функциональное до такой степени, чтобы даже еда и дефекация поднялись до высот искусства». Как не распознать здесь цветка чистой воды скептицизма, скрытого под гумусом воли к жизни? И только любовь способна здесь хоть как-то поддержать…
Не те же ли самые мысли кружили в голове Арноти, когда он писал: «Для писателя человек как психологический феномен более не существует. Подобно мыльному пузырю, лопнула современная душа под пристальными взглядами мистагогов. Вот ты писатель – и что тебе осталось?»
Может быть, я и выбрал сие пустынное место, чтобы прожить следующие несколько лет, именно потому, что понял это: выжженный солнцем мыс на Кикладах. Омываемый со всех сторон историей, этот остров – единственный свободный ото всяческих отсылок. Ни разу он не упоминался в анналах расы, его населяющей. Его историческое прошлое оплачено не временем, но местом – никаких храмов, священных рощ, амфитеатров, никаких порочных от рождения идей, расцвеченных фальшивыми уподоблениями. Разноцветные лодчонки на берегу, как на полке, гавань за горами и маленький город, обездоленный всемирной неизвестностью. И все. Раз в месяц сюда заходит пароходик, следующий на Смирну.
Зимними вечерами морские грозы карабкаются по утесам и заполняют собой небольшую рощу огромных неухоженных платанов, где я обычно гуляю; они рычат и шепчут на странном диком диалекте, перебирая и расплескивая гигантские ветви.
Здесь я брожу, просматривая за разом раз дорогие мне воспоминания, их некому со мной делить: но лишить меня этой роскоши не в силах даже время. Волосы мои прилипли к скальпу, одной рукой я прикрываю от ветра догорающую трубку. Надо мной – ночное небо, бриллиантовые соты звезд. Медленно оплывает Антарес, по каплям сквозь звездную пыль… Все, что я оставил позади с легким сердцем: послушные книги и друзья, освещенные комнаты, камины, сложенные, чтобы сидеть возле них и беседовать, – все привилегии цивилизации – не вызывает у меня тоски, только удивление.
В самом этом выборе, и в нем тоже, я вижу некий элемент случайности; и происходит он от импульсов, которые, как мне, должно быть, придется признать, рождены вне плавной амплитуды моей души. И все же, как ни странно, только здесь я наконец обрел способность опять войти, опять поселиться в этом не похороненном песками городе, вместе с моими друзьями; оплести их тяжелой стальной паутиной метафор, которым, может быть, суждено прожить половину срока жизни Города, – а может быть, я просто хочу в это верить. Отсюда я по крайней мере могу смотреть на их истории и на историю Города как на нечто единое.
Но самое странное: счастьем этим я обязан Персуордену – вот уж о ком бы никогда не подумал как о потенциальном благодетеле. Наша последняя, к примеру, встреча в уродливом и дорогом гостиничном номере, куда он переезжал всякий раз по возвращении Помбаля из отпуска… Я не узнал в ее тяжелом, затхлом воздухе запаха близкого самоубийства – с чего бы? Я знал, что он несчастлив; да если бы он и не был таковым, то стал бы несчастливость симулировать из чистого чувства долга. В наши дни художник просто не имеет права не взрастить в себе маленькой личной трагедии – это не в моде. А поскольку он был англосакс, то не обошлось и без малой толики сентиментальной жалости к себе любимому, эта простительная слабость и заставляла его время от времени надираться. В тот вечер он был просто невыносим, то туп, то остроумен попеременно; я помню, что подумал, слушая его: «Вот человек, который, возделывая свой талант, пренебрег культивацией чувств, и не по случайному совпадению, а обдуманно, ибо, займись он самовыражением, и это могло бы привести к конфликту с миром: или же одиночество поставило бы под угрозу его здравый смысл. Он не смог пожертвовать пропуском, еще при жизни, в бальные залы признания и славы. А внутри, за всеми этими ширмами, шла постоянная борьба с почти непереносимым ощущением: его ум просто-напросто труслив. И вот сейчас его карьера достигла интересной точки: красивые женщины – а он, как и положено застенчивому провинциалу, всегда считал их чем-то для себя недосягаемым – просто на седьмом небе от счастья, если их видят с ним под руку. В его присутствии на лицах у них появляется слегка рассеянное выражение – как у муз, страдающих запором. Им льстит, если он прилюдно задержит руку в перчатке чуть дольше, чем следует. На первых порах это должно было лить бальзам на тщеславие одинокого мужчины; но в конце концов привело лишь к обострению неуверенности в себе. Свобода, завоеванная скромным финансовым успехом, начала угнетать его. Он стал все сильнее и сильнее тосковать по истинному величию, а его имя между тем день ото дня вздымалось все выше и выше, как безвкусная реклама. Он понял, что люди прогуливаются по улице под ручку с Репутацией, а не с человеком. Его самого они больше не замечают – а ведь все его книги были написаны с единственной целью: привлечь внимание к одинокому страдальцу, коим он себя считал. Имя прихлопнуло его, как надгробный камень. И тут вдруг случается кошмарная мысль – а может, уже и некого замечать? Кто он, в конце концов, такой?»
Естественно, эти мысли не делают мне чести, ибо выдают зависть, обычную зависть неудачника к тому, кто добился успеха; но у злости зрение не хуже, чему у милосердия. И к тому же, пока суд да дело, где-то по боковой ветке моего сознания все бегал и бегал паровозик слов, сказанных о нем как-то раз Клеа, – почему-то я их запомнил и иногда даже думал над ними: «Есть в нем что-то отталкивающее. Отчасти из-за этой его неуклюжести. Если его талант высушить, останется вирус застенчивости. У застенчивости есть такой закон: ты можешь только отдавать себя, трагически, тем, кто менее всего способен тебя понять. Потому как ежели поймут, не дай бог, придется принимать жалость к собственной слабости. И в результате – те женщины, в которых он влюблен, та проза, которую он посвящает женщинам, в которых влюблен, становятся в его голове лишь намеками на женщин, которых он, как ему кажется, действительно хочет или по крайней мере заслуживает – cher ami!» Клеа всегда обрывает фразы на полуслове и завершает их волшебной, полной нежности улыбкой – «сторож ли я брату моему?»
(Что мне прежде всего следует делать, так это записывать собственные переживания, и не в том порядке, в котором они имели место, – это область истории, – но в том порядке, в котором они приобрели для меня значимость.)
Что же в таком случае подвигло его завещать мне эти пятьсот фунтов, с единственным условием, что деньги должны быть потрачены вместе с Мелиссой? Раньше я думал, что он сам мог быть в нее влюблен, но после глубоких раздумий пришел к выводу, что любил он не ее, а мою к ней любовь. Из всех моих качеств он завидовал одному-единственному – умению с готовностью откликаться на ласку, значимость которой была для него неоспорима. Он, может быть, даже и сам мечтал о женской ласке, но всегда был отлучен от нее привычным к самому себе презрением. Это в общем-то был удар по моему самолюбию: я, конечно, хотел бы, чтобы он оценил если и не сделанное мной – то хотя бы надежды, которые я подавал. Сколь глупы мы, сколь ограниченны – ходячие сгустки тщеславия!
Мы не виделись несколько недель, да обычно и не баловали друг друга вниманием, и встретились в маленьком жестяном общественном нужнике на главной площади, возле трамвайной остановки. Было уже темно, и мы бы ни за что друг друга не узнали, если бы фары проезжавшей мимо машины походя не обрызгали светом стены сего зловонного узилища. «Ага!» – сказал он, узнав меня; задумчиво и нетвердо, потому что был пьян. (Чуть раньше, за несколько недель до этой встречи, он оставил мне по завещанию пятьсот фунтов; в каком-то смысле он оценил меня взглядом знатока – хотя этой его оценке предстояло достать меня уже из-за гробовой доски.)
Дождь стучал по жестяной крыше над нашими головами. Я мечтал поскорее оказаться дома, у меня был очень тяжелый день, но я малодушно мешкал, обуреваемый изнурительной заискивающей вежливостью, обычное дело при встрече с людьми, которых я недолюбливаю. Его смутно темневший во мраке силуэт тихо покачивался передо мной. «Позвольте мне, – произнес он мелодраматическим тоном, – посвятить вас в секрет моей профессии. Я, знаете ли, романист. Есть проблема – у меня получается, а у вас – нет. А вот, старина, и ответ на загадку – секс и его количество». При слове «секс» он поднял подбородок, и голос его зазвучал громче, почти как у декламатора; он вытянул узловатую шею, словно цыпленок, глотающий шарик воды, и, слегка даже взвизгнув, откусил это слово вместе с кусочком воздуха, как сержант в учебке. «Путы распутства, – подтвердил он, но уже не столь эксцентрично, – но помните, – и голос его съехал чуть ли не на доверительный шепот, – оставайтесь застегнутым наглухо. Вселенская бабулька сильна спасать. Вам должно оставаться наглухо застегнутым и страдать. Попробуйте, и вам придется выглядеть так, словно у вас сужение мочеиспускательного канала, о будущий избранник общества книголюбов. Что абсолютно непозволительно: зверское здоровье, сквернословие, все естественное и все смешное. Это можно было Чосеру и елизаветинцам, но сейчас на эту горку не взъедешь – застегнутый наглухо на все дубовые пресвитерианские пуговицы». И, не прекращая стряхивать, он обернул ко мне лицо, долженствующее изображать пуговицу от штанов, – непроницаемое, постное, гротескно перекошенное. Я поблагодарил его, но он царственным жестом отмахнулся от изъявлений благодарности. «Оплате не подлежит», – сказал он и, взяв меня под руку, вывел на темную улицу. Мы побрели к освещенному центру города, как два раба в одной колодке, товарищи по перу, отягощенные сознанием столь несхожих горестей. Он тихо общался сам с собой на какую-то ему одному интересную тему, и я ни слова не мог в его бормотании разобрать. Один раз, когда мы свернули на Рю де Сёр, он остановился перед ярко освещенной дверью публичного дома и провозгласил: «Бодлер называет совокупление лирикой толпы. Весьма сожалею, но это уже не так! Потому что секс умирает. В следующем столетии мы будем лежать, засунув языки друг другу в рот, молчаливые и бесстрастные, как морские огурцы. Да-да! Это просто обалдеть, как верно». И он процитировал арабскую пословицу, которая послужила эпиграфом к его трилогии: «Мир похож на огурец – сегодня он у тебя в руке, а завтра – в заднице». Затем мы возобновили наше прерывистое крабообразное движение по направлению к его гостинице, и всю дорогу он повторял слово «о-бал-деть», с видимым удовольствием от производимого мягкого взрывного звука.
Он был небрит и измотан, но прогулка привела его в сравнительно хорошее расположение духа, и следующим номером нашей программы стала хранившаяся у него в комоде возле кровати бутылка джина. Я обратил внимание на два туго набитых чемодана, явно свежеупакованные, притулившиеся к туалетному столику; на стуле лежал плащ, набитый газетами, пижамами, тюбиками зубной пасты и тому подобным. Он едет ночным поездом в Газу, сказал он. Он хочет расслабиться и отдать визит Петре [65]65
На развалинах древней Петры происходит действие «Свидания со смертью», одного из самых известных романов Агаты Кристи.
[Закрыть]. Гранки своего последнего романа он уже выправил, упаковал и надписал адрес. Они мертвым грузом лежали на верхней мраморной доске туалетного столика. В его трезвом и удрученном взгляде на сверток я узнал то чувство истощения, которое преследует художника, сбросившего с плеч добрый кусок работы. Не самые счастливые минуты, и именно в это время долгий флирт с идеей самоубийства порою обретает свежий смысл.
К несчастью, хоть я и обшарил все закоулки памяти, я почти ничего не помню из нашего тогдашнего разговора, хотя, повторяю, уже много раз пытался его восстановить. Мы виделись в последний раз – что же удивительного в том, что я склонен приписывать всему сказанному тогда особую значимость, которой наверняка там и близко не было. К тому же Персуорден вовсе и не думал исчезать в качестве литературной сущности; он просто шагнул в амальгаму зеркала, как и всем нам должно – чтобы уйти от наших болезней или от злодеяний, от осиных гнезд наших желаний, все еще способных порождать добро и зло в реальном мире: то есть в памяти наших друзей. И все же в присутствии смерти всегда видишь вещи несколько иначе – для того она и существует, чтобы помочь нам оценить свежий вкус времени. Однако в тот момент мы находились в точках, равноудаленных от смерти, – по крайней мере, мне так кажется сейчас. Может статься, в нем уже и тогда распустился цветок некоего тайного умысла – неважно. Откуда мне знать. Разве есть хоть капля тайны в том, что художник хочет покончить счеты с жизнью, которую он уже сносил (персонаж в его последней книге восклицает: «Годами тебе приходится мириться с тем, что людям, в сущности, нет до тебя дела; и вот в один прекрасный день в тебе прорастает тревога, и ты понимаешь, что тот, которому нет дела, – не кто иной, как Бог: и ему не просто нет дела до тебя, но не существует вообще ничего, до чего ему было бы дело»).
Стоп, эта реплика в сторону напомнила мне маленький кусочек тогдашней нашей пьяной беседы. Он говорил о Бальтазаре насмешливо, говорил о его религиозных изысканиях, о Кружке (о котором знал понаслышке), я слушал его не перебивая, и постепенно голос его затих, как хронометр, задавленный весом секунд. Он встал, плеснул себе еще и сказал: «Нужно быть потрясающим невеждой, чтобы соваться к Богу. Мне кажется, я всегда знал слишком много».
Тот самый тип воспоминаний, что дразнит пробуждающийся ум в такие вечера, как нынешний, пока я бреду сквозь зимнюю тьму; потом поворачиваю наконец назад, туда, где на оливковых поленьях в старомодном сводчатом камине потрескивает огонь и где спит Жюстин в своей колыбели из сладко пахнущей сосны.
Что я знал о нем наверняка? Я отдаю себе отчет в том, что каждый человек может претендовать не более чем на одну из сторон нашего характера как на часть своего личного знания. К каждому мы поворачиваемся иной гранью призмы. Снова и снова я ловлю себя на том, что удивляюсь чужим наблюдениям, приведшим меня к этой мысли. К примеру, когда Жюстин назвала Помбаля – «один из великих хищников секса». Мне же мой друг никогда не казался существом плотоядным; хотя, конечно, порой он до смешного доходил, потакая собственным прихотям, не отрицаю. Я находил его забавным и милым, с эдаким трогательным оттенком врожденной чудаковатости. Она же должна была видеть в нем этакого гигантского кота на мягких лапах, да он, собственно, таким и был (для нее).
Что же до Персуордена, то я помню еще, как, не закончив своей тирады о религиозном невежестве, он выпрямился и поймал взглядом свое бледное отражение в зеркале. Стакан был поднят к его губам, и вот, повернув голову, он выпустил по своему мерцающему отражению полный рот джина. Минута эта как-то удивительно ясно отпечаталась в моей памяти; отражение, оплывающее каплями в зеркале, в этом нелепом дорогостоящем номере, который теперь кажется мне такой подходящей декорацией для сцены, последовавшей позже, той же ночью.
* * * * *
Пляс Заглуль – изделия из серебра и голуби в клетках. Сводчатый подвал, черные бочонки вдоль стен и воздух, удушливый от поджариваемой рыбьей мелочи и от запаха retzinnato. Записка, нацарапанная на полях газеты. Здесь я пролил вино ей на платье и, пытаясь исправить содеянное, случайно дотронулся до ее груди. Ни слова не было сказано. Персуорден в это время – как чудно он говорил об Александрии и о горящей библиотеке! В комнате наверху исходил криком какой-то бедолага, менингит…
* * * * *
Сегодня, совершенно внезапно, прошел слепой весенний ливень, очистив воздух города от пыли, вернув ее земле, молотя по стеклянной крыше студии, где сидит Нессим над эскизами к портрету жены. Она позировала, сидя перед камином, с гитарой в руках, шея подчеркнута пятнистым шарфом; она поет, склонив голову. Отзвук ее голоса отдается в голове Нессима подобно магнитофонной записи землетрясения, запущенной наоборот. Невероятная траектория радуги над парками, где пальмы туго выгибаются назад; мифология желтогривых валов, атакующих Фарос. Ночью в город приходят новые звуки, протяжное гудение и резкие выкрики ветра, поначалу они настораживают, пока не начинаешь ощущать, как город превращается в корабль и отзывается скрипом и стонами старых шпангоутов на каждый удар непогоды.
Вот такую погоду и любит Скоби. Лежа в постели, он любовно дотрагивается до подзорной трубы и обращает мечтательный взор на голую стену из осыпающихся необожженных кирпичей, за которой – море.
Скоби подбирается к семидесяти и все еще боится умереть; один из его постоянных кошмаров – он просыпается однажды утром и видит мертвое тело капитан-лейтенанта Скоби. Так что каждое утро начинается для него с тяжкого испытания, когда водоносы вопят под окнами и будят его еще до восхода солнца. Целую минуту, по его собственным словам, он не решается открыть глаза. Старательно зажмурившись (из страха, что открой он их – и узрят они духа небесного или хор распевающих гимн херувимов), он тянется к стоящему у кровати поставцу и хватает трубку. Трубка всегда набита с вечера, и рядом лежит открытая коробка спичек. Первая же затяжка крепкого матросского курева возвращает ему и самообладание, и зрение. Он набирает полную грудь воздуха, благодарный за воскрешение из мертвых. Он улыбается. Он удовлетворенно оглядывается. Натягивая до самых ушей тяжелую овчину, что служит ему на ложе покрывалом, он исполняет свой маленький благодарственный пеан утру голосом, скрипучим, как станиоль: «Taisez-vous, petit babouin; laissez parler votre mére» [66]66
Помолчите, крошка-егоза, дайте вашей матери сказать (фр.).
[Закрыть].
Его обвисшие, как у старого трубача, щеки розовеют от усилия. Критически оценив свое состояние, он приходит к выводу: у него неизбежная головная боль. Язык его шершав от вчерашнего бренди. Но, невзирая на все эти маленькие неудобства, перспектива еще одного дня жизни выглядит весомо. «Taisez-vous, petit babouin», – и так далее, с паузой, дабы отправить на место вставную челюсть. Он прикладывает сморщенную ладонь к грудной клетке, и звук работающего сердца доставляет ему тихую радость, ибо он поддерживает вялую циркуляцию в той самой венозной системе, все трудности которой (реальные или воображаемые – я так и не понял) можно с успехом преодолеть с помощью бренди в ежедневных и только что не смертельных дозах. Если вам посчастливится застать его еще в постели, он почти наверняка схватит вашу руку костлявой птичьей лапкой и предложит лично убедиться: «Силен как вол, а? Тикает что надо», – обычная его фраза, и бренди здесь не властен. Сделав над собой некоторое усилие, вы просунете руку за отворот его дешевой пижамы, чтобы ощутить смутное, тусклое, отдаленное биение жизни – сердце зародыша на седьмом месяце. С трогательной гордостью он застегнет пижаму и издаст нечто соответствующее его представлению о реве здорового животного. «Выпрыгиваю из постели, словно лев», – еще одна из его фраз. Вам не понять всей полноты очарования, свойственного этому человеку, пока вы не увидите воочию, как, согнутый ревматизмом едва не пополам, сей реликт ледниковой эры выбирается из-под бумажных приютских простыней. Лишь в самые жаркие месяцы года его кости оттаивают настолько, что он может достичь достойного прямостояния. Летними вечерами он гуляет в парке, и маленький его череп сверкает, подобно солнцу небольшого достоинства, вересковая трубка нацелена в зенит, челюсть скошена в жуткой гримасе, долженствующей означать почти неприличное здоровье.
Никакая городская мифология не может быть полноценной без своего Скоби, и Александрия многое потеряет, когда его иссушенное солнцем тело, завернутое в «Юнион Джек», будет в конце концов опущено в неглубокую могилку, что ждет его на римско-католическом кладбище возле трамвайной линии.
Скудной флотской пенсии едва хватает на то, чтобы платить за единственную густонаселенную тараканами комнату – он снимает ее в трущобах позади улицы Татвиг. Недостаток средств восполняет не менее скудное жалованье от египетского правительства, к жалованью прилагается гордый титул Бимбаши Полицейских Сил. Клеа написала с него прекрасный портрет, в полной полицейской форме, с красной феской на голове и с огромной мухобойкой толщиною в конский хвост, которая изящно лежит поперек его костлявых колен.
Клеа снабжает его табаком, а я – восхищением, собственным обществом и, по возможности, бренди. Мы ходим к нему по очереди – рукоплещем его физической мощи и не даем ему упасть, когда в порыве энтузиазма по поводу последней он слишком сильно ударяет себя в грудь. Происхождение его туманно, его прошлое, подобно прошлому настоящего мифологического персонажа, вписано в историю доброй дюжины частей света. А настоящее настолько богато воображаемым здоровьем, что желать ему в общем-то и нечего – кроме разве что случайных поездок в Каир во время Рамадана, когда его контора закрыта и когда, предположительно, всякого рода преступная деятельность впадает по случаю праздника в спячку.
Молодость безборода, то же и второе детство. Скоби ласково теребит остатки некогда пышной и ухоженной остроконечной бородки, но очень осторожно, едва касаясь, из боязни, что выдернет ее окончательно и останется совершенно беззащитным. Он цепляется за жизнь, как устрица, и каждый год намывает новое колечко, незаметное невооруженным глазом. Его тело словно усыхает, съеживается с каждой новой зимой, и скоро череп его будет не больше черепа младенца. Еще год-другой, и мы сможем затолкать его в банку и замариновать навечно. Морщины становятся все глубже. Без зубов его лицо напоминает морду старого шимпанзе; над худосочной бородкой – вишнево-красные щечки, ласково называемые в обиходе «порт» и «лево руля», излучают в любую погоду тихое теплое сияние.
Его тело многим обязано поставщикам запасных частей. В тысяча девятьсот десятом падение с бизани сместило его челюсть на два румба с запада на юго-запад и продавило фронтальный синус. Когда он говорит, его вставная челюсть ведет себя словно складная лестница, описывая внутри черепа судорожные спирали. Улыбка его непредсказуема и может возникнуть где угодно, как улыбка Чеширского Кота. В девяносто восьмом он строил глазки чужой жене (это он так говорит) и одного из них лишился. Предполагается, что никто, кроме Клеа, об этом не догадывается, но в данном случае замена была достаточно грубой. В состоянии покоя это не слишком бросается в глаза, но стоит ему только чуть-чуть оживиться, и разница между двумя глазами становится очевидной. Существует и небольшая проблема чисто технического свойства – его собственный глаз почти постоянно красен. В самый первый раз, когда он испытывал меня вольным пересказом «Вахтенный, что там в ночи?», стоя в углу комнаты с антикварным ночным горшком в руке, я обратил внимание, что правый его глаз движется чуть медленней, чем левый. Тогда он показался мне увеличенной копией стеклянного глаза орлиного чучела, угрюмо взирающего на мир из ниши в публичной библиотеке. Однако зимой именно вставной глаз совершенно непереносимо пульсирует, портит ему настроение и вводит во грех сквернословия – пока очередная рюмочка бренди не согреет его желудок.
Этот одноклеточный профиль я представляю себе выплывающим из дождя и тумана, ибо Скоби наделен странным свойством приносить с собой некоторое подобие английской погоды и нет для него большего счастья, чем сидеть зимой перед микроскопическим пламенем в камине и говорить. Память раз за разом пытается пустить в ход напрочь разлаженный механизм его несчастной головы, пока наконец не теряется окончательно – где-то в сумеречных глубинах. Я вижу за его спиной длинные серые валы Атлантики – они трудолюбиво и упорно смыкаются над его воспоминаниями, растирают их в водяную пыль, которая слепит ему глаза. Его рассказы о прошлом – серия коротких телеграмм – линия нарушена, погодные условия неблагоприятны для сеанса связи. В Доусоне десятеро пошли вверх по реке и замерзли насмерть. Зима обрушилась как молот и сразу отправила их в нокаут; виски, золото, смерть – это было похоже на новый крестовый поход в северные леса. В те же годы его брат упал с водопада в Уганде; во сне он видел крошечную фигурку, меньше мухи, падающую – и моментально расплющенную желтой лапой воды. Нет, это было позже, когда он уже смотрел через прицел карабина в самую черепушку какого-то бура. Он пытается вспомнить точно – когда это должно было случиться, роняя лысую полированную голову на руки, но снова вмешиваются серые валы бесконечных приливов и отливов, патрулирующие границу между ним и его памятью. Вот почему это слово пришло ко мне – намывает – вместе с образом старого пирата: его череп осязаемо обкатан, и только тончайший слой кожи отделяет его улыбку от улыбки занесенного песком скелета. Обратите внимание на эту черепную коробку, на отчетливые вмятины здесь и здесь; на хворостинки косточек под восковой кожей пальцев, на дряблое старческое сусло на месте икроножных мышц… И в самом деле, как заметила однажды Клеа, старина Скоби похож на какой-нибудь маленький древний мотор на колесах, чудом уцелевший с прошлого века, нечто умилительное и жалкое вроде первой Стивенсоновой «Ракеты».
Он живет в своем перекошенном чулане, как анахорет. «Анахорет!» – вот еще одно из его любимых словечек; обычно, произнося его, он подпирает щеку пальцем, и томно закатывающийся глаз сразу же выдает в нем тщательно скрываемую женственность. Весь маскарад – исключительно ради Клеа. В присутствии «прекрасной дамы» он считает себя обязанным принимать защитную окраску, которая слетает с него, как только за Клеа закроется дверь. Действительность несколько печальнее. «Я ведь лет сто был вожатым у скаутов, – поверяет он мне свою тайну sotto voce [67]67
Вполголоса (ит.).
[Закрыть], – в отрядах Хэкни. Это уже после того, как меня списали по инвалидности. Но мне нельзя было возвращаться в Англию, старина. Тяга была слишком сильна, вот что я тебе скажу. Каждую неделю я ждал, что увижу заголовок во “Всемирных известиях”: “Еще одна юная жертва грязной похоти вожатого”. В Хэкни-то все было в порядке. Мои мальчики словно родились в лесу – все умели. Истинные юные итонцы – это я их так называл. Вожатый, который был там до меня, получил двадцать лет. Этого достаточно, чтобы навести на Раздумья. Такие вещи заставляют шевелить мозгами. В общем, я как-то не прижился в Хэкни. Имей в виду, я, конечно, несколько поотстал от жизни, но я люблю, чтобы на душе у меня было спокойно – как раз в этом смысле. А в Англии сейчас человек уже не чувствует себя свободным, нет. Обрати внимание, они уже добрались до клириков, до уважаемых служителей церкви, и все такое. Я спать перестал. В конце концов уехал за границу, частным, знаешь, как его, губернером, вот – Тоби Маннеринг, отец у него член парламента, кстати; так вот, ему захотелось попутешествовать. Ему сказали – тогда нужен губернер. А на самом деле он хотел поступить во флот. Вот я и попал сюда. Я сразу понял, что жизнь здесь – что надо, без лишних хлопот. Сразу получил работу – в полиции нравов, у Нимрод-паши. Вот так, дорогой мой. И никаких жалоб, ты понимаешь? Обозревая с востока на запад эту плодородную дельту, что я вижу? Милю за милей ангельски маленьких черных попок».