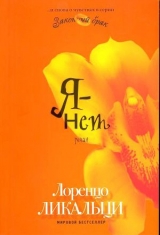
Текст книги "Я - нет"
Автор книги: Лоренцо Ликальци
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Вторая часть
XII. Лаура
Новообразование в легких. Рак. Боже мой, она ведь даже не курила! Я узнала об этом, когда пошла забирать ее анализы, компьютерную томографию и все прочее.
Элиза ни о чем не догадывалась. Ее изматывали смертельная усталость и невысокая, но постоянная температура. Франческо десять дней как не было в городе: уехал на презентацию диска. Никто же не ожидал такого.
Бронхит. Такой диагноз поставил врач-идиот после первого визита. Позже, когда он увидел, что у Элизы анализы настолько безнадежны, он перепугался и назначил несколько спешных контрольных обследований.
– Ничего нельзя поделать, – сказал мне мой друг-профессор. – Сожалею, но уже ничем не помочь. Метастазы повсюду. Она неоперабельна. Химиотерапия бесполезна. Если я подвергну ее агрессивному курсу лечения, мы только, причиним ей лишние страдания, без какой-либо надежды на реальный позитивный результат. У молодых, когда это случается, все так и происходит: торопятся, носятся, спешат жить, не щадя себя, бегут за славой… Шесть месяцев, не больше, Лаура. Мне очень жаль. Старайтесь быть рядом с ней. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы облегчить боли, и пошлю вам опытную медсестру.
Я вышла из кабинета врача, шатаясь будто пьяная. Какое-то время брела, не выбирая дороги, убитая горем. Вошла в бар, выпила что-то крепкое, чтобы придать себе храбрости, и позвонила Франческо. Он был в Риме. Он так и не завел мобильника, он их терпеть не может, специально потерял три штуки. Поэтому я набрала номер одного из его музыкантов и попросила передать ему трубку.
– Франческо, будет лучше, если ты срочно вернешься в Милан. Есть проблемы.
– Какие? Что случилось? Девочка заболела?
– Нет, речь об Элизе.
Я все ему объяснила, плача, еле слышным голосом. Он молча выслушал, затем сказал:
– Не говори глупостей. Врачи ошиблись. Элиза не умрет. Это я тебе говорю.
Через четыре часа он был в Милане. Я приехала за ним в аэропорт, и он сразу же попросил отвезти его к профессору. Он хотел все услышать от него лично. Он не поверил даже ему, волновался, переспрашивал, искал в его словах малейшую надежду, которую тот не мог ему дать. После чего мы поехали к нему домой. Всю дорогу мы молчали.
– Мы скажем ей? – спросила я, выходя из машины.
– Нет. Ни в коем случае. Завтра поговорим еще с кем-нибудь, может, найдем кого-то, кто подскажет выход. Может, ее прооперируют, может, не все так ужасно. Я убежден, что не все так ужасно. Ты можешь представить, что Элиза умрет? Все, хватит, не будем ей говорить обо всех этих глупостях.
Однако, едва мы вошли в квартиру, Элиза, посмотрев Франческо в глаза, которые он отводил в сторону, не в состоянии выдержать ее прямого взгляда, все поняла.
– Сколько мне осталось жить? – спросила она дрогнувшим голосом.
– Столько, сколько захочешь сама, – отвечал Франческо.
Она почти не испытывала болей. За исключением последних пятнадцати дней. Эти дни были переполнены страданиями. Медсестра колола ей огромные дозы морфия, но иногда и они не помогали.
Франческо страдал наравне с ней. Он был одно сплошное страдание. Как-то ночью, когда у Элизы случились особенно сильные судороги, Франческо прямо обезумел. Это был кошмар. Утром он спросил меня, не смогла бы я прийти к ним на уик-энд, чтобы помочь ему и побыть немного с Лаурой. Флавио забрал детей к себе. Медсестра отпросилась на пару дней и должна была вернуться следующим утром. Я приехала. К двум часам ночи Элиза уже беспрерывно жаловалась на боли. У нас не осталось ни одной ампулы темджезика, и мы позвонили в «скорую». Франческо объяснил ситуацию. Приехал дежурный фельдшер. Но и у него темджезика тоже не оказалось. Он настаивал на том, чтобы дать бускопан. Франческо психанул, посоветовав фельдшеру засунуть бускопан себе в задницу (так и сказал), и потребовал дать ему рецепт на морфий, чтобы сбегать за ним в аптеку, но фельдшер отказался, заявив, что для этого средства нужен специальный рецепт, который может выписать только врач. Франческо не желал слушать никаких резонов и продолжал настаивать на своем, теряя терпении. Если бы я не вмешалась, он задушил бы фельдшера. Кончилось тем, что он вышвырнул из дома и фельдшера, и санитара под крики Элизы, обезумевшей от дикой боли. Было три часа ночи, когда Франческо позвонил моему другу-профессору, помчался к нему, заставил выписать рецепт, нашел дежурную аптеку и в полчетвертого уже был дома с морфием. Он сам сделал укол, чего ни разу в жизни не делал. Я перестала понимать, на каком я свете. Рассказывать об этом – и то ужас. Элиза кричала от боли, Франческо матерился и кричал тоже, звонил профессору, убегал, возвращался, ставил очередной укол… Это был сущий кошмар.
За два дня до смерти Элиза впала в кому. Прошло ровно шесть месяцев, как и предсказывал мой друг. Эти два дня Франческо сидел возле нее, не отпуская ее руки, не ел, ни разу не заснул, ни разу не поднялся со стула.
До самого последнего мгновения Франческо надеялся, что Элиза выкарабкается.
– Плевать мы на него хотели, на этого ракового ублюдка, увидишь, мы справимся, мы сильнее его, – говорил он Элизе, когда видел, что боль отступала. А замечая, что она слабеет, говорил: – Не будем отчаиваться, подумаешь, какая-то небольшая опухоль.
Элиза улыбалась ему с подушек, трогательная, бледная, исхудавшая и очень красивая. Как всегда, очень красивая. Болезни, которая отнимала у нее жизнь, не удавалось исказить ни ее красоты, ни ее улыбки. Странной улыбки, которую невозможно описать словами.
В первые дни болезни она еще держалась. Но очень скоро ее внешность стала вызывать у нее сначала досаду, а потом и ненависть. Усиливавшаяся худоба доводила ее до паранойи. Она спрятала все свои фотографии и начала ходить в ванную для прислуги, где не было зеркала. Когда она по-настоящему поняла, что ее участь предрешена, перепуганная, она потеряла контроль над собой. Обижалась на всех, на меня, на Франческо и особенно на Бога. Потом наступил перелом. Она смирилась, успокоилась, обрела в себе какие-то силы и даже осмелилась взглянуть на себя взеркало. Всего один раз. Это было при мне. Я сопровождала ее в ванную, она сама попросила меня об этом – не потому, что была настолько слаба, что едва держалась на ногах, а потому, что рассчитывала, что я не позволю ей посмотреться в зеркало. Когда она себя в нем увидела, она замерла на полминуты, провела пальцами по впавшим щекам, слегка распахнула халат и после этого повернулась ко мне:
– Хватит, пошли отсюда. Мне не хотелось умереть, не посмотрев на свое лицо. Будем надеяться, что там, куда я уйду, я буду походить на себя прежнюю. Мне неприятна мысль о том, что я навечно останусь такой худой.
И улыбнулась. И с тех пор все время улыбалась этой своей странной улыбкой, становившейся все более прекрасной.
Франческо плакал. Последнее время он плакал всякий раз, когда выходил из ее комнаты. Он старался, чтобы малышка Лаура не видела этого, но в моем присутствии не сдерживался и рыдал в голос. Так же, как рыдала я, когда за два месяца до смерти Элизы они официально поженились. В этот день Элиза была так счастлива, что казалась выздоровевшей. На церемонию они пригласили шесть человек: родителей, Флавио как свидетеля со стороны Франческо и меня, которую захотела видеть своей свидетельницей Элиза. Я помню, как она сказала мне:
– Это совсем не та свадьба, какой я ее представляла, но я все равно счастлива.
Франческо был вне себя от радости, видя, что Элиза хорошо себя чувствует.
– Если ты дашь мне слово быть всегда такой, я буду жениться на тебе каждый день, – прошептал он ей.
Неделю спустя началось быстрое угасание. Она так больше и не оправилась.
Кок только все кончилось, Франческо сломался.
Он не явился на похороны, попросив только, чтобы Элизу погребли в семейном склепе, и, насколько мне известно ни разу не был на кладбище.
Малышка Лаура ничего не знала и не понимала. Она все время была со мной, засыпая меня разными вопросами.
Франческо больше не существовало. Первое, что он сделал, – покончил с музыкой.
– Не ждите меня, я больше никогда не буду играть, я больше никогда не буду писать, – обратился он к своим товарищам по группе. – Вам нет смысла ждать меня. Ожидая меня, вы только потеряете время. Мне больше нечего сказать людям.
В таком состоянии, почти в полном безмолвии, Франческо прожил больше года. Он не мог разговаривать даже с Лаурой, которая теперь жила со мной и постоянно плакала.
Он не отвечал на телефонные звонки, сидел взаперти и выходил из дома лишь тогда, когда заканчивались продукты. Время от времени я навещала его, чтобы узнать, как он, но всегда неудачно: то ли он отсутствовал, то ли не открывал дверь, не знаю. Иногда он приходил в мой дом, чтобы побыть немного с дочерью, но был не похож на себя прежнего: не знал, как вести себя с ней, нервничал или сидел с отсутствующим взглядом. Лаура все замечала и со все большей неохотой проводила с ним время. Порой он появлялся поздно вечером, когда Лаура уже спала. Усаживался рядом с ее кроваткой и долго смотрел на нее, спящую. В эти минуты он казался более спокойным и адекватным, что-то говорил ей вполголоса, чтобы я не могла слышать. Я думаю, он говорил ей об Элизе. Он брал ее ручку, гладил волосы, целовал в лоб, после чего, шмыгая носом, исчезал. Я слышала, как иногда он называл ее принцессой, и всякий раз, как он это делал, у меня сжималось сердце. Потому что именно так он когда-то называл меня. Очень-очень давно. Так давно, что наверняка этого уже и не помнил.
Если он выходил из дома, то чаще всего это случалось по ночам, когда Милан безлюден. Запахнув поплотнее свою кожаную куртку, он часами бесцельно кружил по городу на машине или пешком. Он совсем бросил пить и курить, я имею в виду курить сигареты, потому что с травкой он завязал еще раньше. А с тех пор, как он сильно похудел, мне казалось, что он прекратил и питаться тоже.
Неделю назад – а мы с ним не виделись уже несколько дней – он пришел ко мне и сказал:
– Лаура, мне надо поговорить с тобой.
Мы сели, он попросил, чтобы я села напротив, взял мои руки в свои и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
– Выслушай меня… Вот уже с некоторых пор я постоянно думаю об этом… Я должен уехать.
– Уехать?! Куда? – спросила я с сильно бьющимся сердцем.
– Пока не знаю. Но здесь я больше не могу. Не прошло ни одного дня с тех пор, как Элизы нет, чтобы я не думал о ней, и ни одной ночи, чтобы она мне не снилась, и ни одного утра, когда бы я не просыпался и хотя бы на миг не поверил, что она здесь, рядом со мной, и так каждое утро, каждое проклятое утро Элиза словно умирает для меня снова и снова, и это уже как наваждение. Я так не вынесу, я должен освободиться от этого. Не от памяти об Элизе, нет, этого я не могу и не хочу, но от этого наваждения, потому что оно не дает мне жить, выжигает все во мне. Я постоянно думаю о ней. Я чувствую ее запах, вздрагиваю от эха ее голоса иногда мне даже кажется, что я слышу ее шаги по квартире и когда я говорю с собой, а в последнее время я разговариваю только с собой, я разговариваю с ней. Каждый раз когда я выхожу из дома, я иду искать ее, как будто могу ее встретить, и каждый раз, возвращаясь, я возвращаюсь к ней, как будто она ждет меня. Господи, Лаура, я больше так не вынесу.
– Мне очень жаль, но я думала, что могу помочь тебе – сказала я, сжимая его руки.
– Ты помогаешь мне, но это не меняет ситуации.
– А Лаура?
– Именно из-за Лауры я и должен уехать. Если б ее не было, я бы не уехал. Лаура нуждается во мне, а я нуждаюсь в ней, один Бог знает, как я нуждаюсь в ней, но я ей нужен другой, прежний, а в таком состоянии что я могу ей дать, кроме своей боли? Не думай, Лаура, что я не пытался выбраться из этого, еще как пытался, и, клянусь, пытаюсь каждый день… Каждый божий день я пытаюсь, поверь. Каждое утро я говорю себе: старайся, у тебя должно получиться, Элизы больше нет, но ты-то здесь, ты должен жить, ради себя, ради дочери, ради Лауры, которая заменила ей мать, и ради жизни, которую ты не имеешь право тратить так бездумно, но каждый раз… каждый раз Элиза возвращается еще болезненнее, чем раньше. Еще чаще, чем раньше. Еще чаще, чем когда была жива. И это становится невыносимо.
– Не отчаивайся, Франческо, все пройдет, клянусь, пройдет, – проговорила я, не в силах сдержать слез.
Он ласково улыбнулся мне и бережно вытер мои слезы.
– Однажды я уже уезжал отсюда надолго, сейчас я должен сделать это еще раз. Не знаю, пойдет ли это на пользу кому-нибудь и чему-нибудь… Вряд ли… Скорее всего, нет, потому что я не могу представить себе мир без нее, без Элизы, и куда бы я ни поехал, до тех пор, пока я буду на этом свете, все останется тем же самым. Но здесь все, что я вижу и к чему прикасаюсь, жестоко напоминает мне о ней, наибольшую боль мне доставляют принадлежавшие ей мелочи, на которые я то и дело натыкаюсь, бродя по дому: исписанный до корки блокнот в глубине ящика ее стола, чек из нью-йоркского магазина, неясно, как попавший сюда, меню ресторана, где мы вкусно ели, и она выпросила его у хозяина, чтобы прийти еще раз… И мы еще не раз приходили туда… Ее платья в шкафу, ее вещи… Книга, которую она-читала перед тем, как впасть в кому, еще открытая на семьдесят второй странице, на которой она остановилась… Старая виниловая пластинка, которую я ставил в день нашей свадьбы и которая до сих пор лежит там, на диске проигрывателя… и множество других мельчайших следов ее присутствия в доме, к которым я больше не притрагивался, к которым я не могу заставить себя притронуться и которых не должен касаться никто и никогда, до тех пор пока я жив… Вот почему я должен уехать, Лаура. Я должен найти дом для нас двоих.
Дом для нас двоих, сказал он то же самое, что двадцать лет назад.
Но на этот раз он говорил не обо мне, он говорил о другой Лауре
XIII. Франческо
Я познакомился с Кэтлин в самолете. Она сидела рядом со мной и первой обратилась ко мне.
– Я тебя знаю, – сказала она, – ты играл в клубе «Шхуна» пару лет назад.
– Да, было такое, с моей группой, – буркнул я через силу, не глядя на нее.
– Вы здорово играли, а для моих друзей вы даже стали прямо-таки некоторым культом.
– Прямо-таки, – сказал я без выражения, слегка раздраженный ее назойливостью.
– Если не ошибаюсь, ты был с девушкой, блондинкой, которая пожирала тебя глазами. Я помню, что она всегда садилась за один и тот же стол, и как только вы заканчивали играть, ты усаживался рядом с ней. Кстати, извини, если я бесцеремонна, ты все еще с ней?
– Да.
Только теперь, чтобы усилить двусмысленную ложь, поднял на нее глаза.
Волосы, небрежно стянутые на затылке, несколько прядей спадает на лоб. Выцветшие джинсы, порванные на коленке, майка «Хард Рок Кафе Барселона», одна желтая теннисная туфля без шнурков. Одна, поскольку вторая под бедром противоположной ноги девушки, сидящей в своеобразной полупозиции лотоса. Судя по тому, что она удалась ей в самолетном кресле, девушка невысокого роста. Кожа оливкового цвета, черты лица слегка восточные.
Мы представились друг другу с кучей подробностей, точнее, она представилась с кучей подробностей, я ограничился тем, что назвал свое имя, сделав это так негромко, что вынужден был повторить.
– Как-как тебя зовут? – переспросила она, улыбаясь, в то время как я разглядывал ее с неожиданным для себя интересом.
– Франческо.
– А я Кэтлин, Кэтлин Комбе, – сообщила она раньше, чем я спросил, как ее зовут. Ее тон был доброжелательным и веселым, а манера поведения открытой.
– Ты не американка…
– Американка, но мой отец француз, а мать родом из Азии.
– А… то-то мне показалось, что…
– Ты зачем в Нью-Йорк? – перебила она. – По работе или отдохнуть?
– Назовем это отдохнуть. А ты? Отдыхала в Италии? – спросил я, скорее чтобы сменить тему, чем из любопытства.
– И то, и другое. Я скульптор и приезжала в Каррару выбрать мрамор для работы, которую мне заказали, а после немного попутешествовала по стране.
Она путешествовала одна, но я не стал спрашивать почему. Она жестикулировала так, как делала это Элиза.
Мы разговорились. То есть я хочу сказать, что тоже начал принимать участие в разговоре. Сначала это было трудно – болтать с кем-то после долгого периода молчания, но постепенно я начал чувствовать себя более естественно. Мне понравилось разговаривать с ней. Со мной такое происходило впервые. Бывает, что некоторым людям удается заставить нас почувствовать себя комфортно даже в самый тяжелый период жизни, хотя мы и не знакомы, а может быть это и случается потому, что мы не знакомы.
Настал момент – после того, как мы немного поболтали о том о сем, и после того, как я рассказал ей, не вдаваясь в подробности и внутренне смущаясь, правду об Элизе и мы уже достигли приятного состояния доверительной откровенности, – и она сказала:
– А почему бы тебе не остановиться у меня на несколько дней, пока ты будешь в Нью-Йорке и пока не найдешь, где жить? У меня квартира в Гринич Виллидже. Там полно места. У тебя будет комната в полном твоем распоряжении – и никаких проблем.
Ее предложение прозвучало так, будто это само собой разумеющаяся и самая логичная вещь на свете. Я не заказывал гостиницы, я вообще ни о чем не думал, улетая в Нью-Йорк, где собирался пробыть действительно всего несколько дней, и после недолгих колебаний я ответил согласием. И правда, почему бы и нет? Почему бы мне не остановиться у нее?
Мы прожили бок о бок три месяца, все то время, что я оставался в Нью-Йорке, но все происходило не так, как можно было бы подумать, то есть совершенно не так. Мое пребывание в Нью-Йорке напоминало паломничество, чего мне, может быть, не стоило делать и что вряд ли бы так получилось, не будь ее. Но я знал, что должен выдержать и это испытание Нью-Йорком, если уж собирался начать жизнь заново. Я понимал, что должен пропустить этот город через сердце, чтобы затем покинуть его навсегда, но мне нужна была поддержка со стороны кого-нибудь, с кем я мог поговорить, возвращаясь в свои четыре стены.
Наверное, я был неправ, потому что это было испытание из тех (если то, что мне выпало, называть испытанием, а не паранойей), которые преодолеваются в одиночку, но я уже так долго был одинок…
За эти три месяца я исходил вместе с Кэтлин все улицы, по которым когда-то бродил с Элизой. Естественно, что Кэтлин этого не знала. Я смотрел на те же витрины. Я присаживался на те же скамейки. Я ел в тех же ресторанах. Я выпивал в тех же барах. Я садился на те же поезда, в те же такси, в те же автобусы. Всякий раз, когда у меня возникала какая-то идея, когда я собирался сделать что-то или пойти куда-то, у всего этого был один мотив, и этот мотив – Элиза. Те редкие разы, когда Кэтлин спрашивала меня, почему именно туда, я говорил ей правду. Но я никогда не использовал ее, чтобы излить ей душу. И все же нам было хорошо вместе. Днем я отправлялся на прогулку один, потому что она работала – ваяла. Вдвоем мы чаще всего выходили по вечерам. А если оставались дома, то смотрели телевизор или беседовали. Почти никогда об Элизе или о моей истории, нет, о другом, о тысяче вещей, включая ее историю. Она тоже уже несколько месяцев была одинока, с тех пор как решительно порвала с женатым мужчиной. Ему было пятьдесят, вдвое больше, чем ей. Он постоянно доставал ее телефонными звонками, караулил у дома, пока однажды я встретил его и, сделав зверскую физиономию, не потребовал, чтобы он оставил ее в покое, поскольку она живет со мной. Конечно, это была неправда, она не жила со мной. Кто знает, в другой ситуации, может быть… Но сейчас было не время и не место, и Кэтлин не годилась на роль тарана, которым можно было пробить стену, отделяющую меня от всего мира. Вероятно, никакая женщина не годилась для этой цели. Потому что нет способа соперничать с мертвыми. Мертвые совершенны, безупречны и недосягаемы.
Тем вечером нам захотелось сходить в кино. Точнее, это Кэтлин захотела пойти. Она приложила немало усилий чтобы уговорить меня, и, как это не раз случалось, я согласился. Мы взяли такси до Мэдисон-сквер и оттуда пошли по Бродвею, задрав головы, читая афиши кинотеатров, не зная, какой фильм выбрать.
Мы остановились, чтобы купить по хот-догу, и приступили к ним, разглядывая витрины, а заодно слушая старика, игравшего на аккордеоне. Нам было хорошо.
Мало-помалу желание сидеть в кинотеатре исчезло, и мы побрели по улицам без всякой цели. Свернули за угол, потом за другой, за третий и неожиданно оказались перед дверью бара. Темного дерева, без ручек, из тех, что открываются в обе стороны, когда их толкаешь.
Бар казался созданным специально для нас, с его интимным антуражем, приглушенным светом и декором в стиле пятидесятых. Готов поклясться, что все его элементы были подлинными. Рядом со входом стоял огромный музыкальный автомат, сияющий лакированным деревом и хромом. Единственный зальчик, крошечный, слабо освещенный красным светом, со стенами, затянутыми тканью пурпурного цвета. Перед барной стойкой пять высоких табуретов. На противоположной стороне тонули в полумраке два деревянных столика с мягкими креслицами.
В баре почти никого не было: на табуретах у стойки мужчина и женщина, за одним из столиков явно поддатый моряк, опираясь на стол локтями и положив подбородок на руки, он уставился в пустоту невидящим взглядом. На экране древнего безголосого черно-белого телевизора бегали черно-белые бейсболисты.
Мы сели за единственный свободный столик, и я, впервые с тех пор, как умерла Элиза, заказал алкоголь. До сегодняшнего дня я не пил ничего, кроме кока-колы или тоника. Я боялся, что если начну пить, то уже не остановлюсь.
Устроившись поудобнее в маленьких креслах, мы незаметно принялись разглядывать пару у барной стойки, выглядевшую органичной деталью оформления зальчика. Ему лет пятьдесят, может, чуть меньше, красивый мужчина с короткими, хорошо уложенными, начавшими седеть волосами, высокий, вальяжный, лицо актера, с небольшой тенью усталости. В руке трубка. Говорит по-американски с легким французским акцентом. Ей чуть за тридцать, красива едва уловимой красотой, немного увядшее лицо с частой паутинкой тонких морщинок вокруг глаз, выдающих женщину, пережившую немало приключений. Она курила «Галуаз» без фильтра, коротко и энергично затягиваясь, и медленно гасила сигареты в пепельнице, уже полной окурков с бледными следами губной помады. Она курила, как курили женщины в конце сороковых годов, держа сигарету кончиками вытянутых пальцев и поднося ее к губам широким жестом, бесстыдным и одновременно невинным. Рыжеватые, слегка растрепанные волосы добавляли чувственности ее облику. Наброшенная на плечи шубка, под ней черное шелковое платье с огромным декольте, обнажающим молочную кожу в веснушках. Ноги заброшены одна на другую, длинные и худые. На светлом чулке поехавшая петля, которую она то и дело мягко поглаживала открытой ладонью. На ногах черные замшевые туфли на очень высоких каблуках, подчеркивающих тонкие породистые лодыжки. Пара сидела, прижавшись друг к другу. Он казался раздосадованным и спрашивал ее о чем-то резким тоном. Она отвечала негромко, как бы смиряясь с его досадой, обнимала его, гладила его руку своей, затянутой в перчатку. Перед обоими стояли стаканы с виски. Время от времени она поднималась с места и направлялась к музыкальному ящику, с сигаретой в зубах, прищуриваясь от дыма, попадавшего в глаза, внимательно читала названия пластинок, но ставила одну и ту же. Сладкий мужской голос, из тех, что служат, чтобы тешить надеждой тысячи влюбленных женских сердец, почти нашептывал нечто романтичное. После этого она возвращалась на свой табурет, снова прижималась к мужчине и заказывала следующую порцию виски.
Мы зачарованно наблюдали за ними, негромко комментируя их жесты и слова, которые нам удавалось расслышать. Оба, поглощенные друг другом и безразличные к остальному, даже не замечали нашего присутствия. Мы следили за ними целый час и встали, когда они поднялись. Сгорая от любопытства, мы готовы были последовать за ними.
Она запахнулась в шубку и, слегка пошатываясь, направилась к выходу из бара, он обогнал ее, открыл перед ней дверь, и они зашагали, обнявшись, в сторону Бродвея. Пару раз оступившись, то ли из-за чересчур высоких каблуков, то ли из-за большого количества выпитого, она оперлась на него, взяв его под руку. Затем они сели в такси. Мы видели, как она сняла перчатки и естественным нежным жестом взяла его руку в свои.
Мы вернулись домой пешком. Было холодно так, что стучали зубы. По Бродвею мы, тоже тесно прижавшись друг к другу другу и почти не разговаривая, дошли до Таймс-сквер, оттуда до перекрестка с Восьмой авеню и дальше, вдоль Сороковой улицы, до самого дома.
Бегом поднялись по лестнице. Она бежала, опередив меня на несколько ступенек, чтобы, запыхавшись, открыть дверь квартиры, дать догнать себя и обнять. Не говоря ни слова, мы поцеловались. И так же не говоря ни слова, начали раздеваться.
Потом мы целовались, лежа в постели, она ласкала мои волосы, лицо, руки. Я ласкал ее. Я ощущал ее дрожащее тело. И ощущал свое, отдавшееся ее телу. Я лежал с закрытыми глазами, шепча какие-то слова, полностью растворившись в ней. Внезапно я почувствовал, что меня яростно отталкивают.
Я открыл глаза, вопросительно глядя на нее, она, пружиной вскочив с кровати, не произнося ни звука, со слезами на глазах убежала в соседнюю комнату. Только тогда до меня дошло, что случилось. Я занимался любовью с Элизой. Ее имя я шептал этой девушке.
Утром я сказал ей, что мне лучше уехать. Я не добавил ничего другого, потому что мы оба прекрасно знали, что больше мне нечего сказать ей. Ее дом не был моим домом и никогда бы не смог им стать, даже на один миг. Хотя нет. Может, только на миг. В тот вечер, когда, покинув бар, мы шагали по Манхэттену, мне показалось, что я нашел свой дом.
Кэтлин проводила меня до остановки «Грейхаунда», и мы распрощались.
Она настояла на том, чтобы я принял в качестве подарка браслет из черных кораллов, который она сама сделала. И когда перед тем, как сесть в автобус, я сказал: «Я сожалею», она взглянула на меня и ответила фразой, которую я никогда не забуду:
– Франческо, твоя настоящая проблема не в Элизе иначе бы ты ее уже решил, и этим решением могла бы стать я. Подумай об этом и постарайся понять, почему у тебя все не так.
Эти слова в первый раз вышибли дверь, начальную в длинном ряду дверей, которые мне предстояло вышибать ударом плеча.
Я всегда считал, что в моей жизни все происходит случайно и мы сами придаем смысл событиям после того, как они имели место. По моей версии, Кэтлин и я познакомились случайно, и смысл нашей встречи я понял гораздо позже. С ее помощью материализовались мои навязчивые идеи, вынудив меня бороться с ними. Она сделала со мной то, что делала со своими скульптурами. В них уже все есть, говорила она мне, я только отсекаю лишнее. Лишним было все то, что заставляло меня думать, что моя единственная проблема – смерть Элизы.








