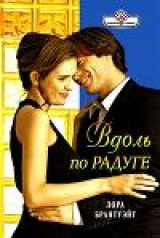
Текст книги "Вдоль по радуге"
Автор книги: Лора Брантуэйт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
1
Город жил своей неспешной жизнью, и ничто не могло нарушить ее размеренного ритма. Это так обычно для маленьких городков, и не важно, о какой стране идет речь: об Австралии или Голландии, о Мексике или Франции… Все течет, все меняется – но в то же время по большому счету не меняется ничего. Те же короткие, неширокие, будто ножом вырезанные из картона улицы, те же дороги, те же тонкостенные домики – и как только они до сих пор стоят? В этих домиках жили и умирали люди, но до того, как они умирали, они рождали и растили детей, и их дети занимали в свою очередь другие домики, и там тоже рождали, и растили, и умирали… Человеческие жизни текли и изменялись, но город стоял, хотя и маленький и неказистый, – он стоял непоколебимо. И не было ему дела до того, что творилось с людьми.
А с людьми определенно что-то творилось.
Если бросить в озеро камень, вода взволнуется, пойдет кругами, но с берегами и дном не произойдет ничего.
Камень был брошен. И с городом не стало ровным счетом ничего – но вот люди, люди… Как текучая, подвижная масса воды, они пришли в движение, и по всему Огдену разошелся шепоток: странная, странная новенькая.
«Новенькой», чтобы ее прозвали странной, не нужно было иметь третий глаз во лбу, ходить по улицам босиком или говорить стихами. Ей достаточно было приехать в Огден, причем приехать, чтобы поселиться. Огден – местечко из тех, куда не приезжает никто и никогда, или же приезжает на несколько дней, чтобы вкусить красот природы и укатить восвояси.
Но нет, Кэтрин Данс– весь городок в два дня уже знал ее имя – приехала в Огден, чтобы жить здесь. Последние «поселенцы» появлялись здесь года три-четыре назад, правда, исчезли где-то через полгода или год, что и понятно: работы мало, развлечений – еще меньше, пейзажи вокруг городка – на любителя, красивый, но суровый край гор и пустынь. Не место для одинокой молодой женщины, тем более одинокой молодой женщины с ребенком; те, кого ничто не держит, изо всех сил рвутся в города покрупнее, в Солт-Лейк-Сити, например, а не в заштатный, «одноэтажный» городишко. И что только могло ее привести в эту глушь?
День выдался прескверный. Грэй Грэхем не любил дождя, видимо, душа его была чужда поэзии. Крупные, протяжные капли, что сеялись с небес, не рождали в нем сладкой тоски по уюту и не дарили ему умиротворения, напротив: они раздражали его, частый тихий перестук по лобовому стеклу машины будил в нем досаду и злость, а уж когда он вылез из своего «мустанга» и дождь настойчиво и бесцеремонно полился ему за шиворот, – Грэй и вправду готов был проклясть все на свете, и круговорот воды в природе в первую очередь.
Впрочем, о естественном круговороте воды Грэй имел очень расплывчатое представление, так как в школе звезд с неба не хватал, устройство мира его особенно не интересовало, уроки естествознания он пропускал мимо ушей так же, как и все остальные, кроме физкультуры, потому что физкультуру надо не «слушать ушами», а «делать руками и ногами». Руки и ноги у него работали преотлично, что и дало Грэю возможность развернуться на бейсбольном поле, то есть поприще. Грэй принадлежал к числу тех людей, которые сами лепят свою судьбу, а потому он свою «возможность» превратил в «звездный шанс», воспользовался им – и действительно стал звездой. В масштабах Огдена. Благоразумие у Грэя всегда одерживало верх над честолюбием, поэтому на большее он и не рассчитывал: жил себе преспокойненько, почивал на лаврах «лучшего бейсболиста» трех сезонов, клеил хорошеньких, по-провинциальному непритязательных девушек, которые почитали за счастье прокатиться с «та-аким па-арнем» в кино или появиться на вечеринке… И был вполне доволен жизнью.
Его бейсбольный талант, надо сказать, поспособствовал не только его личной жизни и спортивной карьере – Грэй еще и образование умудрился получить. В тот год, когда он окончил школу, команда университета Вебера как раз пребывала в полном упадке и ждала своего спасителя, как истовые сектанты – нового мессию. И он пришел… Грэй, который в силу своего равнодушного отношения к граниту науки даже и не думал о высшем образовании, стараниями тренера университетской сборной и сложной цепи знакомых, которая их связывала, угодил на отделение социологии и управления и спустя четыре года даже получил диплом бакалавра. Диплом ему не пригодился, а вот возможность играть на университетском поле – очень даже. Так что Грэй убежденно верил: что ни делается, все к лучшему.
Это было некое знание из тех, что прекрасно работают вообще, в масштабах лет и даже десятилетий, разводов, родов и измен, но абсолютно неприменимо к мелочам. По крайней мере, что хорошего в этом досадном дожде, Грэй никак не мог увидеть…
Хотя, может быть, смысл всего этого небесного мероприятия с бледно-свинцовыми тучами и каплями, которые сеются сверху, как мука через сито (Грэй видел такое, его бабушка была очень щепетильна в вопросах кулинарии и потому пекла лучшие в Огдене пироги), заключался в том, чтобы под крышей непритязательного кафетерия Грэю довелось встретиться с единомышленником.
Единомышленник приходился ему также однокашником и лучшим другом. Сейчас, правда, они с Грэем пребывали в ссоре. Ссоре исполнилось всего-то три дня, но она грозила перерасти в долгий, на несколько недель, муторный конфликт: повод был слишком уж серьезен. Точнее, серьезен он был в глазах общественности, а Грэй и Сэм просто шли на поводу у этого распроклятого «а что люди скажут».
Дело в том, что три дня назад Сэм отмечал свой двадцать восьмой день рождения. Сам он не отличался выдающимися талантами, которые так или иначе привели бы его в стены университета, а потому работал скромным менеджером в книжном магазине, но с Грэем его связывала долгая, со времен детского сада, дружба. Дружба бывает порой очень неравноправной, например, когда один из друзей – звезда, а другой – простой обыватель, но Сэм считал, что даже такое отношение («я всегда первый, а ты всегда последний») лучше, чем полное отсутствие отношений. Кроме Грэя, близких друзей у него не было, но он полагал, что это вполне справедливо: нельзя, чтобы одному человеку выпало счастье иметь много друзей, среди которых был бы сам Грэй Грэхем… Так что Сэм мирился со своей участью «младшего товарища» (как это называлось, когда Грэй пребывал в добром расположении духа) и как мог выражал ему свою преданность.
Но всякому смирению и терпению когда-нибудь приходит конец.
Как оказалось, источник смирения в его сердце иссякаем. Произошло нечто такое, что заставило Сэма поднять бунт на корабле. И не то чтобы Эвелин была любовью всей его жизни… Да, красивые ножки, ротик и глаза тоже ничего, да и встречались они – нешуточное дело – уже три месяца, однако по большому-то счету ничего особенного, таких в меру хорошеньких девчонок миллионы.
Но нельзя, невозможно терпеть, когда твой самый-лучший-на-свете-друг на глазах у всех тридцати человек (рекордное число гостей для скромного дома Сэма) клеит и уводит твою девушку!
Сэм не стал терпеть. Правда, ему пришлось изрядно себя накрутить, но в конце концов он преуспел – в этом ему помогли два бокала вина, – и устроил скандал. В лучших традициях. С оскорбительными воплями, разбитой посудой и даже коротким мордобоем (Грэй скрутил его в пятнадцать секунд). В общем, гости были довольны. Многие уходили домой с насмешливыми (мужчины) или мечтательными (женщины) улыбками на устах. Еще бы, такая славная история, такие сладкие пойдут сплетни…
Грэй уехал раньше всех, демонстративно прихватив с собой Эвелин.
Сэма посетила смутная догадка, что она была рядом с ним главным образом потому, что иногда он брал ее в компанию Грэя Грэхема.
– И замечательно, что он избавил меня от этой мелкой шлюшки, – говорил он после, уже сам себе, полулежа в кровати с бутылкой пива в руке. Дрянь это – пить пиво после вина и шампанского, к тому же в гордом одиночестве, к тому же в свой день рождения, а что делать?
Пожалуй, если бы Грэй сделал это по-тихому, ну в крайнем случае в узком кругу, Сэм еще и спасибо бы ему сказал. Подулся-подулся, а потом сказал. Или с самого начала сделал бы вид, что ничего не произошло. А так… гнусно получилось. Когда Сэм был маленьким, его тетка как-то сказала ему, что у него больное самолюбие. Кажется, дело было в том, что он наотрез отказался идти на детский праздник с распухшим от пропущенного мяча носом. Это было еще до того, как он близко сошелся с Грэем. В последующие годы он с усмешкой вспоминал этот случай. Если у него и больное самолюбие, то уж не в смысле «ранимое», а в смысле «странное до крайности».
В общем, это странное до крайности самолюбие, которое он долго и старательно заталкивал в самые отдаленные уголки своей души, иногда вдруг неожиданно давало о себе знать. Выпирало наружу, как воздушная подушка в автомобиле его дяди… Вот и на этот раз тоже. Спустя ночь и полдня Сэм уже искренне корил себя за то, что так бурно отреагировал на… мм… бестактность Грэя и беспардонную подлость Эвелин. Если бы он вовремя себя обуздал, у него сейчас не было бы девушки, но был бы друг. А так – ни того, ни другого.
Об этом Сэм печалился и теперь, сидя в кафешке и поедая свой ланч под тихий шум дождя, громкое урчание допотопных кофе-машин и каких-то еще машин на адской кухне, которая располагалась прямо за стойкой кассы, и выкрики официантки-кассирши. Сегодня дежурила Мэган, самая голосистая из всех девушек в «Одиноком желуде». Этого недостатка не покрывал даже внушительных размеров бюст, очень мягкий на вид (изрядная его часть виднелась в вырезе форменной блузки).
Сэма удручало все, начиная с того, что ему уже стукнуло двадцать восемь, и на носу уже кризис тридцати лет, то есть пора бы задуматься о том, что работа так себе, ни дома своего, ни жены, и заканчивая дождем. Естественно, шум в запруженном любителями дешевых и калорийных ланчей кафе включен в список.
Когда Грэй вошел – стеклянная дверь, тугая, между прочим, распахивается, и на пороге появляется он, в футболке с темными пятнами от воды и до крайности недовольным лицом, – Сэм напрягся. Это естественно: любой самец напрягается, когда видит самца крупнее, сильнее и опаснее себя. Самки, как правило, реагируют обратным образом: расслабляются. Это и понятно: сильный самец для другого, более слабого, – угроза, а для самки – надежда. На счастливое продолжение рода и собственную безопасность под его могучей защитой.
Спасаясь от чувства опасности и напряжения, с ним связанного, Сэм всегда стремился быть к Грэю поближе. Вот и сейчас он ощутил почти непреодолимое желание подняться ему навстречу или хотя бы небрежно эдак махнуть рукой.
Грэй его увидел почти сразу и насупился пуще прежнего. Как будто это ему, а не Сэму, приходится тональным кремом замазывать скулу с кровоподтеком, чтобы покупатели не пугались.
За синяк он обижался едва ли не больше, чем за Эвелин.
Мысль об этих двух неприятностях навеяла на Сэма такую тоску, что ему захотелось напиться пива, устроить пьяный дебош и никогда не вернуться на работу. Пусть его уволят, тогда уж точно никто не посмеет смеяться над внушительным списком его неприятностей.
Он сделал вид, что смотрит вовсе не на Грэя, а куда-то ему за спину. Вроде бы и взгляд отводить не нужно, но и в глаза можно не смотреть…
И Грэй никогда не подошел бы первый, если бы проклятый дождь не разбудил в нем досады, которую нужно было куда-то излить. Может быть, он отчасти даже искал продолжения ссоры. И еще ему было чуть-чуть, самую капельку, стыдно перед Сэмом. Все-таки девиц вроде этой Иви, Евы или Лины у него может быть сколько угодно, а Сэм – только один.
Заказывая у стойки двойной салат из свежих овощей, двойной бифштекс без гарнира и большую диетическую колу – как-никак за формой надо следить, – он обдумывал, с чего бы начать.
Размышления его вылились в хрипловатую от легкого неудобства, отрывистую фразу:
– Ну, как жизнь?
Фразу эту он бросил Сэму, как иногда зарвавшаяся и злая, как фурия, уборщица в кафе бросает перед носом у клиента тряпку на стол – прежде чем с усилием, но без усердия его протереть.
Вслед за приветствием последовал поднос с условно-диетическим ланчем. Грэй явственно продемонстрировал Сэму, что намерен расположиться именно здесь. И если Сэм имеет что-то против, то это его, Сэма, личные проблемы.
Однако если у него и имелись некоторые опасения по поводу того, что Сэм станет возражать или как-то еще выразит свое недовольство, они оказались совершенно напрасны: весь запас бунтарства, которым обладал Сэм, уже иссяк. Он был безмерно счастлив тому, что друг, который едва не перешел в разряд бывших, все-таки вот-вот снова станет лучшим. Ему пришлось держать себя в руках, чтобы не выплеснуть на Грэя весь свой восторг по этому поводу.
– Нормально, – сдержанно сказал Сэм и многозначительно вздохнул. Вздох должен был обозначить печаль по поводу того, что они с Грэем повздорили, но в нем уместилась еще и радость от нежданной-негаданной встречи. – А ты как?
– В порядке, – буркнул Грэй.
На этом этикетный разговор можно было считать законченным. Повисло молчание. Грэй сделал большой глоток колы.
– Кхм… Как закончился день рождения? – неуклюже поинтересовался он. Непонятно, что это было: задиристая грубость или «мостик» к примирению.
– Да-а… – Сэм неопределенно пожал плечами. День рождения закончился по-настоящему скверно, и ему не хотелось вдаваться в подробности. – Гости разошлись довольно рано, ничего особенно интересного больше не было.
– Ясно, – буркнул Грэй. – Ты… это… девица та звонила тебе?
– Какая?
– Ну… твоя.
– Моя бывшая? Нет, не звонила. И черт с ней. – Сэм насупился.
– И правильно. – Грэй хотел было добавить, что незачем уважающему себя мужчине путаться с девицами легкого поведения, которые, не думая дважды, готовы в любой момент прыгнуть на шею – и в постель – к другому, но сдержался. Все-таки он хоть чуточку, да виноват. – Мы тебе новую найдем, получше, посимпатичнее. Не переживай.
Сэм хмыкнул и покраснел от удовольствия. С ума сойти, Грэй заботится о нем!
– Моя тетка говорила, что у нее соседка новая. Приезжая. Хорошенькая – прелесть. Она ее, конечно, мне сватала, но мне не надо: по всему видать, умная очень, да к тому же с ребенком. А тебе, может, и подойдет: ты ж у нас голова…
Сэм ушам своим не верил. Грэй, бывало, знакомил его с девушками из своих бывших, но это происходило как правило случайно и никаких последствий не имело.
Грэй со своей стороны сам не вполне понимал, что такое говорит, но все равно говорил – может быть, это был тихий и неуверенный голос его совести. В кои-то веки она проснулась… Возможно, если бы он чаше с ней общался, то научился бы как-то противостоять ее требованиям, а так – был абсолютно перед ней беззащитен.
– Она врач, – продолжил он с удвоенным энтузиазмом: молчаливая, если не сказать немая, радость Сэма его и забавляла, и умиляла. – Блондинка. И очень деловая, и машину водит аккуратно, и как мать заботливая.
– Ну у тебя и разведка, – вздохнул Сэм.
– Не разведка, а тетка. А это, сам понимаешь, еще надежнее. Кстати, думаю, тетя Пэт с восторгом возьмется и за твое сватовство, если ей намекнуть. Ты ей, помнится, приглянулся.
Сэм сглотнул, вспомнив маленькую сухощавую женщину, из которой энергия била ключом и еще иногда – крупными искрами, почти что с треском, как когда проводка сгорает… Она напоминала небольшой своевольный ураган, сопротивляться которому абсолютно бесполезно. Все события, люди и вещи с ее появлением начинали вращаться вокруг нее. Сэм подозревал, что, если к ней поднести компас, стрелка взбесится и пойдет плясать кругами. Магнитная аномалия по имени Пэт…
В свое время она произвела неизгладимое впечатление на Сэма, когда ущипнула его за щеку, будто десятилетнего школьника, чтобы проверить, как у него с кровообращением, и мимоходом проинспектировала чистоту воротничка, пробормотав: «Сразу видно, холостяк, надо передать в надежные женские руки».
Сэм подозревал, что уж она-то передаст,стоит ей только захотеть по-настоящему. Причем в самое ближайшее время. Возможно, еще до того, как он успеет запомнить имя дражайшей дамы.
– Я бы не стал беспокоить твою тетю Пэт такими просьбами, – осторожно высказался Сэм.
– Да брось! К тому же беспокоить придется мне, а не тебе. – Грэй уже достал из кармана куртки сотовый.
Сэм прикрыл глаза, но возразить другу не решился. Все-таки Грэй старше его и добился в жизни большего, и стоит, наверное, прислушаться к его мнению. Тем более что спорить с Грэем Грэхемом, если того увлекла какая-то идея, просто бесполезно.
Он рад был, конечно, что примирение с лучшим другом произошло так легко и быстро, но на душе скребли кошки, эти маленькие когтистые создания, невероятно милые, когда сидят на коленях и позволяют гладить себя по шерсти, но совершенно пакостные, стоит их подпустить поближе к сердцу. Чутье уже подсказывало ему, что что-то будет. И это что-то наверняка отразится на его шкуре.
– Алло, тетя Пэт? Привет, да, это я, твой непутевый племянник. Послушай, у меня к тебе щекотливое такое дельце…
«Вот так Сэмюель Симмонс угодил в переплет», – с пафосом сказал сам себе Сэм.
И тут он не ошибся: Сэмюэль Симмонс действительно угодил в переплет.
2
Кэтрин лежала и смотрела в потолок. Обычно она презирала подобные занятия, но сейчас ей стало плевать на все. Она бы и в потолок плюнула, да боялась, что не долетит плевок до сероватого, давно не беленного потолка, а упадет прямо на нее, повинуясь не ее воле, а извечному закону тяготения.
Так почему-то происходило всегда. Хотя не «почему-то»… Кто такая она, Кэтрин Данс, в масштабах мироздания? Песчинка, пылинка, молекула, атом. И с чего бы событиям в мире равняться на ее волю? Абсолютно не с чего. Ветер не дует туда, куда желает песчинка, ветер подхватывает ее и несет, потешаясь, мешает с другими песчинками, перетирает, откалывая крохотные кусочки, превращает в пыль, день ото дня, час от часу. Или, напротив, – слеживается песчинка с другими песчинками, сдавливается, скрепляется, превращается в камень, крошистый, но все-таки камень.
«Когда-нибудь я умру, – подумала Кэтрин. – Может быть, даже очень скоро. Хотя какая в общем-то разница? Пять дней или пятьдесят пять лет… Век песчинки короток. Стану ли я пылью или камнем? Наверное, пылью. Камнем – не судьба, можно было бы, если бы всю жизнь на одном месте жила, держала связь с большой семьей, а так…»
Больше всего на свете Кэтрин хотела иметь большую семью.
Но – не всем нашим желаниям суждено сбыться. Не слушает ветер желаний песчинки и все тут…
Кэтрин поморщилась, ощутив легкий приступ тошноты, и перевернулась на живот. Это не очень умно, переворачиваться на живот, когда тебя тошнит, но ей хотелось сделать себе хуже. Больнее, страшнее, хуже. Чтобы стало невыносимо…
С тех пор как они с Томом приехали в Огден, она ни разу не плакала. А зря. Надо было, надо было выплакаться, вскрыть нарыв, который болел и пульсировал где-то рядом с сердцем, очень-очень близко. Но у нее не получалось. В ее глазах как будто наступила засуха. Сезон дождей прошел.
Под веками чуть-чуть скребло, как от песка, а слез не было. Она пробовала даже поднести к глазам разрезанную луковицу, но это нисколько ей не помогло. Все закончилось тем, что она, кусая губы и проклиная свой упрямый организм, мыла глаза холодной водой из-под крана.
Она уже все выплакала с Дэвидом. Ничего не осталось.
Иногда ей начинало казаться, что она выплакала и свою душу, и внутри теперь – одна пустота. И это были сладкие мгновения. Она тогда улыбалась и мечтала о том, как Дэвиду в следующий раз захочется ее помучить, а она ничегошеньки не почувствует. То-то будет весело!
Но следующий раз наставал, и все ее мечты рассыпались в прах. Она чувствовала, и еще как чувствовала, причем не только физическую боль, но и то, как мучительно сжимается что-то внутри, сжимается в маленький жалкий комок и переворачивается, как переворачивается ребенок во чреве матери. В ней ворочалась исстрадавшаяся душа.
Кэтрин и теперь приходилось трудно, но спасения в виде слез у нее не было. Приходилось стискивать зубы и быть сильной. И только иногда, в минуты никому не видимой слабости, как сейчас, например, она позволяла себе закрыться в спальне или хотя бы в ванной и тихонечко повыть, искажая сухие щеки и рот в оскале раненого животного.
Какая сложная штука жизнь. Какая простая штука жизнь. Все имеет свою причину и свое следствие, вещи, события и поступки спаяны в одну цепь, вьющуюся из прошлого и постоянно пополняемую новыми звеньями, которые образуют настоящее и будущее.
Цепь ее судьбы была основательно потравлена черными пятнами. Интересно, а могло бы все сложиться иначе? Наверное, могло бы, если бы она в нужные моменты выбирала другие шаги. Или нет?
В детстве Кэтрин мечтала о братике и двух сестричках. Как весело было бы играть с родными, такими же золотоволосыми и зеленоглазыми, как она, девчушками, играть днями напролет, засыпать в одной комнате, рассказывать друг другу смешные, таинственные и откровенно страшные истории. Как задорно они подтрунивали бы над старшим братом, с визгом бросались бы врассыпную, когда ему вздумалось бы учинить шутливую расправу, а потом все равно шли к нему со своими девчачьими трудностями и обидами, чтобы помог, объяснил, заступился.
Родители других детей не хотели. На второго, а тем более – третьего или четвертого, не хватило бы сил и времени, да и, признаться, денег тоже.
Кэтрин росла одна, страстно тянулась к другим детям, бурно дружила с ними, не менее бурно ссорилась, детская ее жизнь расцвечена была яркими вспышками ликования и счастья – и горьких обид и даже драк.
И все же это не удовлетворяло ее острой тоски по родным братьям и сестрам.
По вечерам, перед тем как лечь спать, она читала книги вслух. Мама с папой были весьма довольны: они с большим облегчением переложили эту обязанность на саму Кэтти. Кэтти не требовала, чтобы с ней кто-то сидел перед сном. Она воображала, что читает для своих маленьких сестричек и те слушают ее затаив дыхание.
В мире ее фантазий у нее был шумный, веселый дом, полный детского смеха, звука легких бегущих шагов и звонких голосов.
Ее родители к детской беготне и неудержимому хохоту, а также голосистому плачу и играм относились иначе. Они называли это «трудностями» и делали из «трудностей» главный аргумент в пользу того, что трое человек – уже полноценная семья и большего не надо.
Однако дом все же сделался шумным. Там стали много шуметь, но не дети… Так шумят в доме, где живут озлобленные, уставшие друг от друга люди, которые никак не могут что-то поделить и не хотят решать вопрос миром. Когда причинить боль другому человеку становится важнее собственного покоя, дело плохо.
Когда ей было десять, отец с матерью развелись. Бывают расставания тихие, можно сказать, полюбовные, когда люди понимают, что вместе им много хуже, чем было бы поодиночке, и дальше мучиться не стоит. Они тогда расходятся с миром и остаются едва ли не друзьями, и жизнь их дальнейшая течет спокойно, лишь чуть-чуть приправленная горчинкой-печалью. Но бывает иначе: мелкие ссоры превращаются в скандалы, скандалы становятся крепче и злее, как мороз на Аляске, раз от разу выплескивается в них все больше злости, и, как ни тяжело это, все больше злости остается внутри. Скандал, подобно снежному кому, катится под откос неудержимо, пухнет, набирает скорость, набирает силу и падает вниз холодной, колючей массой острого, мокрого, неприятного снега. Будто лавина сошла.
Такая лавина и погребла под собой родителей Кэтрин. Когда-то она старалась забыть тот ужасный период бурливой ругани, что предшествовал разводу, и как превратилась в истеричку ее некогда веселая и энергичная мать. Воспоминания поблекли, но осталась тяжесть на сердце и беспрестанная, беспричинная тревога, терзавшая ее каждую минуту жизни. Кэтрин поняла, что забывать нельзя, лучше помнить, отчего больно, чтобы не считать себя сумасшедшей и не строить у себя в голове болезненный мир, где все вещи и события разрозненны и ничто не имеет причины и следствия.
Когда ей исполнилось тринадцать, мать погибла в автокатастрофе. От отца уже почти два года она не получала ни писем, ни подарков, ни даже открыток к Рождеству и дню рождения. Где он и что он там делает, ей было неизвестно, и она со всей яростью озлобленного и обиженного подростка уверяла себя, что ей это неинтересно, но часто просыпалась в горячих слезах на холодной сырой подушке: ей снились сны о том счастливом времени, когда они с папой и мамой жили вместе, ездили за покупками по выходным и слова «развод» она не знала.
Кэтрин забрала к себе бабушка, добрая в общем-то, очень религиозная и при этом страшно ворчливая женщина. Кэтрин, как и положено подростку, бунтовала против запретов, которые стали теснить ее, как те свинцовые пластины, которые в средневековой Испании накладывали на ночь девочкам на грудь, чтобы вырастали похожие на мальчишек фигурой – по моде. Как и любой подросток в свои самые злые, нервные годы, она чувствовала, что бабушке не хватит сил, чтобы сломить ее враз прорезавшуюся волю, и при других обстоятельствах, может быть, стала бы совсем несносным существом. Но Кэтрин чувствовала также – то ли сердцем, то ли совестью, кто знает, что есть в нас такое чуткое и мудрое? – что бабушка единственный родной ее человек, человек, в котором теперь заключается вся ее мечта о семье. Маленькая семья, посмотреть грустно, а все же – много лучше, чем ничего.
И Кэтрин бунтовала… вполголоса.
И это «вполголоса» крепко привязалось к ней, вошло в ее жизнь, в манеру держаться, говорить и действовать. Прошло время, из разумной, говорливой и быстрой в мысли и движениях девочки, из беспокойного, зло сверкающего глазами подростка с недевичьими желваками на скулах Кэтрин выросла в неразговорчивую, замкнутую девушку, строгую и серьезную, которая всю энергию, что прежде свободно лилась из нее, направляла на учебу.
Училась она, можно сказать, с остервенением, просиживала над книгами дни и ночи, спала с учебником химии, вместо Библии читала «Естественную историю» и решала задачки по генетике, лежа в горячей ванне. Ребята, с которыми она училась, считали ее малость сумасшедшей, девчонки втихомолку посмеивались, но если кто-то шел на открытую провокацию, то в ответ получал только рассеянный, ничего, кроме легкого презрения, не выражающий взгляд. Кэтрин была по-настоящему красивой: высокая, с тонкой, костью, лебединой шеей и умопомрачительно длинными ногами; классически правильное лицо украшали огромные зеленые глаза в густой опуши ресниц, под тонкими изломами бровей. Но красоту она никогда не считала своим главным достоинством, точнее, наверное, не обращала на нее внимания. Умопомрачительные ноги всегда скрыты были под длинными, до пола, юбками, которые любовно выбирала для Кэтрин бабушка, или в бесформенных джинсах, которые выбирала она сама. Глаза и губы не знали косметики, а золотистые волосы она долгое время стягивала в невзрачный хвост, а потом и вовсе коротко остригла. Ее не приглашали на свидания, она носила титул самой непопулярной девчонки в параллели, но, если Кэтрин это и заботило, она своей печали ничем не выдавала. Еще бы, ей же лучше: меньше развлечений – больше времени на книги.
На уроках литературы она была странной, молчаливой… звездой. Художественные произведения она любила не меньше научных опусов, читала страстно, запоями. Говорить не любила, отвечала, если ее о чем-то спрашивали, тихо и немногословно, но вот сочинения, сочинения… Их обычно читали вслух, но не она сама, а мистер Картленд, преподаватель, или Эмили Лангвайр, которая небезосновательно метила в актрисы: талант у нее был, и немалый, для Денвера, по крайней мере.
Кэтрин окончила школу, имея в аттестате высший балл по всем предметам, кроме физкультуры, и получила стипендию от муниципалитета для продолжения образования, она без всяких сомнений отослала документы в университет Денвера, и ее так же без сомнений туда зачислили. На медицинский факультет.
Кэтрин задумчиво закусила уголок подушки. Интересно, а если бы она, скажем, подалась в Новый Орлеан? Или в Нью-Йорк? Или на Аляску? Могла бы ее жизнь сложиться иначе? Или Дэвид всё равно, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, рано или поздно оказался бы в то же время и в том же месте, что и она?
Ей этого никогда не узнать. Все было, как было. И глупо сожалеть о прошлом, тем более когда в нем столько счастливых моментов…
Кэтрин вспомнила своего наставника профессора Роунсона, первую практику в больнице, сладостно-мучительный год после университета, когда она жила при больнице и работала все время, когда не спала, а иногда и вместо сна, то человеколюбивое вдохновение, знакомое врачам и миссионерам, когда трудишься для других, забывая себя, вспомнила триумфальную защиту диссертации и…
И, конечно, первую встречу с Дэвидом.
На тот момент она была очень молодым – всего-то двадцать четыре! – специалистом, подающим большие надежды – еще бы, защищенная диссертация по онкохирургии!
А еще она была очень одинокой двадцатичетырехлетней девушкой, не женщиной, потому что девственность ее до сих пор никто не востребовал.
А природа неумолима и требовательна, и особые требования она предъявляет к женщине, и Кэтрин уже начала задумываться о своей «биологической бесполезности» и оглядываться на чужие коляски.
И подоспел день рождения подруги, Мэдлин, одной из первых, с кем Кэтрин подружилась в университете. И если бы она выпила на один бокал вина больше, то, возможно, все пошло бы иначе. Она тихо продремала бы до конца вечера на диванчике в углу, потом подруги вынесли бы ее из бара, усадили в такси, довезли до дома, уложили спать, и на следующее утро она проснулась бы с больной головой, выпила таблетку аспирина и пошла бы на работу, как всегда… Но нет же.
В тот вечер она выпила вина. Чуть больше, чем обычно, но ненамного, правда. Однако именно это «ненамного», каких-то полбокала кьянти, сыграло с ней шутку, которая затянулась на шесть долгих лет. Они развязали ей язык и зажгли дьявольский огонек в глазах, разрумянили щеки и добавили ленивой грации обычно сдержанным движениям. Кэтрин из строгой, одержимой медициной девицы превратилась в привлекательную сексуальную девушку, которая ищет приятных приключений. И она нашла себе приключение. Конечно, это было наполовину случайно…
Но дальше события развивались, как в захватывающем фильме. Конечно, «захватывающим» этот «фильм» можно было назвать только в масштабах жизни Кэтрин. У других подобные вещи случаются нередко и особой ценности не имеют. Но для Кэтрин этот вечер перевернул все.








