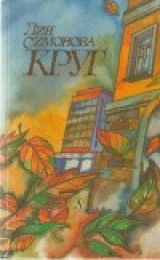
Текст книги "Круг"
Автор книги: Лия Симонова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Когда зашла речь о дерзкой выходке Холодовой, о ее угрозах и сердечном приступе Виктории Петровны, неожиданно для всех слово попросила бабушка. Та самая, о которой директор школы подумала: «Что скажет бабушка?» Поднялась и уверенно сказала:
– Я выступать не приучена. И не умею я… Так что уж не обессудьте… Я коров доить умею. Сено косить. Хлеба ро́стить (она сделала ударение на первом слоге). Но сына я поднимала сама, без мужа. Потому что он, как тут рассказывали о себе другие, пал тоже смертью храбрых. – Чувствовалось, что она очень волнуется. Несколько угловатым для пожилой женщины движением поправила она и без того строго зачесанные назад волосы и стала совсем похожа на свою внучку Олю Холодову, – Что я хочу сказать?.. Не понятно мне, отчего вы детей «трудными» называете? Мне, грешнице, кажется, что родители нынче трудные… – Она недовольно покачала головой и на мгновение вроде бы задумалась. – Смотрите, что делается-то?! Не успеют родить, не покормят как положено – все молока у них нету, – тут же ребеночка в ясли от себя отымают. Ну, потом, как положено, сдают в детский сад, да еще на эту… пятидневку, что ли… Потом, пришло время, снова сдают, только уже в школу. И даже после занятий, – она едва сдерживала возмущение, видно не один день копившееся в ней, – оставляют в школе на продленку, так вроде у вас называется?.. И ребенок, извините меня, так и пасется долгие годы на далеком выгоне… И забывает, чей он, откуда…
Она передохнула, но раз уж отважилась, то продолжала:
– Домой-то его почти и не приводят. Заглянет и уж скорее на фигурное катание, или на музыку, или еще куда. Вроде для ребенка благо, а мне кажется, больше для себя покой. Чтоб не мешал, не путался под ногами. Ребенок отвыкает от дома и от родителей своих отвыкает. Что ж это такое? А теперь, если с другой стороны посмотреть… – откинула она худую руку в сторону и вдруг подбоченилась, – и фигурное, и музыка, и кружки, и лучший кусок, и самая лучшая одежка и обувка – все для него, ненаглядного! А от него что же? Да ничего. Ни для кого. Вот как получается! Ухаживают, а урожая не ждут. По-хозяйски ли это?
Она растерянно обвела всех присутствующих пытливым взглядом. Слушали ее внимательно и с почтением, и она, немного успокоившись, продолжала:
– Вы подумайте, подумайте: ребенку с товарищами-то и побыть некогда. Поиграть или погулять. Занятой он, почитай, с пеленок. Что ему товарищи! Ребенок занятой, а уж о родителях и говорить не приходится! Хороший у меня сын, роптать грех. Он и в своем деле мастер, и человек заслуженный, депутат народный… Но больно уж он… Как сказать-то, и не подберу слова… Возвеличенный, что ли… Хоть и сын мне родной и любимый, но не знаю я, как к нему и подступаться, а девочка, что ж, она тем более теряется… Вот мы с нею перед дедовой карточкой сядем вечерком, погрустим, вроде как с ним, с дедом-то, погибшим в войну, потолкуем… А у сына спросишь: «Как там, сынок, не учудят ли новую-то войну, упаси бог?!» Он ближе все-таки к верхам, ну и поинтересуешься. Он отвечает по-газетному: про «происки империалистов», «про несовместимость систем», – а газеты-то я и сама читаю, я же грамотная… – И так же неожиданно, как начала, быстро заключила: – Ну, вы уж извините меня, задержала я вас, мне б не надо. Да только теперешним родителям почаще надо бы вспоминать, что есть у них дети. И трудные, и нетрудные, они ваши дети. Они наши дети, – повторила она. – И кто ж это, посеяв рожь, ожидает пшеницу?..
И после нее уже нечего было да и не хотелось говорить.
– А бабуля-то у Холодовой – философ! У них это, должно быть, наследственное, – сказала Надежда Прохоровна Анатолию Алексеевичу, – Прямо как у Федора Михайловича Достоевского: «Войдем в зал суда с мыслью о том, что и мы виноваты». Молодец, бабуля! Все верно: они наши дети. Трудные дети трудных родителей. В очень непростое время…
– Время собирать камни?.. – не то размышляя о чем-то своем, не то спрашивая, откликнулся Анатолий Алексеевич, не стремясь продолжить разговор.
6
Через несколько дней Холодова, умышленно прогуливающая занятия, как ни в чем не бывало возвратилась в школу. Никто не спросил у нее, где она была? Что с ней? Ее возвращение не заметили.
– Я не знаю, что должен делать учитель, когда ученик угрожает ему? – сухо пояснила свою позицию Надежда Прохоровна, и Анатолий Алексеевич увидел на ее лице следы бессонных ночей. – Когда я не знаю, как поступать, я не поступаю никак. Не обессудьте. Не вступать же мне в противоборство с девчонкой на равных. Хотя я больше для нее не учитель: грубостью и угрозами она лишила меня этого права. Понимаете? Это страшно.
Анатолий Алексеевич попытался поговорить с Холодовой:
– Тебе не жалко Викторию Петровну? Ей плохо…
Холодова посмотрела на него безжалостными, немигающими глазами:
– Она сама создала ситуацию. – И в голосе ни единой теплой нотки.
– Но теперь она больна, тебе не хочется ее навестить?
– Я не думаю, что она обрадуется мне.
– Оля, но ты же умный, для своих лет немало образованный человек, как можешь ты быть такой грубой, жестокой?
Холодова надменно пожала плечами:
– Я защищаюсь… Понимаете? Защищаюсь…
– Но ты все же должна…
– Я никому ничего не должна, – отрубила Холодова и посмотрела в упор, не пряча и не отводя жесткого, непрощающего взгляда.
Анатолий Алексеевич, как и прежде, почувствовал, что теряется перед этим взглядом. Как-то в случайном разговоре он услышал от пожилой женщины: «Да, эти не извиняются и не благодарят…» Пожалуй, что так, не извиняются и не благодарят. Но, стараясь понять их, прежде всего понять, он не спешил с осуждением. И, несмотря ни на что, его симпатии оставались все же на их стороне.
Да, они бунтовали, они позволяли себе неслыханные по отношению ко взрослым дерзости, они не щадили и не оглядывались, но и сами страдали. Взрослые, умудренные опытом, педагогическими знаниями, немало напутали, создав и все время усугубляя сложности в отношениях с ребятами. Да и время выпало на их взросление не такое уж легкое…
– Разве ты не благодарна Виктории Петровне? – пытался пробудить хоть какое-то малое чувство в душе Холодовой Анатолий Алексеевич. – Она учила тебя…
– Чему учила? – вызывающе спросила Холодова. – Хамству? Жестокости? Демагогии? В чем же вы меня упрекаете? Лучше задумайтесь, чему и как нас учат?! – Она посмотрела на Анатолия Алексеевича с такой недетской снисходительностью, словно она, а вовсе не он, была учителем. – Андрей Платонов предостерегал всех: люди – не пыль, больно одному – больно всем, и все мы единое целое – человечество! Его не хотели слушать. Его заставляли молчать, обрекли на неизвестность. То, что хотел сказать писатель, не совпало с законами революционной целесообразности… Вот о чем мы должны были говорить на уроке литературы. Об утраченной нравственности… И Кожаева пыталась это сделать. Но Ирина Николаевна боится об этом… И требует, чтобы мы рассуждали о поведении героев из рассказа «Третий сын», как это делают бабки на скамеечке у подъезда, сплетничая о соседях…
Анатолий Алексеевич замер, пораженный глубиною суждений так рано повзрослевшей девочки по прозвищу Сократ. А она тем временем с остервенением схватила портфель, как всегда, когда убегала от опостылевших ей разговоров и вздорных ситуаций, и совсем недевичьим твердым шагом удалилась.
Теперь почти каждый день и на переменах, и после уроков приходилось Анатолию Алексеевичу вести с ребятами беседы, которые заставляли его жить в постоянном напряжении и так утомляли и опустошали, что он сваливался без сил, едва добравшись до дому.
– Добро и Истина разные вещи? – без конца задавал свои вопросы Пирогов. – Если счастье заключено в служении Идеалам, так ли необходимо забывать ради них о человеколюбии, всепрощении? Чему я должен служить – Идеалам или Добру?..
Как ответить? Сказать о противоречии двух моралей?.. Но Пирогов будто и не ждал ответа, он размышлял вслух о том, что и самого Анатолия Алексеевича волновало уже давно. Только он задумался об этом гораздо позже, чем мальчик в «терновом» венце из блестящих вертушечек с детской игрушки-флюгера.
Его ученики взрослеют гораздо быстрее, чем когда-то его сверстники, и души их не распахнуты настежь с юношеской откровенностью. Все, что их по-настоящему волнует, они старательно прячут от чуждого, непонимающего взгляда. Ему они доверились, но и с ним из осторожности, ставшей уже привычкой, шутовствуют, когда откровенничают.
– Зачем идти на занятия, если неинтересно? – спрашивает самый хмурый из всех сутуловатый подросток Слава Кустов, нацепив на голову дамский платочек и давясь пирожком с мясом. – Зачем я живу, если я несвободен? Если мне никогда, не только сейчас, не позволят заняться ничем всерьез? Так и будет зависеть мое настроение от особы дамского пола или, того хуже, от начальника?
Чем утешить? И надо ли утешать?..
Должен ли он навязывать им душевное равновесие? Примирять с жизнью, друг с другом, со взрослыми?..
Как-то Анатолий Алексеевич спросил у Киссицкой:
– Почему ты так не любишь Дубинину?
Киссицкая равнодушно пожала плечами, но глаза ее сделались злыми.
– Вы ее не знаете. Я болела, так она тут же перебралась за парту к Пирогову. Я вернулась, говорю ей: «Пересядь, пожалуйста, на свое место». Она согласилась: «Хорошо, пожалуйста». А когда Игорь вошел в класс, она ему говорит: «Игорек, нас просят пересесть». Он и пошел вслед за ней на ее прежнее место. Мы с ним ссорились, он подумал, наверное, что я не хочу с ним сидеть. А она… она на этом сыграла… – И в глазах Киссицкой уже злые, непрощающие слезы.
Тогда он спросил у Дубининой:
– Зачем ты так с Киссицкой?
Олеся в ответ презрительно улыбнулась:
– О-о, вы ее еще не знаете! Идем мы тут как-то из школы с Пироговым. Она ни с того ни с сего подходит и спрашивает у меня: «Ты Сократа читала?» Я даже растерялась от неожиданности. «Читала, – говорю, – не меньше твоего». А она ухмыльнулась язвительно-снисходительно, ну, вы знаете как. И говорит, поглядывая на Игоря: «Интересно, как это ты прочитала Сократа, если он не написал ни строчки?» Я говорю: «Как же ты его прочитала?» А она: «Ну, я совсем другое дело. Я знаю, что у него был ученик, по имени Платон, тоже ничего философ. Так вот Платон постарался сохранить для человечества мысли Сократа». Как вам это нравится? Для Пирогова выставляется! И меня перед ним хочет унизить! Смотри, мол, какая дурочка! Перевернула бы я ее вверх ногами, чтобы вытрясти из головы всю ее мудрость!..
Анатолий Алексеевич видел всего лишь досаду и не предполагал, что дикая мысль станет началом случившейся позже трагедии.
7
Дневник Вениамина Прибаукина, таинственно исчезнувший из его портфеля, не менее таинственно водворился на прежнее место. От этого Вениамину не стало спокойнее. Кто-то все же вытащил из портфеля и читал его дневник и, значит, узнал его сокровенные мысли. Кто же этот злодей?
Приключение с дневником, словно камень, резко брошенный в воду, взбаламутило и без того не похожую на тишь да гладь обстановку в классе. И пошло, пошло кругами.
– Кися, как ты думаешь, – пристал Венька к Киссицкой, – ты у нас такая у-умная, кто бы мог похитить мой дневник?
Киссицкая пробовала отшучиваться, вспоминать про «запретный плод, который сладок и стал яблоком раздора», а потом вдруг обозлилась не на шутку и, чтоб отвести от себя удар, сказала с вызовом:
– Отстань, Веник, не там метешь. Кто взял? Кому больше всех интересно…
– Кися, – одобрил Веник, – ты Цицерон! Только вот что, Цицерон, помалкивай в тряпочку! Словом, лозунг такой: «Цыц, Цицерон!» – И, вытащив из-под стола вечно торчащие длинные ноги, как тигр, нацелившийся на антилопу, метнулся рывком к Юстине Тесли, печально подпирающей стенку в коридоре. – Ю, девочка моя, – сказал он почти ласково, пригвоздив Юстину к стенке длинными руками, – не ты ли невзначай позаимствовала на время мой дневник? Тогда ты знаешь, что я не описывал своих чувств к другой особе, потому что их невозможно описать?!
Мягкое, женственное лицо Юстины сделалось похожим на маску:
– Кому ты нужен, шут гороховый? – Не крик, а смертельная боль вырвалась из Юстининой груди. – Убирайся от меня вместе с твоими мерзкими чувствами! Они меня больше не интересуют! И руки… руки прочь от меня! – Она отпихнула его с силой и вырвалась из окружения.
– Это ты, ты, дрянь, – налетела она на Киссицкую, – донесла ему, что я взяла дневник. Ну и гадина же ты! Кто уговаривал меня только одним глазком посмотреть, что там «эти господа надумали»? А потом сама посмотрела одним глазком, да? И подставила меня? А я… я не такая, как ты… – она не находила слов, – предательница… Я не беру чужого… Слышишь? – В слезах она вылетела из школьного коридора и исчезла.
Киссицкую немедленно плотным кольцом обступили все, кто слышал Юстинины горькие слова.
– Значит, все-таки ты, Цица? – грозно надвигался на Киссицкую Прибаукин. Рядом стояли Дубинина и Клубничкина, Попов и Столбов, которые теперь повсюду таскались за Венькой, и тот чувствовал их молчаливую поддержку. – Придется наказать тебя, детка. В детстве тебя не били по попочке, а?
– Отстань, поганый фанат! Отстань от меня, слышишь? – почти плакала Киссицкая. – Если ты не прекратишь привязываться ко мне, то вылетишь как миленький из этой школы… Понял? Не брала я твоего дневника. Зачем мне читать твои дегенеративные мысли?!
– Что ты сказала, великий философ Цицерон? Повтори! – Венька крепко схватил Киссицкую за нос и подтащил к себе. – Ну, я жду.
– Я не брала твоего дневника, – почти просвистела Киссицкая – нос ее был зажат цепкими Венькиными пальцами, – А ты… ты дегенерат, слышишь? Фанат и шут гороховый… – Она размахнулась и с силой обеими руками шлепнула его по щекам.
– Венька, – крикнула Дубинина, – оставь ее, Анатолий идет. Мы еще с ней посчитаемся…
8
Юстина бежала по улицам, забитым машинами.
Никогда в жизни у нее не было более счастливого времени, чем эта осень. Впервые ее полюбили. Во всяком случае, ей так казалось. Когда Венька смотрел на нее, внутри все дрожало и стонало от радости. Она на все готова была ради Веньки. Он избавил ее от одиночества.
Как-то после школы у нее разболелась голова. Она приняла таблетку и улеглась в постель. Сквозь дрему услышала звонок. Второй. Третий. Неохотно поднялась и, не одеваясь, в длинной прозрачной ночной рубашонке поплелась открывать дверь. Мать иногда забегала днем перекусить.
Но не мать, а Венька неожиданно предстал перед нею.
– У-у-у! Какая ты! – прогудел он, подхватил ее сильными руками и поднял.
Она вырывалась, но тело ее не слушалось, льнуло к теплым рукам, к источающему тепло и радостное волнение человеку. Радость эта пьянила, туманила сознание…
И вдруг нежданно слетела с уст, будто не ею сказанная, фраза:
– Ты с ума сошел. У нас еще все впереди…
Права ли она? Как могла она оттолкнуть Веньку в самый прекрасный момент своей наполненной печалью жизни? Но за что же тогда она осуждает мать? Кто мог ответить ей на эти вопросы? Не к матери же обращаться, когда у них установились ненавистно-отчужденные отношения?! Да и зачем теперь ей ответы, если Венька отвернулся от нее навсегда? Сначала он избегал ее, а через некоторое время принялся ухаживать за Дубининой, так же на глазах у всех, как было это и с нею.
– Зачем ты мучаешь меня? – жалобно взывала Юстина к человеку, который стал для нее самым близким. Но перед ней неизменно оказывался другой, уже не ее, чужой Венька. И она, не узнавая его, застывала от ужаса.
За несколько дней перед тем, как исчез дневник, Венька, сидя на корточках в коридоре, поймал ее за подол форменного платья. Поднялся и навис над нею страшной птицей.
– Не преследуй меня и не вздумай шпионить, поняла, детка? Мне не хотелось бы истерик… Я вдруг прозрел, понимаешь? Что ты можешь мне дать? Для яркой жизни ты не создана. У тебя нет воображения… – И ушел.
Юстина не слышала больше учителей на уроках. Она и дома не могла сосредоточиться на страничках учебников, смысл прочитанного ускользал от нее. Люди мелькали перед нею, как надоедливые комары летом, и все без исключения казались уродливыми. Краски жизни исчезли, превратились в серенький, однообразный туман.
Только ночами, сливаясь с чернотой и непогодой за окном, Юстина чувствовала себя в безопасности и немного успокаивалась. Ежедневные встречи с Венькой в школе оборачивались теперь для нее невыносимой мукой. И на всякий новый урок она шла, как на распятие, чувствуя, что все взоры обращены на нее.
Когда Венька спросил ее про дневник, она, не помня себя от гнева, понеслась навстречу мчащимся машинам. Милиционер, молодой, здоровенный детина, поймав, долго тряс ее, прежде чем она пришла в себя.
– Совсем ошалели! – орал он на Юстину, усаживая в мотоцикл. – Натворила небось чего? Сначала делают, потом думают. Отвезу домой, и чтоб носа не высовывала, пока не опомнишься…
Какие-то слова милиционера застревали в Юстинином сознании, но тупая, ноющая боль дурманила ее по-прежнему, мешала дышать.
Дома, как назло, оказался «голубчик», так называла она новую привязанность матери. Он что-то говорил, путался под ногами, и Юстине показалось, что он прилипает к ней взглядом.
– Прочь! – прикрикнула Юстина на «голубчика», швырнула в него портфелем и спряталась в своей комнате.
«Голубчик» побродил возле ее двери, заглянул, спросил: не захворала ли она? Не надо ли ей чего? Экая любезность! Яростная, незнакомая ненависть ко всем мужчинам, к холеному благополучному «голубчику», окрутившему мать, душила Юстину, заставляя задыхаться от гнева и бессилия.
Юстина, не понимая, что делает, вскочила, выбежала из комнаты, сорвала с себя домашний халатик и застыла в наглой, беззастенчивой позе.
– Ну, – приказала она чужим, развязным тоном, – смотри! Я моложе моей матери. Она ж у меня старушка. Разве она тебе пара?
Позже она не сможет вспомнить ни его лица, ни его слов в ту минуту, ни себя в тот страшный момент отчаяния. Резкий шлепок по щеке на мгновение вернул ее к действительности, но тут же все поплыло перед глазами, и она рухнула на пол.
Первое, что она услышала, когда стала приходить в себя, были возмущенные слова матери:
– Вся в отца, стерва. Недаром завуч предупреждала меня, что она готова с этим Прибаукиным лечь в постель. А я, дура, не верила.
Лучше бы Юстине не приходить в себя! Или там, на улице, нарвавшись на машины, навсегда исчезнуть. Но исчезнуть навсегда оказалось не так-то просто. Для этого требовались мужество и душевные силы, не меньшие, чем для того, чтобы жить.
9
– Кися, пойди поговори с Надеждой, может, мне все же дадут характеристику? – попросила Киссицкую Холодова.
– Ага, как тебя защищать, так беги, Кися! А за меня заступиться некому?
– Да ты, Кися, сама вызываешь огонь на себя. Что ты все стараешься унизить их? Не возвышайся, Кися, над всеми, с вышины тяжелее падать!.. – И больше не стала просить, ушла.
– Князь! – кинулась Холодова к Пирогову, с которым с первого класса была в самых дружеских отношениях. – О бедном товарище замолви словечко, а? Ты все-таки член комитета комсомола…
– Друг мой, – как всегда позируя, завел Пирогов, – видишь ли, какая обостренная обстановка сложилась в нашем мирке…
Холодова не дослушала, фыркнула презрительно:
– Тоже мне деятель!
Тут подвернулся под руку Кустов, посмотрел преданными собачьими глазами, ссутулившись, как старичок, попросил заискивающе:
– Я провожу тебя, ладно?
– До кабинета директора! – обдала его холодом своих ледяных глаз Оля-Сократ. – И не ты меня, а я тебя.
– Я не смогу, – как подстреленная птица, забился в тревоге Славик Кустов. – Я только испорчу дело… Я не умею…
– Не могу… Не умею… Испорчу… Прибавь еще: «Трус я!» – прикрикнула Холодова на влюбленного в нее сумрачного, совсем ссутулившегося Славика Кустова. – Зачем ты тогда нужен?! Зачем ты вообще нужен?! И чтоб не таскался больше за мною! – Она била наотмашь. – Не Кустов ты, а Хвостов. Тебе это больше подходит. Понятно?.. Все! – крикнула она на ходу всем. – Я теперь только за себя. И ни за кого больше! Запомните! – И она поспешила на поиски Прибаукина.
«Вот Веник, – злорадно думала Оля-Сократ, – хоть и скотина, но мужик. Знает, чего хочет. Не то что мой страдалец… Он, пожалуй, заступится».
Вениамин как раз и возник перед нею, словно ее злые мысли обладали магической силой.
– Ну, что скажешь, Сократ? – посмеиваясь, спросил Прибаукин, – Предали тебя твои «господа»? Помнишь, как хорошо ты объясняла нам, что аристократы считали Сократа развязным, а демократы видели в нем своего разоблачителя? Я надеюсь, детка: ты не хочешь погибнуть, как Сократ? Народец попроще, пока не поздно, готов поддержать тебя…
– Сказать тебе, кто взял твой дневник? – с вызовом человека, все же не отказавшегося от превосходства, спросила Холодова.
– О-о-о! Это запоздалые новости, многоуважаемый брат-Сократ! – отразил натиск якобы превосходящего противника Вениамин. – Дневник позаимствовала Виктория, светлая ей память… – Веник наигранно перекрестился.
– А что, с Викторией случилось что-нибудь? – попалась на удочку Холодова.
– Трусишь, Сократишка? А я думал, ты молоток! Железная девчонка. Ну, что случится с нашей драгоценной Викторией? Люди ее склада сляпаны из нержавейки. Поболеет для порядка и очухается на радость школе.
– Так чего ж тебе надобно, старче?
– А-а-а, – протянул, по своему обыкновению, Веник. И Оля заметила, что его длинные волосы потеряли прежний шик, кажутся нечесаными, а красно-белый шарф растянулся и небрежно повис. – Договоримся так: Олеська сразу же после урока истории соблазняет Анатолия… Ну, насчет твоей характеристики. Клубничкина у нее на подхвате… У них с шефом все отлажено. А ты, Сократушка, группируешь Олимп, и вы все стройными рядами голосуете за прием в комсомол Дубининой, Клубничкиной и Столбова… Мне лично этого не надо, а они хотят в институт. И Кисе Олеська, как ты понимаешь, ни за что не уступит. Смекнула?
Холодова посмотрела на Вениамина непроницаемым взглядом.
– Так что? По рукам? – откровенно торговался Прибаукин.
Не отвечая впрямую на вопрос, Оля-Соколя дружелюбно похлопала Веньку по плечу:
– Топай, чтоб нас вместе не засекли…
Вениамин с трудом вынес голову из-под низенькой лестницы, куда они удалились поговорить, и сразу же столкнулся глазами с Киссицкой. Киссицкая прогуливалась поблизости с учебником в руках – проявляла бдительность!..
10
– Пирожок, – сказала елейным голоском Оля Киссицкая, улучив момент, когда Пирогов остался один. – Рассказать тебе сказку по старой дружбе?
Пирогов посмотрел исподлобья. Последнее время он все больше напоминал своего друга Славика Кустова. Такой же замкнутый, хмурый, спрятавшийся от всех внутри самого себя. Игорь посмотрел на Киссицкую отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Но Кися не хотела упускать удобного случая:
– Так вот, жила-была девочка… Ну, обычно, как во всех сказках. А дальше, как во всякой сказке, все страшнее и страшнее… Сначала эта девочка жила-была с Сережей Судаковым. Потом словила в свои сети золотую рыбку – неопытного интеллигентного мальчика, сам знаешь, кого… Делала вид, что была, а сама была-жила с другим мальчиком, более оборотистым, по имени Веник… Но золотую рыбку не отпускала… У нее можно что-нибудь выпросить. Прием в комсомол, к примеру…
– Что ты плетешь? – возмутился, очнувшись, Игорь. – Какие мерзости! Ты совсем того, Кися, сдвиг у тебя по фазе?
– Как хочешь, – дернула плечиком Киссицкая. – После урока истории подойди к «оружейке», послушай и посмотри. Девочка теперь была-жила еще и с Анатолием. Ей это ничего не стоит. «Красоткам» все легко и просто. А у нее к тому же любвеобильное сердце. Оно вмещает всех вас одновременно. – И, криво ухмыльнувшись, она легко полетела по коридору, словно вальсируя, в своем торжествующем полете.
Игорь понимал, что Киссицкая бесится, что она, как и всякий баловень судьбы, не может смириться с тем, что все выходит не так, как она хотела бы. И она ненавидит Олеську… Но все же Кися не станет болтать, не зная наверняка. Явная болтовня тут же выяснится, а Кисе надо, чтоб он убедился в том, какая дрянь Дубинина, и вернулся к ней, добродетельной Кисе.
Игорь много раз думал о ней и об Олеське одновременно. Почему человек должен постоянно выбирать? Почему нельзя все совместить, никому не причиняя боли? Киссицкая по духу, по воспитанию, да что и говорить, по всему была ему ближе, понятнее. Но как только он видел вблизи темные глаза Олеськи и движение ее золотистых волос доносило до него запах осенних листьев, он ничего не мог с собою поделать. Неведомая, неодолимая сила тащила его к этой девчонке. Что он мог объяснить Кисе или даже самому себе?
Кися неплохая девчонка, но как больно умеет она уколоть! И неприятные новости у нее всегда наготове. Нет, он, потомственный интеллигент, не опустится до ничтожных сплетен. А если это не сплетни, а святая правда? И верный друг Киссицкая хочет уберечь его от великих мук? Вон Славка до какого отчаяния дошел! Не случайно же мама внушает ему, что опасно входить в отношения с людьми не своего круга. Может, он еще как-то справится с собою, отойдет в сторону от Дубининой? Но все же Кися врет, пожалуй… Если он проверит, будет ли это так уж низко?..
Он не пошел на историю. Спрятался под лестницей на чердак и думал, думал, пока голова не заболела. А когда зазвенел звонок, ноги сами понесли его к «оружейке».
Олеська пришла туда вместе с Анатолием Алексеевичем. Дверь за собой они не закрыли.
На лестничную площадку верхнего этажа, кроме «оружейки», выходила еще дверь актового зала. Там шла репетиция, со сцены доносились голоса. Пирогов приоткрыл дверь, спрятался за нею, никто его не заметил. Ему хорошо было видно, как Олеська, опершись одним коленом на стул, совсем близко наклонилась к Анатолию Алексеевичу и что-то шептала ему на ухо. Что именно? Он не мог расслышать. Но достаточно было и того, что он видел. Игорю казалось, что Олеська прижалась к Анатолию боком. Он задохнулся от ревности. Захотелось немедленно выскочить из укрытия, ворваться в тесную комнатушку с боевым в прошлом оружием и… застрелить, разорвать на куски Анатолия Алексеевича. Учитель, называется! Другом прикидывался!.. А Олеська?! Хороша девочка!.. Он уже не ручался за себя, не знал, что мог бы сотворить с нею, если бы в этот миг безумия не появились Клубничкина с Прибаукиным.
Без всякого предупреждения, как к себе домой, ввалились они в «оружейку» и как ни в чем не бывало весело переговаривались там с Анатолием Алексеевичем и Дубининой. Выходит, ему померещилось? Померещилось!.. Он ненавидел себя. А еще больше Киссицкую, заставившую его подслушивать и подглядывать. Ненавидел он и Олеську за ее красоту и власть над ним и любил за красоту и необъяснимую власть…
Но вот с Анатолием Алексеевичем остались только Клубничкина и Прибаукин. Олеська помчалась куда-то вниз по лестнице. Он чуть помедлил и понесся за нею, перескакивая через ступеньки.
– Олеська! – поймал он ее почти у самого вестибюля.
Олеська повернулась и, как ему показалось, сразу все поняла. Она была взрослее его, хотя они родились в один год и один месяц. Игоря это мучило. Обычно он прикрывался позой, манерничал, называл всех «господами», сейчас он был подавлен и не успел нацепить привычную маску. Она сразу это увидела.
– Что случилось? – спросила Олеська. – Еще одно колониальное государство освободилось от гнета империализма?
– Олеська, – безнадежно вздохнул Игорь, – ну, в общем… я не могу без тебя…
Он увидел, как она вся сжалась, затихла и невольно отстранилась от него, словно он приготовился ее ударить…
– Ты что? – почти закричал он, чувствуя, что теряет ее навсегда.
– Извини, я не могу… – пролепетала Олеська и с непонятным для него страхом повторила: – Извини…
– Не можешь? – Он страдал, как никогда ему не приходилось. Он тоже был единственным и самым любимым, он тоже не привык к отказу, как и Киссицкая. – Не можешь со мной? А с Венькой можешь? И с Анатолием Алексеевичем можешь? Значит, правильно говорят: была-жила девочка «на троих»… – сказал и сам испугался, отпрянул.
Олеська поникла. Ее прекрасные грустные глаза затянуло слезами. Он приготовился к худшему: к пощечине, к презрению, к грубости, а она до синевы в пальцах вцепилась в лестничные перила и устало проговорила:
– Я не могу, потому что для меня Сережка не умер. Слышишь? Он живой. Ты не поймешь, а он бы понял. Он, может быть, не такой образованный, как ты. И манеры у него не такие изысканные. И он не знает так твердо, как ты, что хочет стать не кем-нибудь, а только государственным деятелем… – Она говорила о Судакове в настоящем времени, словно он действительно был жив. – Но он добрый, очень добрый… И как бы тебе объяснить?.. Один человек не часто видел свою любимую, но он всегда ждал ее. И встречал морем апельсинов. Апельсины на полу, миллион апельсинов и одна свеча… Я хочу окунуться в море апельсинов, раз так бывает… А ты, ты не способен… Извини… Ты не удержишься и съешь апельсины сам, пока придет твоя любимая. Ты подумай и, пока не поздно, не становись государственным деятелем. За государство страшно… – Она откинула золотую прядь с плеча и поплелась вниз по лестнице.
Уже снизу он услышал ее голос:
– И скажи своей Кисе, что я ей этой сказки про девочку, которая жила-была «на троих», не прощу!..
В тот момент, когда Пирогов так неожиданно настиг Олеську на лестнице, она была в хорошем расположении духа. Ей почти удалось убедить Анатолия Алексеевича, что атмосфера в классе сразу улучшится, если Холодовой дадут характеристику, которую по настоянию Виктории Петровны отказались дать, а ее, Клубничкину и Столбова примут в комсомол. Она пообещала даже, что они все вместе навестят завуча. Ребята устали от неприятностей, и Олеське искренне хотелось, чтобы все наладилось. Анатолий Алексеевич обещал помочь, она чувствовала, что он готов пойти им навстречу.
Пирогов вернул ее к неприглядной действительности. Столько сучков и задоринок наросло уже на скрючившемся дереве их школьной жизни, что трудно было проскочить мимо, не зацепившись. Она не пошла искать Холодову, быстро оделась и побежала домой.
Когда Прибаукин, Клубничкина и сама Холодова явились к ней, она передала им сплетни, которые распускает Киссицкая. Ненависть переполняла Олеську.
– Перевернуть бы ее вверх тормашками! Может, утряслось бы все в ее гениальной головке!
– Это можно! – пообещал Венька. Он тоже был ужасно зол на Киссицкую.
Так прекрасно задуманный и разработанный план всеобщего благоденствия неожиданно сорвался из-за Киссицкой. Опять из-за нее! Пора, пора проучить эту умницу, сказать Кисе «брысь»!
– Пора сказать Кисе «брысь»! – произнес Прибаукин вслух.








