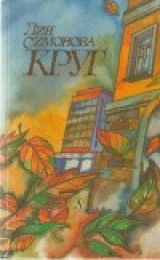
Текст книги "Круг"
Автор книги: Лия Симонова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
– Ну почему же? – живо откликнулся теперь уже Пирогов, высокий красивый подросток с умным, чуть надменным лицом. – У вашего вопроса, уважаемая Надежда Прохоровна, есть, как минимум, два аспекта. (Сегодня он захватил инициативу в разговоре.) С одной стороны, сложности нашей жизни: ну, там всякие трудности с экономикой, которая должна быть экономной, но не хочет, потом происки империалистов, вынужденные расходы на вооружение, помощь развивающимся странам… – перечисляя, он загибал пальцы, – что еще? Мы все это понимаем. И не в обиде. Три часа, заметьте, безропотно стояли в очереди… С другой стороны, нехорошо, конечно, уходить с уроков, тем более надолго. Но… – Он нарочно помолчал. – Но если честно или, как вы справедливо настаивали на собрании с родителями, доверительно, то нам на уроки являться не хочется. – И он посмотрел на директора таким наивно-честным взглядом.
Надежда Прохоровна на этот раз держалась абсолютно спокойно. Интонацией подражая оратору, она спросила с иронией:
– Не будешь ли ты, Пирогов, так любезен, объяснить, что вас не устраивает?
– Отчего же… – нисколько не затрудняясь, согласился Пирогов. – Научимся наконец быть деловыми людьми и скажем кратко: «Всё».
На голове у «делового человека» красовался венок из серовато-блестящих вертушечек с детской игрушки – флюгера. Он, по всей видимости, олицетворял терновый венец или, как сказал поэт, «белый венчик из роз», в котором «впереди – Иисус Христос». Пирогов не посчитал необходимым снять свой венец перед появлением в кабинете директора.
– Не хочется вводить вас в заблуждение, – продолжал он, позируя, – сегодня с утра я немного задержался. Войдя в класс, я почувствовал, что обстановка накалена до предела и наша уважаемая Антонина Кузьминична готова впасть в истерику. Допустить такое было бы весьма прискорбно. Я незаметно вышел, – беззастенчиво докладывал Пирогов, словно находился в компании сверстников, – завел будильник, который случайно оказался в моем портфеле, и поставил у приоткрытой двери. Он зазвонил. Все закричали: «Ура! Звонок!» И Антонина Кузьминична, хотя, как и все, понимала, что звонок не настоящий, уверяю вас, тоже обрадовалась. Ей еще меньше нас хочется присутствовать на собственных уроках. Ну, а дальше, вы уже знаете, мы пошли подышать воздухом свободы, и… тут совсем некстати выбросили кроссовки… Как было не подобрать такую прекрасную кость?..
Виктория Петровна жадно глотнула воздух. Ее тяжелое, неподвижное лицо сделалось влажным от возбуждения. Анатолий Алексеевич поднялся, чтобы подать ей стакан воды. Ребята смотрели равнодушно. Больное сердце Виктории Петровны не вызывало у них сострадания.
– Можно мне сказать? – подняла руку, будто не видела недомогания завуча, Клубничкина, крупная, румяная девочка с копной бронзовых кудрей.
– Ну, говори, Клубничкина, что ты хочешь сказать? – неохотно согласилась Надежда Прохоровна, с тревогой поглядывая на завуча.
– Я хочу сказать, – встала Клубничкина, – что ваши разговоры-уговоры – сплошная демагогия. Вас причины не интересуют, только следствия. Мы же на математике ничего не понимаем! Говорим Антонине, то есть Антонине Кузьминичне: «Бесполезно слушать то, что непонятно». А она: «Не хотите слушать, не приходите на мои уроки, сдавайте зачеты!» Мы согласились. Перестали ходить на уроки, так Антонина побежала к вам жаловаться. Натуральная демагогия!
– Ты сама демагогию не разводи! – удивительно быстро справилась с недомоганием несгибаемая Виктория Петровна. – Учись как полагается и будешь все понимать!
– Как учите, так и учимся, – огрызнулась Клубничкина, ожесточаясь. – Прогнали хорошего учителя математики, ко двору не пришлась?!
– Что ты себе позволяешь?! – снова, едва дыша, не жалела себя Виктория Петровна. – Ты становишься просто злом школы!
– Зло школы не я, – грубо отразила удар Клубничкина, – и все тут, кроме вас, это понимают. А позволяю я себе не так уж много. Надежда Прохоровна спрашивает, я ей отвечаю. Если вы снова согнали нас сюда каяться, то и незачем было. Достаточно нас унижали на собрании с родителями. – И, больше не замечая Викторию Петровну, она обращалась только к Надежде Прохоровне: – Нужны хорошие учителя. И специализация. Зачем мне математика, если в жизни она не пригодится?
– Тебе могут пригодиться только кавалеры! – никак не могла успокоиться Виктория Петровна.
Клубничкина, не удостоив ее вниманием, продолжала:
– А тем, кому без математики не обойтись, нужно преподавать ее всерьез. Не как в трехстах километрах от железной дороги…
– Маша Клубничкина! – подал сигнал длинный, длинноволосый Прибаукин.
– Да! Да! Да! – немедленно подхватил хор.
– Ты что-то хотел добавить к сказанному, Вениамин? Слушаем.
Вениамин Прибаукин не спеша встал, постоял молча и вдруг пробасил:
– На физику тоже приходить не будем. Аленке… – Поправился: – Ольге Яковлевне… учить противопоказано, – и сел. Уже сидя, добавил: – Двуличная она. Но вы, – сказал он, указывая пальцем на Викторию Петровну, – этого не поймете. Вам тоже в школе трудно.
– Хорошо, что сознаете, как с вами трудно, – ловко вывернулась Виктория Петровна.
Прибаукин тихо хохотнул и стал смотреть в окно.
– Ну, если уж пошел столь откровенный разговор, – старалась из последних сил держаться Надежда Прохоровна, – то давайте разберемся, какие трудности с биологией?
– Кожаева! Мария! – скомандовал Прибаукин. – На выход! Твой номер!
Тоненькая, бледнолицая девочка с глубоко посаженными глазами, скептически взирающими на мир, застенчиво сказала:
– На уроках биологии и географии скучно. Учительница биологии заменяет себя телевизором, а географ на каждом уроке показывает учебные фильмы…
– Что же в этом предосудительного? – то и дело вытирая платком вспотевшее лицо, все же вмешалась Виктория Петровна. – Все это предусмотрено программой.
– Да нет, предосудительного, наверное, нет, – вяло отбилась Кожаева, – только телевизор и кино можно смотреть и без учителя. Общения не хватает. Компьютер и тот способен взаимодействовать, отвечать на вопросы…
– А какие у тебя вопросы? – Надежда Прохоровна решила выяснить все до конца.
– Вопросы?.. – переспросила девочка. – Всякие. Можно ли, к примеру, биологической энергией лечить людей? Представляете, сколько семей сохранилось бы, если вылечивали алкоголиков?!
– Без вас этих вопросов не решат! – не унималась Виктория Петровна, – Лучше бы в учебник почаще заглядывали, чем развлекаться антинаучными бреднями!..
– Вот так не надо, – забеспокоилась девочка. Щеки ее разрумянились, глаза оживились, – Кибернетику тоже считали лженаукой. На десятилетия задержали развитие генетики. Разве можно повторять ошибки прошлого?!
– Но сейчас мы говорим об ошибках настоящего. О ваших ошибках!
Тут у Надежды Прохоровны терпение лопнуло. Она строго, осуждающе посмотрела на завуча, хотела что-то сказать, но Холодова, снова Холодова, вскочила, схватила с пола портфель:
– С меня хватит! У меня нет времени на пустые разговоры. Как там, у Овечкина, в записных книжках: «Я не могу уже выносить ни одной глупости. Некогда». Извините, я пошла. – И она направилась к выходу.
– Холодова! Вернись! – Эта девочка как-то особенно действовала на Надежду Прохоровну, да и устала она одновременно справляться и с ребятами, и с Викторией Петровной. – Ты что, Холодова, больше всех занята?
– Я не знаю, как все, – без всякого выражения ответила Холодова, – но у меня столько тележек, что их трудно везти. Сегодня у меня занятия в школе юных журналистов, репетиция во Дворце пионеров – на Ноябрьские праздники наш ансамбль выступает перед ветеранами. Извините, мне еще и за младшей сестренкой надо поспеть в садик. А тут пустое, мы идем в никуда… – И она с силой рванула на себя дверь, зная, что ее обязательно попытаются задержать.
Пирогов поправил венец из детских вертушек и тоже наклонился за портфелем. Привстал, перехватил недобрый взгляд завуча и, обращаясь непосредственно к ней, спросил:
– Кстати, вы не знаете, что означает нимб на иконах святых и самого Христа? Может, это свечение? Невидимая глазу биологическая энергия? Может, Христос обладал способностями сенса?..
– До чего договорились? До чего договорились?! – запричитала Виктория Петровна, но ее никто не слушал. Все расходились, без спросу, без разрешения.
– Ребята! – попытался остановить их Анатолий Алексеевич, молчавший во время разговора, но и его не услышали.
Задержалась только Киссицкая. Жеманясь, она попыталась сгладить впечатление:
– Простите великодушно… Все устали… – Она делала доброе дело: защищала товарищей, успокаивала учителей, – и все же что-то отталкивало от нее и тех, и других.
«Хочет со всеми сохранять добрые отношения, – едва сдерживалась Надежда Прохоровна. – И вся она такая мягонькая, ласковая, кошечка. Недаром ее Кисей зовут. Но добрых отношений у нее не получается… Хотя так ли это на самом деле?..»
– Оставьте меня, пожалуйста, одну, – жестко попросила Надежда Прохоровна.
Киссицкая тут же исчезла, а Виктория Петровна собралась еще что-то сказать, но директор резко остановила ее:
– Вы мне сегодня очень мешали, Виктория Петровна. Мне надо подумать… Не только мне. Нам всем…
5
Жалил мелкий, колючий дождик. Дул порывистый ветер. Анатолий Алексеевич уходил из школы домой с тревогой. Его мучило собственное бессилие, и от этого на душе, как никогда, было мерзко. Он поднял воротник пальто, натянул берет на уши, а подбородок спрятал в теплом, еще мамой связанном шарфе и пошел вдоль школьного двора, загребая ногами мокрые опавшие листья.
И вдруг он увидел их. Они сидели на здоровенном деревянном ящике, непонятно как попавшем за школьную ограду, и молча жались спинами друг к другу, напоминая стайку потрепанных осенними невзгодами воробьишек. Лица у всех потерянные, каждый замкнулся в себе.
Маша Клубничкина, накинув полы своей яркой оранжевой курточки, похожей на парашют, на голову и плечи рядом сидящей подружки, будто отгородила ее от тягот внешнего мира. Услышав приветствие, Машина подружка вздрогнула, высвободила лицо, и Анатолий Алексеевич ужаснулся ему.
Девочку звали Олей Дубининой, Олесей. При первом же знакомстве с классом Анатолий Алексеевич сразу выделил ее среди других: «Самая красивая девочка в школе».
У нее были длинные золотистые волосы, темные грустные глаза и неторопливые, плавные движения. Теперь ее лицо померкло, сделалось плоским, глаза опустели.
Хотелось спросить: «Что случилось?», но Анатолий Алексеевич не решился. Да и, только он приблизился, ребята вспорхнули и разлетелись. Дубинина, на ходу бросив Клубничкиной: «Пойду умоюсь», побрела в школу. Маша, поколебавшись, осталась.
– Маша, – тихо спросил Анатолий Алексеевич, – чем я могу помочь?
Клубничкина слабо, но доброжелательно улыбнулась:
– Расцепите нас! Мы устали. Они, наверное, тоже… – Она просительно заглянула в глаза Анатолию Алексеевичу и, приблизившись, совсем по-детски, словно договаривалась с подружкой хранить «страшный секрет», зашептала: – Я написала в редакцию. Ведь тонущие корабли имеют право подавать сигнал SOS. Кто-то должен спасти наши души? – В глазах мелькнула растерянность. Вдруг она порывисто отодвинулась, и лицо ее неожиданно приняло независимое и отчужденное выражение: – Думаете, дурочка? Наивная? Пусть! Но кто-то же должен… – И сама себе ответила: – В том-то и беда, что никто, ничего, никому не должен! Я дала себе слово, клятву… Вырасту, не забуду, как была девчонкой, подростком, кто я сейчас?..
– Маша, – отважился спросить Анатолий Алексеевич, – почему у Олеси такое лицо?
Маша пристально посмотрела на классного руководителя, определяя возможную для себя откровенность.
– Сегодня год, как погиб Олесин мальчик, Судаков Сережа. Вы же помните этот ужас? Олесе не хотелось идти в школу, в такие дни все особенно напоминает о Сереже. Мы с ней побродили по улицам, а потом испугались скандала и пошли на уроки. И натолкнулись на Викторию. Как только она поспевает повсюду?! Ну, она на нас за всех и отыгралась: «Безобразие! Ищите любую причину, чтобы прогулять!» Ничего себе любая причина! Обидно же… Олеся заплакала, я и ляпнула кое-что. Виктория пообещала, что меня из школы выгонят, она давно на меня зуб точит. Но мы еще посмотрим, кто кого… Пусть теперь ею займется редакция!..
– Маша, – сказал Анатолий Алексеевич, – мне кажется, ты потом будешь жалеть. У Виктории Петровны больное сердце… Она учила тебя и хочет тебе добра. Человек она сложный, ее методы устарели, но и твои, знаешь, не лучше… Она пугает, и ты хочешь, чтоб она боялась, и тоже «сигнализируешь». Чем же ты лучше? И стоит ли, выясняя отношения, стремиться уничтожить? Не благородно это. Даже ради того, чтобы отстоять свои принципы… Ты подумай…
– Подумаю, – пообещала Маша.
Тут из школы выбежала Олеся, пролетела мимо Анатолия Алексеевича и Клубничкиной, не видя их, ничего не различая перед собою. Маша бросилась за нею, догнала, обняла крепко, спросила:
– Виктория?
Олеся кивнула.
– Гадина! Гадина! – отчаянно закричала Клубничкина. – Ненавижу! – И горько заплакала.
Анатолий Алексеевич растерялся, потом сказал:
– Поехали ко мне, посидим, поговорим, чаю попьем. Мама варила много варенья. Ее уже нет, а варенье осталось.
Он думал, они откажутся, а они обрадовались. Им некуда было идти, не с кем поговорить. И он вдруг осознал: их не как-нибудь надо выслушать, а так, как это делали старые доктора, прикладывая ухо к самой груди.
6
Дома у Анатолия Алексеевича было тепло. Попыхивал электрический самовар. Мягкий, неяркий свет электрических свечек на стене над столиком, где они устроились пить чай, казалось, согревает. Девчонки успокоились, растаяли в мягких креслах.
Клубничкина спросила:
– Это ваша комната?
– Это комната моей мамы, – ответил Анатолий Алексеевич, – она тоже преподавала историю, и ее ученики любили собираться за этим столом.
– Странно, – сказала Маша, оглядываясь по сторонам, – Слишком уж молодежная комната… – Перехватив недоуменный взгляд учителя, пояснила: – Все живое… Книги, раскрытые на письменном столе, даже с закладками. Пластинка на проигрывателе… Значки…
– Я все тут оставил, как было при маме, – с грустью пояснил Анатолий Алексеевич.
– Да я не об этом. – Клубничкина не понимала бестактности своего поведения. – Я не видела у взрослых таких живых комнат. Большинство покупает книги для интерьера. Стерео, чтоб не хуже, чем у других… Я спрашивала их, чем отличается джаз от рока, а рок от диско? Не знают. Но заявляют, что современная музыка им не нравится. «Горлопанит»! Мешает. А они хотят покоя! Чтобы их не трогали. Это главное. Их ничто уже не волнует!.. Ну, а значки у взрослого?.. Как-то не укладывается…
– Мама собирала их всю жизнь. Особенно те, что имели отношение к детству, к образованию, к пионерской организации. Получилась коллекция…
– Извините, – опомнилась Маша.
– Чем же, по-твоему, живут взрослые? – задал вопрос Анатолий Алексеевич.
– Господи, да они и не живут вовсе, – безразлично пожала плечами Клубничкина. – Делают вид, что живут. Видимость жизни. – Глаза ее сузились, презрительная улыбка искривила рот, – Будто работают. Будто веселятся. Будто стремятся к чему-то. А сами безрадостные… Показуха! Везде одна показуха!.. И знаете, когда некоторые взрослые слишком уж налетаются перед носом, да еще норовят на нос сесть, приходится отмахиваться.
Она говорила грубо, с вызовом, и у Анатолия Алексеевича испортилось настроение. Дубинина сразу почувствовала это.
– Машка, ты чудовище, – сказала она тихо, мягко, но ее слова отрезвили Клубничкину. Она сразу стушевалась, опустила голову.
Олеся как бы извинилась за подругу:
– Вы на нее не обижайтесь, Анатолий Алексеевич. Она человек-репейник. Прицепится, уколет и торчит. К ней надо привыкнуть. Сережка легкий был человек и то иногда обижался… – Глаза ее стали наполняться слезами.
Анатолий Алексеевич помнил, как оглушила, раздавила и ребят и взрослых гибель Судакова.
…Сергей отправился с мальчишками-«фанатами» на матч «Спартака». «Спартак» в тот день играл неудачно, но перед финальным свистком неожиданно забил гол. Все, кто уже устремился с трибун к выходу, задержались, остановились, образовалась давка.
Мальчишки пытались прорваться к своей команде на поле и прыгали через ряды сидений, расталкивая возбужденных победой болельщиков. Кто-то отпихнул Сергея, кто-то наступил на его длинный, размотавшийся в толчее красно-белый шарф. Сергей не удержался, упал под ноги мечущихся людей…
Тягостная атмосфера, которая к тому времени сложилась в школе, стала и вовсе невыносимой. Родители забирали детей, жаловались районному начальству, обращались и в самые высокие инстанции. Директора школы освободили «за ослабление воспитательного процесса», как было сказано в приказе. Ребята же, наслушавшись взрослых разговоров, со свойственной им прямолинейностью, говорили: «Поперли директрису, потому что турнули на пенсию ее министра. А пока он властвовал, «госпоже министерше» все позволялось и школа считалась образцовой».
До конца года исполняла обязанности директора Виктория Петровна. Трудное пережили время…
– Сережка был умный, веселый, с чувством юмора, – сказала Маша и посмотрела на подругу. – Забежит на перемене к нам в класс, пошутит: «Ну, гномы, как тут моя Белоснежка? Не забывайте, гномы, что я старший и самый неотразимый!» Он же старше нас был на год. До сих пор не верится, что больше не придет, не споет: «Главное, ребята, что? Сердцем не стареть!..»
Анатолий Алексеевич с тревогой посмотрел на Олесю. Она сидела с отсутствующим видом, и все, что происходило внутри ее, оставалось скрытым от посторонних глаз.
– Вы говорите, Сергей умный, с чувством юмора, зачем же ему фанатизм? Он увлекался спортом?
Маша не сразу отозвалась:
– Это сложно. Хотя что сложного? Понимаете, Пирогов интересуется экономикой, историей, искусством, его друг, Кустов, – информатикой, языками. У Кожаевой – биология, у Холодовой – школа юных журналистов, балалайка… Но есть же и такие, кто не определил еще пока своего интереса… А выделиться чем-то среди других всем хочется…
– Ну, а Сережа?
– Сережа?.. – Олеся будто пробудилась, на ее лице появилось заинтересованное выражение. – Сережу замучили родители. Отец заявил, что гуманитарные науки у нас бесправны и хватит того, что на это ушла его жизнь. Настраивал Сережу на естествознание, для которого вроде теперь дорога открыта, а у Сергея с математикой нелады. Какая ж химия или биология без математики? Стали родители завлекать Сергея археологией, посылали в экспедицию с приятелем. Вернулся он оттуда злой. Распевал: «Главное сердцем не стареть!» – но я чувствовала, что человек потерялся. И родительские подсказки не по нему, и самостоятельно ему думать мешают… «Фанской» жизнью он себя обманывал. Вроде дело есть и друзья рядом. В куче легче. Самому с собой страшнее…
– Может, я не понимаю чего-то, – спросил Анатолий Алексеевич, – но разве так уж интересно взрослым ребятам из года в год заниматься одним и тем же: собирать фотографии спортсменов, вырезки из газет и журналов с сообщениями о матчах, орать: «В Союзе нет еще пока…»? Чушь какая-то…
– Но зато всем доступно. И всегда можешь рассчитывать на поддержку своих, – убежденно сказала Маша. – А это важно. Комсомольцам, случись что, на тебя наплевать. Киссицкой какой-нибудь разве до других есть дело? А тут, хоть ночью тебе позвонят, ты побежишь и, если надо, будешь своих отбивать от «фанов» другой команды. Но и к тебе, стоит позвать, прибегут свои. И ты живешь уверенно, знаешь, что тебя защитят и поймут. И это многих устраивает.
– Ну, а на уроке зачем вы кричите: «В Союзе нет еще пока», красно-белыми шарфами обматываетесь, вы что, тоже «фанаты»?
– Да это так, игра, – смутилась Дубинина. – От учителей отбиваемся…
– А Прибаукин? Он тоже играет?
– У Прибаукина свои заботы, – уклончиво ответила Олеся.
Анатолий Алексеевич уже знал, как только заходит речь о ком-нибудь из их товарищей, они становятся неприступными крепостями. Штурмовать ему не хотелось.
Ни о чем серьезном в тот вечер больше не говорили. Пили чай с вареньем и слушали музыку. А когда девчонки совсем собрались уходить, Маша вдруг сказала:
– Вам не нравятся наши игры? А ваши игры вам нравятся? Правила, по-моему, одни и те же.
– Какие правила? – Анатолию Алексеевичу стало не по себе.
– Будто не знаете? – недоверчиво покосилась на него Клубничкина и снисходительно улыбнулась, – Убегать, чтоб не осалили…
Ночью Анатолий Алексеевич не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал, как мечется за окном ветер, и пытался представить себе, что посоветовала бы ему мама? Вспомнил, как она пришла однажды из школы, потрясенная жестокостью своего ученика, долго не могла успокоиться и говорила, что дети становятся жестокими и неуправляемыми, когда теряют веру во взрослых, уважение к их словам и поступкам.
Он спросил тогда, как же поступать в такой момент? И мама не задумываясь ответила: «Только не выяснять отношений. Бесполезно. Влиять в такой момент бесполезно». Улыбнулась и добавила: «Поступать надо как труднее всего – лечить терпением, ждать и надеяться. Если не на полное выздоровление, то хотя бы на улучшение душевного самочувствия…»
Анатолию Алексеевичу казалось, что он и теперь слышит голос мамы. Вероятно, он все-таки задремал и уже в дреме думал о том, что ни разу после смерти матери не видел так явственно ее лицо, глаза, улыбку…
Утром он проснулся с уверенностью, что ему открылась истина, совсем простая, и удивлялся, как раньше не пришло в голову поговорить со всеми, кто учит его ребят, попросить, чтобы временно его класс оставили в покое. Не кричали, не требовали, не замечали…
Не сомневаясь в успехе, он почти бежал в школу. Но после первых же бесед с коллегами у него как бы отдельно от рассудка возникло ощущение, что многие, даже соглашаясь с ним, будут поступать, как привыкли. Такова великая сила инерции. И все пойдет, как и шло. Несуразным, угрожающим чередом. Он перед этим бессилен.
7
Надежда Прохоровна с утра уехала к районному начальству и долго не возвращалась. Не дождавшись директора, Виктория Петровна, которая не терпела беспорядка, в назначенный час собрала учителей и властвовала на педсовете. Совет этот был относительным, потому что говорила только сама Виктория Петровна. С присущей ей страстностью завуч отчитывала учителей точно так же, как и учеников.
– Вы хоть понимаете, голуба моя ненаглядная, – обращала она свой гнев на Ольгу Яковлевну, – как вы виноваты в том, что вас свергли? Не панибратствуйте! Не заигрывайте! А вы еще и покуривали вместе с ними!.. Мне все известно! От меня не скроешься!.. – Она задыхалась от возмущения, – А вы, голубь мой, – перенесла она свой пылающий взор на географа, – что такое вы им говорите? «Без контурных карт на урок не приходите». Так они ж только и ждут этого!..
Она не знала пощады, не церемонилась:
– А вы, Антонина Кузьминична, не молодка уже, голуба моя, а чудите, чудите! Что за зачеты? У нас не проходной двор, у нас показательная школа!
Властность Виктории Петровны обладала гипнотическим свойством, и Анатолий Алексеевич не посмел ослушаться, явился на эту тягостную беседу, хотя его ждали ребята. Теперь он страдал. Мучительно и стыдно было наблюдать, как завуч все более распаляется во гневе, а предметы ее гнева, эти неумехи, страшатся поднять глаза.
Не зная куда себя деть, Анатолий Алексеевич принялся рассматривать директорский кабинет, в котором никогда подолгу не задерживался. Теперь он вдруг увидел, какая дорогая тут мебель, и цветной телевизор, и пианино, и компьютер…
Школа, в которой он сам учился, не была похожа на эту, богатую, современную. Только портреты великихпо-прежнему висели на стенах. На него смотрели с детства знакомые внушительные и строгие лица, и постепенно в сознание проникали слова, некогда произнесенные ими.
«Самые правильные, разумные, продуманные педагогические методы не принесут пользы, – крупными буквами было набрано под портретом Макаренко, – если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком и прежде всего правильные формы дисциплины, труда, свободы, игры и… авторитета».
«Я твердо убежден, – утверждал Сухомлинский, – что есть качества души, без которых человек не может стать настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребенка. Только тот станет настоящим учителем, кто никогда не забывает, что он сам был ребенком».
Нет, эти истины не утратили своей мудрости. Но все так привыкли, что эти портреты и эти высказывания царят перед глазами, что уже перестали замечать их и воспринимать смысл сказанного.
Зато все, что говорила Виктория Петровна, хотели они того или не хотели, – слушали постоянно.
– Не буду анализировать ваши уроки… Любая их часть… Все не то… На совещаниях говорим о единых требованиях… Ответственность… Престиж… – Она старалась говорить убедительно и эмоционально. Ей казалось, что так скорее склонит всех к своей точке зрения, и не замечала, что ее подопечные давно уже томятся, с рвением изучая пол и стены.
Анатолий Алексеевич посмотрел в окно и залюбовался игрой солнечного света. Там, за окном, шумели растревоженные ветром деревья. Ему ужасно захотелось туда, где живой свет и вольный ветер…
Не думая больше о последствиях, он решительно поднялся, приложил руку к сердцу, как бы извиняясь, и вышел из кабинета…
В канцелярии, не успев закрыть за собой дверь, Анатолий Алексеевич столкнулся с Надеждой Прохоровной, которая выглядела расстроенной и уставшей. И без объяснений было понятно, что районные руководители народного образования и на этот раз ничем не помогли ей.
Мало заботясь о произведенном впечатлении, что, казалось, так несвойственно новому директору школы, Надежда Прохоровна почти прокричала:
– Просто ли заменить плохого учителя? А четверых? Да еще в середине года?! Это же ЧП! А в нашей школе не могут случаться чрезвычайные происшествия! В нашей школе, как вы знаете, все должно быть в порядке!.. – И вдруг со страшной иронией отчаяния она задала вопрос, который звучал скорее риторически: – Может, что-то дельное советует вам райком комсомола?
Анатолий Алексеевич невольно улыбнулся, потом принял подчеркнуто серьезное выражение лица, достал из кармана записную книжку и монотонно прочитал то, что на днях записал в райкоме под диктовку:
– «Трудовое воспитание усилить.
Постоянно напоминать, что, кроме прав, есть обязанности.
Организовать свободное время.
Опираться на здоровое ядро.
Избавляться от штампов…»
– Поможет? – откровенно насмешливо спросила Надежда Прохоровна.
– Ну, раз дают руководящие указания, – снова улыбнулся Анатолий Алексеевич, – значит, считают, что они ценные. – Ему искренне было жаль Надежду Прохоровну.
8
А в кабинете истории, дожидаясь Анатолия Алексеевича на классный час, как малые дети, резвились его ученики. Скакали по столам, возились и изо всех сил старались перекричать друг друга.
К доске юная журналистка Холодова прикрепила «Молнию».
«МЫ ТАК НЕ БУДЕМ!» – было выведено сверху крупными буквами. А строкой ниже помещалось сообщение под заголовком: «О недостойном поступке с прятанием дневников». Прочитать его было почти невозможно: крохотные, малоразборчивые буковки затрудняли чтение. Зато призыв, которым сообщение заканчивалось, сразу бросался в глаза: «НЕ ДОПУСТИМ В ДНЕВНИКАХ ТАКИХ ЗАПИСЕЙ: «На требование дать дневник путем обмана отвечали, что нет!»
Слово «таких», инициалы и фамилия автора дневниковой записи – В. П. СОЛОВЕЙЦЕВА – выделялись красной тушью. Завершали данный образец публицистики смеющиеся рожицы.
Анатолий Алексеевич, войдя в класс, не пробовал никого успокаивать, встал к ребятам спиной и с интересом изучал «Молнию». Он очень рассчитывал на то, что рано или поздно его ученикам захочется узнать, какое они своей «Молнией» произвели впечатление? И верх возьмет любопытство! Так и случилось: вскоре Анатолий Алексеевич почувствовал настороженное внимание. Тогда, не повышая голоса, он сказал:
– Ребята, жизнь у нас с вами совсем никудышная. Такая жизнь никого не устраивает, ни вас, ни учителей. Хорошего разговора, чтобы понять друг друга, у нас не получается, а понять надо. Я предлагаю: пусть каждый, кто захочет, напишет обо всем, что у него наболело. Скинем с себя груз обид и тревог наших и, может, почувствуем облегчение. И даже сами себя скорее поймем и тогда уж вместе решим, что делать и как жить дальше. Согласны?
– А устно высказаться нельзя? – жеманничая, спросила Киссицкая.
– Высказывайся! – разрешил Прибаукин. – Твои драгоценные мысли должны знать все.
– А это поможет психологическим изысканиям? – как всегда мрачно, съязвил Кустов.
– Лучше бы занялись делом, – проворчала Холодова. – Сколько времени люди теряют зря!
– Не будем писать? Или напишем? – повернулась к классу Маша Клубничкина.
– Напишем, – за всех поручился Прибаукин. – Дети – это чудо природы. Его надо изучать. Кися, ты ведь чудо, правда? – Он откровенно потешался над Киссицкой, которая молча, с ненавистью глядела на него.
Клубничкина, почувствовав поддержку Прибаукина, пообещала:
– Напишем. Я ими займусь. Они у меня как миленькие…
По едва уловимой реакции класса Анатолий Алексеевич понял, что напишут.
Из любопытства? С надеждой на помощь? Развлекаясь? Пока этого он не знал.
Дней через десять «собрались» письменные исповеди ребят. Анатолий Алексеевич читал их вечер и ночь, почти физически ощущая, как больно его душе, хотя всю прожитую им жизнь его учили, что души как таковой не существует.
Маша Клубничкина.
Взрослые народ загадочный. Некоторые черствы, другие заносчивы, а иные назойливо добросердечны. А те, о ком Сент-Экзюпери сказал: «Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко и от этого, признаться, не стал думать о них лучше», – враги.
Нас просили прийти с родителями в воскресенье, в десять. Некоторые приволокли даже двоих родителей. И что же? Дверь школы оказалась закрытой. Сорок минут мы мокли под дождем и страшно замерзли. Но никто и не подумал извиниться перед нами. Надежда Прохоровна пролепетала что-то про водопроводную трубу, которую прорвало, а Виктория Петровна – про транспорт, который плохо работает, хотя ей до школы рукой подать!.. Но они всегда правы.
Пока учителя говорили с родителями, нас, как преступников, держали за дверью, а потом по одному вызывали на допрос. Почему вы, Анатолий Алексеевич, не вмешались, не остановили их? А может, вы были заодно с ними? Да только какая сила у вас против Виктории?
Почему всем задавали один вопрос: «Как ты думаешь жить дальше?» С фантазией у вас не очень. Наверное, вы надеялись, что мы станем каяться и обещать. Слава богу, никто не стал. За непокорность положено наказание – и нас выворачивали наизнанку. Вы пробовали, Анатолий Алексеевич, поставить себя на наше место?








