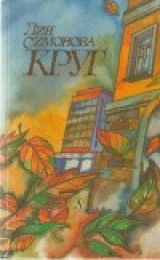
Текст книги "Круг"
Автор книги: Лия Симонова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Так они стояли. Обнявшись, разделяя боль, которую время притупляет, но не излечивает. В окна просился уже свет нового дня. Робкие солнечные лучи пробивались сквозь занавеску.
– Папа, – спросила Олеська, когда они немного успокоились, – ты не хочешь, чтобы я вступала в комсомол?
– Мне хотелось бы, – не сразу отозвался отец, – чтобы ты жила с верой. Без веры, надежды и любви человек перестает быть человеком. И тогда он способен на все худшее… Если веришь, как верили, несмотря ни на что, твой прадед и Большая Оля, вступай! Но мне показалось… Ничего не делай без веры!.. – звучала не просьба – мольба, обнаженная боль. Он отвернулся, отдернул занавеску. Светало…
10
Погрузившись в проблемы своего класса, Анатолий Алексеевич старался как можно реже появляться в учительской. Отсиживаясь в «оружейке» – крохотной комнатушке на четвертом этаже, где хранилось боевое некогда оружие, пригодное теперь лишь для занятий по начальной военной подготовке, – он подолгу думал о жизни, о ребятах, о своем учительстве. И сознавал, что не находит пока убеждающие слова и верный тон.
Ребята молча выслушивали его правильные рассуждения о комсомоле и расходились разочарованными. Подсказать им, как избежать формализма при приеме в организацию, он не умел. Этот формализм был как бы узаконенным. Какими делами заняться школьному комсомолу, он и сам представлял смутно. Ребята знали и понимали не меньше, чем он, их учитель.
– Посмотрим-посмотрим, как вы станете выкручиваться, – ехидничала Холодова, когда он пообещал дискуссии в политклубе.
– Боишься, что знаний не хватит? – тоже съязвил он. – Так ты и поможешь. Ты ведь у нас лучший политинформатор?..
– Политинформация – совсем другое, – словно несмышленышу пояснила девочка, – читаешь, что пишут, и пересказываешь. А как быть с тем, о чем не пишут? Как объясните вы нам, почему мы разбазариваем нефть? Почему в стране, где столько богатств: земли, леса, нефти, газа, металла и народ трудолюбивый, а теперь и образованный, не хватает мяса, колбасы, даже хлеба?! Или вы знаете, как возник в нашей социалистической действительности культ личности? Как наша прославленная демократия допустила напрасные жертвы?..
И все они посмотрели на него с нескрываемым любопытством. Он учил их истории. Они хотели прежде всего знать его мнение о культе личности Сталина, будто от его позиции в этом вопросе зависело что-то очень значительное в их дальнейших отношениях.
Что он мог им сказать? Что он знал помимо того, что стало известно на XX съезде партии и в публикациях после съезда?
Со студенческих, даже со школьных лет он привык цитировать. Сколько он помнил себя, так было принято. Мысли великих надежно защищали, как щит, как непробиваемая броня. Но что-то, пока неуловимое, какой-то едва различимый сдвиг уже наступил в сознании молодых, которые и младше-то его не намного. Они не желали больше поклоняться авторитетам и оценивали все, что узнавали, видели и слышали, по своему разумению. И всех остальных людей принимали или не принимали по их способности мыслить и действовать. Этих ребят нельзя было уговорить, их можно было только убедить.
Разговор в политклубе о культе личности Анатолий Алексеевич начал издалека. Рассказал о том, как в своих работах рассматривали взаимодействие «героя» и «толпы» Ленин и Плеханов. Упомянул, как высмеивали Маркс и Энгельс «льстивый культ Лассаля», его «хвастливое самовоспевание», стремление «казаться самому себе невероятно важным». Прочитал отрывок из письма Маркса Вильгельму Блосу: «Из неприязни ко всякому культу личности я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, – я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал».
Процитировал он и Ленина, как же без этого? «Еще бы обойтись без неудач и ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле, как создание невиданного еще типа государственного устройства! Мы будем неуклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего, весьма и весьма далекого от совершенства, применения к жизни советских принципов».
Казалось, его слушали внимательно. Но когда он принялся излагать позицию партии в оценке заслуг и ошибок Сталина, его неожиданно перебил Прибаукин:
– А как же быть с теми, чья жизнь жертвенно брошена на алтарь прекрасного здания будущего блаженства? – То ли Вениамин балагурил по привычке, то ли, спасаясь иронией, всерьез выяснял важную для себя истину?..
И тут вскочила Киссицкая, не дожидаясь ответа. Назидательно сказала:
– Как бы ни иронизировали некоторые, история не рассчитана на одну человеческую жизнь. Смешно спорить. Бесспорно, что Сталин имеет большие заслуги перед партией, рабочим классом и даже международным рабочим движением… – Она и на уроках всегда говорила так, будто считала себя крупнейшим теоретиком прошлого и настоящего. – Общеизвестна его роль в подготовке и проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма и, наконец, в Великой Отечественной войне… – Задрав кверху курносенький носик, Киссицкая говорила с пафосом, не замечая неприязни одноклассников, – Но с другой стороны, особенно в последний период, игнорирование норм партийной жизни и принципа коллективного руководства привело к извращению партийной демократии, к нарушению революционной законности, к необоснованным репрессиям. Время было такое…
Испытывая ощущение страшной неловкости и стыда за свою беспомощность, Анатолий Алексеевич с сожалением наблюдал, как воздвигает Киссицкая непреодолимую преграду между собою и своими товарищами, а заодно между ребятами и им самим.
И снова он не успел вмешаться, поднялась Дубинина. Раньше ее никак нельзя было упрекнуть в несдержанности и агрессивности, теперь Олеся резко оборвала Киссицкую:
– Что ты знаешь о том времени?! Что ты все выставляешься и болтаешь о том, что тебе неизвестно?! (Анатолий Алексеевич не предполагал, что Олеська может быть такой разгневанной, разъяренной.) У тебя нет вопросов? Для тебя все просто? В результате ошибок… У тебя в семье пострадал кто-нибудь в результате ошибок? Я устала от твоей болтовни. Сама-то ты веришь в то, о чем плетешь с чужих слов?
– Что ты имеешь в виду? – взвилась Киссицкая. – Я верю в идеалы коммунизма…
– А я хочу во всех идеалах разобраться сама, понимаешь – сама! – Олеська порывистым движением откинула назад волосы, ее теплые глаза сделались непроницаемыми, злыми. – Партия осудила Сталина, потом осудила тех, кто его осудил, потом… – Она безнадежно махнула рукой и собралась сесть, но выпрямилась и принялась снова говорить, отчаянно, неистово: – Я не хочу, не хочу и не буду выдавать готовые идеалы и цели за свои собственные. Это безнравственно. Я должна обрести веру или… – Она вдруг сама себя остановила и обратилась с вопросом к Клубничкиной, которая всегда сидела с ней рядом: – Ты можешь сказать, во что веришь?
– Я? – растерялась правдоискательница Клубничкина. – Я – в справедливость.
– А ты, Игорь? – спросила Олеська у Пирогова, не замечая больше Киссицкую, которая продолжала стоять в выжидательной позе.
– Я? – Игорь манерно схватился за лоб правой рукой, якобы размышляя, – Я верю в разум и… пожалуй, в добро.
– А я, – выкрикнул Прибаукин, – в чувство юмора!
Холодова почувствовала, что пришла ее очередь сказать свое слово. Удивительно угловатые, не женственные были у нее движения. Но держалась она всегда с достоинством, без суеты.
– Сократ, – сказала она спокойно и внушительно, – тоже верил в разум. Даже в высший разум. Он бродил по улицам Афин, этакий, заметь, Прибаукин, добродушный остряк. Кстати, ищущий истину, Клубничкина, в справедливом споре. Он учил людей, как жить нравственно и справедливо, как правильно устроить жизнь. Только его остроумие и его искания мало кому нравились. Аристократы считали его развязным, а демократы видели в нем своего разоблачителя. И Сократа, с его верой в высшую справедливость и в высший разум и некую всеобщую целесообразность, осудили на смерть.
– Во что же ты веришь? – Теперь они стояли, возвышаясь над всеми другими, втроем – три Ольги: Киссицкая, Дубинина и Холодова.
– Я верю, – не затрудняясь, спокойно продолжила Холодова, – в себя, в свои силы.
– Ну, понятно, – нервно рассмеялась Дубинина, – ты всегда пляшешь вокруг себя.
– Да, – согласилась Холодова и насмешливо-спокойно посмотрела на разгоряченную Дубинину, – Все, что сейчас я делаю, по твоему мнению, для себя, в конечном счете обернется благом для всех. Надеюсь. Пусть каждый позаботится хорошо делать свое дело. Этого, хотя бы этого, уже достаточно для общего блага. Что дают вам эти разговоры? Что? Жизнь не меняется от разговоров о ней. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Хватит говорить о том, что надо подметать двор, пора брать в руки метлу!»
– То-то ты собираешься посвятить свою драгоценную жизнь болтовне… в письменном виде! – взвинтился вдруг и Прибаукин.
– Ну, тут ты не прав, – без обычной иронии произнесла Холодова. – Одна фраза, даже два слова Анатолия Аграновского: «Надоели дилетанты!», но вовремя сказанные, стоят куда больше, чем пламенный трудовой порыв тех же дилетантов…
Бурный разговор разом угас. И Анатолий Алексеевич испытывал горечь, растерянность и тревогу.
Удобнее думать, что все бури нашего прошлого отбушевали, погасли костры в наших душах. Но нет, в углях сохраняется опасный огонь. Он готов воспламеняться в душах тех, кто пришел после, и обжигать с прежней силой и болью.
Почему не понять, как тяжко справляться им с этой болью? Как страшно жить с непониманием, с неприятием, с осуждением?..
11
Поверив в педагогический дар Анатолия Алексеевича, Надежда Прохоровна настойчиво убеждала себя успокоиться.
Вечером и дискотекой большинство старшеклассников остались довольны. Она подумала: «Роком они отгораживаются от нас, от нашей жизни, в которой многое не принимают. Сумасшедшие танцы помогают им разрядиться. У этих юных душ никогда не было храма, и они научились очищаться на шумной площади, в балагане…»
Вспомнив вдруг Машу Клубничкину в серебристом змеином наряде с оголенными руками и глубоким вырезом на спине, Надежда Прохоровна невольно улыбнулась. Фантазерка! Маша призналась ей потом, что увидела похожий наряд в каком-то фильме на миллионерше, путешествующей по Нилу с молодым мужем. Выпросила у матери старое платье, ставшее ей узким, и перешила его.
«Жизнь коротка, мне так страшно, что я могу умереть, – вдруг разоткровенничалась Клубничкина. – Если я стану актрисой, буду перевоплощаться, проживу много жизней…»
Она, конечно, в пику Виктории Петровне притащила на вечер Огнева. Смотрите, мол, ваша «гордость» не из-за меня, а из-за вас покинула школу!..
Смешная все-таки девчонка! Правдоискательница! Тряхнет бронзовыми кудрями и мчится вскачь с шашкой наголо. «Не понимаю, – говорит, – почему у меня по биологии пара?! Я по биологии таких отметок не получала. Это Мария Сергеевна виновата: включит телевизор и задумается. По задумчивости и влепила мне двушку вместо кого-то». Хитрюга! Но чем-то вызывает симпатию. Искренностью, непосредственностью, вечно бурлящими в ней чувствами, с которыми она не может справиться. В конце концов, фантазия и безрассудство в таком возрасте куда более привлекательны, чем благоразумие…
С утра, до первой переменки, в школе бывало тихо. Телефон начинал звонить чуть позже. Надежда Прохоровна любила этот ранний час и никогда не давала первого урока. Это время предназначалось ею для раздумий.
Не слишком устраивали ее беседы в политклубе. Все-то они критикуют! Все! Не нравится им, видите ли, что мы разбазариваем нефть, она нам и самим нужна. И не поставим ли мы на колени Европу, если вдруг перестанем снабжать ее нефтью из Уренгоя?! Прямо мировая скорбь в образе Холодовой или Пирогова!.. А может, так и надо? Именно так?! Разве не естественно стремление юной души беспокоиться, страдать? С какой стати мешать им выговориться? Чего бояться? Доберутся до наших ошибок, станут судить и осудят, имеют ли право? Но отними у них это право, и лишишь их способности мыслить, самостоятельности.
Когда закипает вода в чайнике, мы снимаем его с огня, приоткрываем крышку. Иначе крышку сорвет, может случиться, огонь загаснет… Надо выпускать пар! Но выпущенный пар становится началом движения…
В тех школах, где Надежда Прохоровна преподавала раньше, сложностей было меньше, но и ребята такие головастые встречались реже. Хлопотно с ними, но и любопытно…
Мысленно она во всем одобряла Анатолия Алексеевича. Сумел хоть как-то объединить в ансамбль совсем непохожих Столбова и Прибаукина с Кустовым и Пироговым. И как ни странно, художественный руководитель у них не Пирогов, не Кустов, а Прибаукин. Не поймешь их. Венька все же захватывает инициативу в классе. Столбов знает во сто крат больше, а вот слоняется повсюду за Вениамином. И комсорг Попов тоже постепенно становится прибаукинской тенью…
В чем тайна его привлекательности? Тесли глаз с него не сводит. А на репетиции, куда ее соизволил пригласить маэстро Прибаукин, ей померещилось, что Вениамин да и Пирогов все взоры устремляют к Дубининой. Как объяснить их вдруг возникающие и так же мгновенно гаснущие привязанности? Каково Тесли? А Киссицкой? Эта не простит! Но может, все еще как-то уладится, успокоится?..
Так неторопливо размышляла директор школы перед новым своим учительским днем, пока в дверь настойчиво не постучали. По стуку, как всегда, она догадалась, что пришла Виктория Петровна. От нее действительно не скроешься…
После того как Надежда Прохоровна попросила завуча на время отстраниться от опеки бунтующего класса, их отношения стали натянутыми. Виктория Петровна не упускала случая подчеркнуть свое зависимое от директора положение. И на этот раз, сохраняя официальный тон, не могла все же скрыть нервного возбуждения.
– Опять что-нибудь случилось? – с тревогой спросила Надежда Прохоровна.
– Я предупреждала, – сухо ответила Виктория Петровна, – безнаказанность ведет к распущенности! Вы попустительствуете их безобразиям!..
– Да оставьте вы, – перебила завуча Надежда Прохоровна. – Не понимаем мы их. У нас своя правда, у них своя. – И подумала: «Как хорошо, что я не показала ей письма Клубничкиной!»
– Только что мне позвонили из милиции, – со злой радостью сообщила Виктория Петровна, – вы же знаете, у меня с милицией тесные контакты….
– Из милиции?.. – не сдержала удивления Надежда Прохоровна, настолько не вязалось это сообщение с ее миролюбивыми размышлениями.
– Ну да, из милиции! – Высокомерное торжество Виктории Петровны не оставляло надежд директору. – Что, собственно, вас удивляет? Вы верите, что такой мальчик, как наш уважаемый Анатолий Алексеевич, справится с этими извергами? Мы не справились, а он сотворит чудо! – Завуча мучила одышка, но она не садилась.
– А что все же случилось?
– У Столбовых пропала картина и старинное фамильное кольцо с камеей. Алексей исчез из дома.
– Выходит, сын украл у родителей картину, кольцо и исчез?
– Откуда мне знать? Вы же запретили мне вмешиваться. Случайно услышала, что накануне у Столбовых собиралась компания из дорогого вашему сердцу класса… Я сочла своим долгом сообщить вам, хотя и не уверена в последствиях…
– Да перестаньте, Виктория Петровна, до того ли сейчас, – не скрывая досады, остановила завуча Надежда Прохоровна. – Разве вы не понимаете опасности случившегося?
– Отлично понимаю! – В голосе Виктории Петровны звучали интонации человека, чья истина отвергалась, а теперь торжествует. – Понимаю и сочувствую!.. – И она, так и не присев, ушла, что было совсем на нее не похоже.
А в дверь снова беспокойно барабанили. «Виктория вернулась!» – не сомневалась Надежда Прохоровна, но вошел Анатолий Алексеевич. Никогда она не видела его таким взволнованным.
– Я не успел вчера поговорить с вами, – прямо с порога сообщил он. – Вам Ирина Николаевна ничего не рассказала?
– Ирина Николаевна знает что-то о краже?
– О какой краже? – с изумлением и испугом уставился на директора Анатолий Алексеевич.
– Как? – в свою очередь поразилась Надежда Прохоровна. – Вы не слышали о краже у Столбовых?! Ну, тогда, я чувствую, нам есть чем поделиться друг с другом.
12
Ирина Николаевна, учительница русского языка и литературы, ревниво оберегала дружеские отношения с непокорным классом, бунтующим против ее коллег. Сознание превосходства составляло ее тайную гордость, ее успех.
Она старалась его упрочить. Следила за новым в литературоведении, не пропускала интересных статей в литературных журналах и газетах и на уроках почти не прибегала к услугам учебника.
Ребята ценили ее знания. Ирина Николаевна первой сообщала им о появлении заслуживающих внимания книг, спектаклей, выставок. Даже в современной музыке пыталась разобраться и проявляла осведомленность. С ней было о чем поговорить.
Ирина Николаевна умела рассказывать, и у нее хватало терпения выслушивать…
Учительница русского языка и литературы одобряла всякую попытку размышлять по-своему. Но… о том, что уже кем-то было сказано. Свободомыслия Ирина Николаевна страшилась, хотя тщательно скрывала это от всех, кого учила.
Непросто сложилась ее жизнь. Годы работы в показательной школе при прежнем директоре, «госпоже министерше», приучили Ирину Николаевну к беспрекословному повиновению и вечной тревоге за свое будущее.
Она еще помнила открытые уроки молодой учительницы математики, бывшего классного руководителя теперешних бунтарей: математический футбол, эстафету вариантов решения одной задачи… А как полемично ставила и обсуждала она вопросы на педсоветах!
Но вот ее в школе нет, а она, Ирина Николаевна, по-прежнему превосходно ведет уроки литературы! И ее ценят!
Но если быть честной, хотя бы с собою, надо признать, что молодую учительницу математики ребята не просто ценили – боготворили. Именно после того, как ее отняли у класса, началась их агрессивность…
Ирина Николаевна тешила себя мыслью, что быть борцом не ее удел. И пусть это трусость или слабость, но она не может позволить себе ничего помимо хорошего знания литературы ее учениками. Нельзя ей рисковать: на ее попечении старушка мать и двое сыновей, которых еще предстоит поставить на ноги.
Сочинения, которые писали в этом классе, Ирине Николаевне нравились. Ребята тут подобрались умненькие и вполне образованные для своих лет. Прочитав их соображения о рассказе «Третий сын» Платонова, она с удовлетворением отметила, что Холодова знакома уже с послесловием к последнему изданию рассказов писателя. Толково и очень ловко переиначивала она на свой лад размышления литературоведа.
«Третий сын, – утверждалось в послесловии, – особенно требовательно отстаивает чувство единой жизни всех поколений, которое поддерживается спасительной скорбью по каждому отдельному человеку. Ничем нельзя, по Платонову, разделить людей, в том числе и самой смертью. Сила взаимного тяготения и делает людей не «пылью», а неуничтожимым и всемогущим человечеством».
«В рассказе «Третий сын», – пишет Холодова, – Платонов рассказывает нам, как по-разному переживают смерть матери шесть ее сыновей. Мы должны понимать, что писатель в своем творчестве отстаивает чувство единой жизни всех поколений. И если для нас не существуют те, кого уже нет, то нарушается связь времен. Никого нельзя считать «пылью», все люди находятся под влиянием силы взаимного тяготения, и именно это делает их всемогущим и неуничтожимым человечеством…»
«Поняла ли до конца Холодова, – подумала Ирина Николаевна, – что литературовед, объясняя художественно-философскую систему Платонова, показывает, как меняется и развивается она, следуя за жизнью, в середине и конце тридцатых годов? И то хорошо, что ученица не высказывает своего отношения к тридцатым годам! Кто знает, понравилось бы это новой директрисе, если бы она надумала прочитать сочинения?»
Она подчеркнула красным карандашом языковую оплошность: «в рассказе… рассказывается» – и, как всегда, поставила Холодовой «5» за содержание и «5» за грамотность.
Но по душе ей пришлись сочинения, в которых осуждались черствость и неблагодарность сыновей умершей старухи и восхвалялся третий сын, пытавшийся возвратить к печальному событию расшумевшихся братьев. Таких сочинений было большинство. Все ли одинаково думали? Во всяком случае, научились понимать, что следует писать, а что не следует, и выдерживали правила игры. Ирина Николаевна ценила тактичность.
Последним она прочитала сочинение Маши Кожаевой. Эта новая в классе девочка выводила ее из себя излишней свободой в общении и высказываниях.
«Мне рассказ Платонова не понравился, – искренне признавалась Кожаева. – Что Платонов хотел сказать? Что третий сын всех чувствительнее? Братья давно не видели друг друга, и они ведут себя как живые люди – обмениваются новостями, воспоминаниями. Гораздо хуже было бы, если бы они притворялись и лицемерили, изображая скорбь. Какое право имеет третий сын стыдить и поучать их? Что, он лучше всех знает, как правильно жить, и может указывать? Пусть каждый живет как хочет! Нельзя лишать личность свободы!»
Читая рассуждения Кожаевой, Ирина Николаевна все более раздражалась. Ишь! Защитница свободы личности! Все судят так, а она эдак! И какая черствость! Какой эгоизм! Ни капли душевности, сострадания!
«Твои рассуждения говорят о душевной глухоте», – сделала заключение Ирина Николаевна в конце листка с сочинением. И со злым усердием выправила все грамматические и пунктуационные ошибки. Возможно, она не осознавала, что в ней бунтует униженная смирением молодость. Тем более не догадывались об этом ее ученики, взрослеющие в иное время.
Сочинения, как и всегда, бурно обсуждались в классе. Когда очередь дошла до Кожаевой, Ирина Николаевна с подчеркнутым неодобрением прочитала вслух Машину работу и обнародовала свое заключение. Реакция оказалась непредвиденной. Кожаева вспыхнула, поднялась:
– Вы не смеете.
– Что я не смею? Оценить твое сочинение? – Ирина Николаевна не привыкла к дерзостям на ее уроках.
– Не смеете оскорблять! – твердо сказала Кожаева. – Я написала то, что думаю. Вам угодно, чтобы все думали одинаково? – Ее глубоко посаженные глаза стали наполняться слезами, а губы подергивались. – Хотите начинить наши головы одинаковыми продуктами и законсервировать до надобности? А я не хочу быть вашей консервной банкой!
– Ты… ты… да ты… просто мелкая душонка! – Ирину Николаевну трясло от возмущения и неприязни. Ребята никогда не видели ее такою. – Ты не хочешь, чтоб мы тебя начиняли, тебе нравится заморская начинка?! Это там, в чужих краях, ты растеряла душевность?! Тебе ничего не стоит ниспровергнуть писателя! Поставить под сомнение замечание учителя! – Ирина Николаевна безобразно кричала, и все притихли, не понимая, что вырвалась наружу долгие годы зревшая обида, растоптанное, никогда не осуществившееся желание встать и сказать однажды: «Вы не смеете!», что так легко далось теперь Кожаевой! Но разве Кожаевой было легко?
Машино лицо полыхало, руки дрожали. Но покоряться она не желала.
– Писатель – человек, и я, и вы тоже, надеюсь, – сказала Кожаева отрешенно, дождавшись конца грозного учительского монолога. – Все люди имеют право судить о делах и поступках друг друга. Я перестану уважать себя и вас, если вы не извинитесь за свою оскорбительную истерику.
– Я… я должна извиниться? Перед тобою?! – Ирина Николаевна негодовала. – Вот что. Или ты, Кожаева, остаешься в классе, или я. Ясно?
Маша не двинулась с места. Медленно, тяжело села. И голова ее, будто сделалась чугунной, стукнулась о скрещенные на парте руки. Ирина Николаевна пристально посмотрела на Кожаеву, на класс, схватила со стола журнал и ушла, хлопнув дверью.
Кожаева заплакала. Всхлипывая, она повторяла: «Что я сделала? Ну, что я сделала? Я написала, что думаю. Учат говорить правду, а потом за правду же попадает!..» Упоминание о «правде, за которую попадает», сразу вызвало симпатии к Маше. Они любили и выделяли среди учителей Ирину Николаевну, но когда она стала называть Кожаеву «мелкой душонкой» и вспоминать «заморскую начинку», все почувствовали растерянность, словно рушился последний бастион.
13
В жизни все взаимосвязано. Эта мысль, такая простая и древняя, почему-то не часто приходит к людям в повседневности. Сочинение, которое могло бы порадовать Ирину Николаевну, Маша Кожаева разорвала. А это, что так неожиданно спровоцировало скандал, написала после бессонной ночи, перед самым уходом в школу.
Родители Кожаевой оставались работать за границей, и Маша жила с братом. Всю жизнь отец был для Маши примером. То, что он утверждал, превращалось в правило. Его спокойное, доброжелательное отношение к людям становилось ее манерой поведения. Размышления отца о жизни, о светлых идеалах, о красоте мира с годами становились Машиным миропониманием. Отец был большим и сильным, Маша в шутку звала его «мой Портосик».
Брат нисколько не напоминал отца, он пошел в мамину родню. Невысокий, худенький, даже тщедушный, он выглядел слабым и беззащитным, но душою оказался сильным и неуязвимым. Пока они жили в Париже, брат оставался дома, учился в университете, потом служил в армии. Теперь он работал океанологом, с охотой занимаясь своими исследованиями, и утверждал, что за океаном – будущее.
О жизни, о людях, тем более об идеалах он никогда не говорил. После работы он отдыхал, читал, слушал музыку, ходил, как он объяснял, «культурно развлекаться». Но больше всего ему нравилось собирать друзей дома. Добрые отношения с друзьями он ценил превыше всего.
Его друзья, образованные и доброжелательные молодые люди и девушки, смотрели брату в глаза, с восторгом ловили каждое его слово и называли «совестью эпохи».
Машу поражало, что совсем взрослые люди с детским азартом играют в «детективы». Игра заключалась в том, что кого-нибудь выставляли за дверь, пока остальные придумывали сюжет и действующих лиц некоего преступления. Вернувшись из коридора, «сыщик» расследовал «преступление» и находил «преступника». Брат говорил: «Каждый по-своему убегает от трудностей бытия. Мне не по душе заниматься «бегом за инфарктом». И твои сенсы меня не увлекают».
Маша привыкла рассказывать отцу школьные новости, делиться с ним впечатлениями и сомнениями. Брат деликатно выслушивал ее, но в ситуацию, как отец, не вникал. Как-то он сказал ей: «Надо все воспринимать не страдая». В другой раз: «Единственным пороком осталось предательство. В ответ на все остальные обиды следует всего лишь пожимать плечами и отходить в сторону – в этом мудрость».
В Париже, в школе при посольстве, училось не так уж много ребят, и все хорошо знали друг друга. Однажды их класс не подготовился к контрольной по математике, и почти всем поставили плохие оценки. Учитель сказал: «Разрешу переписать, если согласятся все». Одна девочка, у которой, кроме пятерок, не было других отметок, заупрямилась. И у большинства в четверти получились тройки. Ту девочку, отличницу, вся школа осудила. Отец сказал: «Нужно уметь личные интересы подчинять интересам коллектива».
Брат, напротив, уверял Машу, что никого ни в чем нельзя принуждать. Все имеют право на собственную позицию. Тем более что никто и не знает точно, что верно, а что скверно. Поклонение авторитетам парализует человека. Надо переносить людей такими, какие они есть. Переделать людей, а тем более мир – невозможно, и незачем мучиться его несовершенством.
Маша терялась, мучилась, ей не хватало отца. Брат судил обо всем по-другому, но тоже убедительно.
Когда Маша поняла, что ребята переманивают ее из компании в компанию из-за записей, да еще используют посредником в своих не очень-то красивых отношениях, она плакала, просила брата перевести ее в другую школу. Брат смеялся:
– Ты что, глупая? Пусть они уходят! Выше всякого знания я ценю самопознание. Понимаешь, мы с тобою внешне не очень-то удались. Есть люди, которые с первого взгляда располагают к себе, пусть они в центре внимания, а мы станем интересоваться ими. Все любят, чтобы ими интересовались, выслушивали их, приходили в восторг. Проявляй любопытство к людям, и незаметно в центре событий окажешься ты…
Когда Маша поинтересовалась, что думает брат о «Третьем сыне» Андрея Платонова, он рассказал ей о Генри Форде.
Форда якобы спросили, в чем секрет его успеха? Он ответил, что если и существует такой секрет, то состоит он прежде всего в способности понять точку зрения другого человека и увидеть ситуацию под его углом зрения. Брат утверждал, что осуждать, указывать, говорить правильные слова удел ограниченных людей, а яркая личность живет независимо и тем самым отстаивает свои права.
Раздумья мешали Маше заснуть. Ворочаясь с боку на бок в ночной темноте, которая казалась густо-черной, душной и угрожающей, Маша слышала, как бродит из своей комнаты в кухню брат, что-то забыв или не в состоянии сразу успокоиться. Потом все звуки и шорохи стихли, и Маша услышала шум дождя и порывы ветра. Если бы она, как эти ветры, могла носиться по белу свету, то сейчас же перенеслась к отцу, и он нашел бы, как ее успокоить.
«А что, если отец не верит в то, что говорит? Просто успокаивает ее, считая, что она еще маленькая?!» Рассуждения отца о том, что личное нужно уметь подчинять интересам коллектива, в чем-то напомнили ей Викторию: «Дубинина, подбери волосы! Тесли, не распускай волосы!» Как-то Холодова, которая, казалось, совсем не боялась Виктории Петровны, прикинувшись простодушной, спросила: «А чем мешают школе наши прически?» Не задумываясь, завуч отрезала: «У школы должно быть свое лицо!»
«Выходит, – подумала Маша, – у школы должно быть свое лицо, а каждый из нас на свое собственное лицо не имеет права?»
К утру, как только забрезжил рассвет, Маша поднялась, разорвала сочинение о рассказе «Третий сын», которое представлялось ей теперь пресным и ничтожным, и написала то, другое, что так неожиданно вывело из равновесия Ирину Николаевну.
14
Не только великие цели и задачи способны объединять. Пережитое и выстраданное вместе связывает не меньше.
Почувствовав общее подавленное настроение, Венька воскликнул:
– Дружбаны! Где фонтаны? Где фейерверки? Кончай травить о смысле и красоте жизни! Лови красоту и кейфуй!
На лицах, озадаченных неприятностями, появились улыбки.
Венька почти всегда вызывал улыбку. Не ироничную, злую и неприемлющую, а добродушно-снисходительную или просто веселую.
– Дружбаны! Балдежку сварганим?!
Все закивали и довольно захмыкали. Выяснилось, что в воскресенье можно собраться у Столбова. Воскресным вечером Алешкина мама была занята в спектакле, а папа – на съемках в киностудии.








