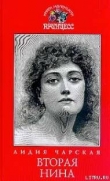Текст книги "Лесовичка"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Марта… 190… г.
Вот она судьба!.. Думали ли мы с Зиночкой сутки тому назад о том, что все так случится?..
Я бросила вчера перо с тем, чтобы бежать за помощью к нашим друзьям. Теперь, через полсуток, открываю мой дневник в чужом месте в плохоньком номере гостиницы крошечного уездного городка.
Это настоящая дыра этот городок, куда нас забросила судьба.
Но все, все по порядку.
Я вышла в тот вечер из дому с воскресшей было надеждой в душе. Я чуть ли не бегом пустилась по направлению того дома, где квартировал Славин.
На улицах стояла поздняя весенняя полумгла. Фонари казались белесоватыми глазами в этих синеватых сумерках, еще не перешедших в полную тьму. Я бежала, мысленно перебирая все, только что случившееся со мною.
Погруженная в думы, я вдруг заметила, что две темные фигуры следуют за мною. Одна – высокая, другая – пониже, обе мелькающие, как две черные птицы, по захолустным улицам городка.
Но вот и дом, где жил папа-Славин, общий друг и отец арбатовской труппы. Я, задыхаясь, вбежала в подъезд.
– Дома Дмитрий Павлович? – поспешно спросила я малолетнего казачка-лакея.
– Только что в театр отъехали! – услышала я громом поразивший меня ответ.
Но на этот раз мое смятение длилось недолго.
«К тете Лизе!.. К Ликадиевой надо теперь!..» – мысленно заторопила я себя, как в лихорадке, и, почти выбежав из подъезда, бодро зашагала опять.
На повороте в глухой переулок две черные фигуры неожиданно загородили мне дорогу.
– Ксения Марко! – услышала я хорошо знакомый мне голос. – Остановись! Тебе приказываю, остановись!
И мать Манефа в сопровождении Уленьки нежданно-негаданно появились предо мною.
Я замерла на месте, впрочем, скорее от недоумения, нежели от испуга.
Манефа!.. Уленька!.. Они – здесь!
Минуту я стояла, не веря своим глазам. Мне казалось, что я сплю с открытыми глазами.
Бог знает, к чему бы привело мое замешательство, если бы сладенький, скрипучий голос Уленьки не затянул у меня над ухом и окончательно не разбудил меня:
– Ай, и стыдно же, девонька!.. Из пансиона бежали!.. Матушку-благодетельницу сокрушаться заставили, беспокоиться, себя искавши… Слушайте, Ксанечка, ведь вы мне первый друг, девонька моя миленькая. Век не забуду вашу милость, как вы меня, рабу недостойную, от лютой смерти спасли и с пожара вынесли… И вот что я вам скажу: грех великий от доли иноческой бежать, скрываться… Кому келия уготована, тому – радость Господня, а вы, девонь…
Она не докончила. Я не дала ей докончить. Я оттолкнула ее из всей силы, потом рванулась из-под костлявой руки Манефы, впившейся мне в плечо, и стрелою помчалась от них по узкому переулку.
В пять минут добежала я до дому. В этот поздний час улицы города тихи и пустынны. Ураганом ворвалась я к Зиночке, поджидавшей меня, и наскоро, захлебываясь, сообщила ей всю суть дела.
– Тебе, Ксаня, надо уезжать отсюда!.. Сегодня же, с ночным поездом… сию минуту! – заволновалась и заторопилась в свою очередь Зиночка, – а то никто не поручится за то, что они явятся сюда завтра утром и отнимут тебя от нас, чтобы поместить в монастырь.
– В монастырь! – эхом отозвалось в моей душе, и дрожь пробежала по всему моему телу.
Очутиться теперь в монашеской келье, теперь, когда я чувствовала и знала свою силу, свой талант, когда я испытала радость победы над людьми, над толпою, теперь в монастырь – о, это было бы ужасно!
Трепет охватил меня всю.
– Никогда! – почти выкрикнула я в голос. – Никогда! Никогда! Никогда!
– Тогда надо ехать… Сейчас, ночью, непременно, – лихорадочно прошептала Зиночка. – Я иду собираться и будить детей.
– Как? Ты?.. Ты хочешь разве тоже со мною? – проронила я, пораженная ее словами.
– Милая Ксаня, – проговорила она, подойдя ко мне и крепко сжав мою руку, – когда вчера вечером я очутилась без места с двумя детьми на руках, что ты сказала мне? Что ты будешь жить с нами и работать для нас. Теперь наши доли сравнялись. Мы обе нищие, Ксаня, и обязаны поддерживать друг друга.
– Но… но… как же… этот дом… прислуга?.. – начала я было несмело.
– Вздор… В этом доме нет ничего моего. Я снимала квартиру с мебелью и посудой от хозяев. Глаша же – племянница моего хозяина, и, после нашего отъезда вернется в дом дяди… Видишь, никто кроме твоих «матушек» не потеряет от нашего бегства.
И на ходу чмокнув меня в щеку, она бросилась в спальню поспешно укладывать в дорожный сундук наше платье и белье.
Что было потом – я едва помню. Начался какой-то сумбур, какая-то лихорадка: открытый сундук и чемоданы, испуганные личики детей, краткое объяснение с Глашей о том, что Зиночку требуют ее родные, и отъезд или, вернее, бегство в ясную, сумеречную мартовскую ночь…
До той минуты, пока мы не устроились на жестких скамьях вагона третьего класса и не уложили на них недоумевающих и пораженных всей это сутолокой детей, ни я, ни Зиночка не могли вздохнуть спокойно…
И только тогда, когда локомотив пронзительно свистнул и поезд пополз вдоль платформы, мы взглянули друг на друга, и обе, не сговариваясь, в один голос произнесли: – «Наконец-то!»
– А Мише-то, Мише мы ничего и не сообщили! – вдруг вспомнила Зиночка, волнуясь.
– Мы напишем ему с места, когда приедем, – успокоила я ее.
– А куда мы едем? – поинтересовалась я через минуту. – Ты куда брала билеты?
– В Канск. Это в восьми часах езды отсюда. Маленькое захолустье, где, однако, есть театр. Мне на днях передавали, что там ищут актрис. Условия не блестящие, даже более чем скромные, но это ничего… Вот мы там устроимся непременно: ты в качестве знаменитой гастролерши Карали, я – в качестве скромной актрисы на вторые роли… А теперь спать, спать, спать, я так мучительно устала, – детски капризна произнесла она и тут же уснула подле своих сыновей, прикорнув на лавке головою. Мне ничего не оставалось, как последовать ее примеру.
Апреля… 190… г.
Милый мой дневник, как давно я не беседовала с тобою! Но что же делать, если всю эту неделю все мое время прошло в хлопотах.
Тотчас по приезде в Канск я отправилась искать комнату. Увы! только одну комнату и самую скромную на этот раз… У нас с Зиночкой оставалось всего десять рублей денег. Надо было экономить, чтобы этих денег хватило до тех пор, пока я и моя подруга не устроимся в местной труппе. Я взялась найти такую комнату – и нашла. Она стоила только четыре рубля в месяц. Это была полутемная мансарда, вроде чердака, с единственным окном, выходящим на крышу. Внизу жил сапожник с женою и двумя взрослыми сыновьями, любителями выпить, о чем свидетельствовали их красные носы.
Ничего более подходящего я не могла найти по нашим средствам.
Зиночка пришла в ужас при виде мансарды.
– Но ведь это даже не комната, Ксаня, а какая-то конура! – воскликнула она в отчаянии и залилась слезами.
– Не плачь, голубка, это временное помещение… Вот устроимся в театре и найдем другое… Пока же надо довольствоваться и этим. А детям и тут будет хорошо… Теперь весна, скоро лето… Они будут целые дни на дворе… Чего же лучше, – и я погладила ее по голове, как ребенка. Она и была в действительности ребенком, милым, беспечным, двадцативосьмилетним ребенком-женщиной, готовым плакать и смеяться по пустякам…
Мы тотчас же водворились в нашей мансарде к немалому удовольствию ребят, которым новое помещение показалось очаровательным. Они, недолго думал, влезли на окно, выходящее на крышу, и свели знакомство с голубями, которых набралось к нам сюда великое множество. Поручив надзор за детьми старухе-хозяйке, мы сами пошли в театр.
– Где можно видеть господина директора труппы? – вежливо обратилась Зиночка к какому-то плохо одетому, мрачному субъекту с бритым лицом, вышедшему нам навстречу на подъезд деревянного здания, вернее сарая, под крышей которого ярко намалеванная надпись гласила: «Городской театр».
Он удивленно вскинул на нас глазами и буркнул сердито:
– Я антрепренер-директор. Что вам угодно?
Тогда Зиночка, смущаясь и краснея, стала нескладно и робко пояснять, что нам от него угодно.
– Мы… я то есть… и моя подруга… мы обе… актрисы и желали бы получить у вас место в труппе… – лепетала Зиночка.
– Место в труппе?.. – хрипло рассмеялся директор. – Место в труппе?.. Голодом умереть хотите? Жизнь надоела, что ли? В кассе два рубля сбора… Публику в театр кнутом не загонишь… Труппе есть нечего… Три месяца жалованья не получали… А вы место у меня еще просите!.. Нет, нет, никаких нам актрис не надо… Сами голодаем…
И снова расхохотавшись неестественным, болезненным смехом, он махнул рукой и кинулся бежать от нас как от зачумленных.
Апреля… 190… г.
Липы зацвели в хозяйском садике. Весна идет. Временами в прохладной мансарде душно. Ночи стали светлые, белые.
Мы с Зиночкой часто не спим в эти ночи… Заботы о насущном хлебе не дают спать.
После того как наши надежды пристроиться в театре рухнули, для нас обеих наступили тяжелые дни. Найти какой-нибудь заработок в маленьком городишке было почти немыслимо. Мы не знали, что делать, что предпринять. А между тем наши средства истощились.
Вчера на обед истратили последний рубль. Кошелек Зиночки пуст, мой тоже. Детям дали молока с хлебом. Обед не из чего было варить.
– Давай я снесу наши платья на толкучку, – предложила я. – Рублей десять – пятнадцать, наверное, дадут. На несколько дней хватит… А там я наймусь куда-нибудь, ну, хотя бы в поденщицы… Я, право, не знаю куда, но надо, надо работать… – отрывисто и тихо говорила я.
Она молча обняла меня.
– Бедная моя Ксаня!
Дети, должно быть, не подозревают, что наши дела так плохи. Их забавляет, что сегодня не варится обед и что им дадут колбасы, молока и хлеба.
Только Валя сегодня смотрит серьезнее обыкновенного и тревожными глазенками следит за нами.
– Куда ты несешь вещи, тетя Китти? – спрашивает он, когда я, нагроможденная узлами, спускаюсь с лестницы.
– Вот к портнихе несу… переделать надо твоей маме и мне наши наряды… – лепечу я и багрово краснею.
Его ясные глазенки уже впились в меня.
– Зачем ты говоришь неправду, тетя Китти? Ты идешь на толкучку продавать вещи, потому что нам нечего кушать. Я слышал, как мама плакала ночью…
Бедный ребенок! Рано же пришлось тебе познакомиться с правдой жизни!
Я судорожно обнимаю его, целую и стремглав выбегаю на улицу.
На рынке народ, пестрая толпа, навесы, лавчонки с товарами. Говор обывателей, крики торговцев, споры и брань – все смешалось. В ближайшем ларьке сидит старьевщица. К ней я несу мои вещи. Она долго, старательно разглядывает их, переворачивает из стороны в сторону, чуть ли не обнюхивает каждую тряпку. Ее длинный нос, ее хищные глаза и худые, костлявые руки все выражает алчность. И вот, после получасового осмотра она изрекает дребезжащим, как несмазанная телега, голосом:
– Пять рублей!
– Как пять рублей! Но ведь здесь пятьдесят рублей одного товара, не считая работы!
– Так и убирайтесь вон с вашим товаром! – кричит она и грубо пихает вещи обратно в саквояж.
Как в вихре переносится моя мысль в тесную мансарду: несчастная Зиночка, голодные дети и ни капли молока на завтра.
– Давайте 5 рублей, все равно, – глухо выговариваю я, потому что мое горло сжимается тисками, – да вот еще и саквояж возьмите.
– Полтинник за саквояж и ни копейки больше.
– Хорошо, – говорю я и невольно сжимаю губы.
Тут же на толкучке я покупаю мясо и овощи и спешу домой. В сердце, несмотря ни на что, царит радость.
Слава Богу, дети не останутся голодными более или менее продолжительное время!
Мая… 190… г.
Неужели я не писала почти целый месяц? Ах, какой это был месяц! Что только мы не перенесли в продолжение его!
Вырученных денег хватило ненадолго. Надо было измышлять новые получки. За платьями я снесла на толкучку белье, за бельем – пальто и шляпы. У нас осталось лишь по одной смене белья и по одному носильному костюму… Зато дети сыты, они не испытывают нужды.
– Работать, работать надо… – повторяли мы ежедневно, я и Зиночка.
Но где найти работу, откуда?
Хозяйка, ее муж и сыновья подозрительно косятся на нас. Я слышу нелестные отзывы о нашей благонадежности.
Я просила несколько раз хозяйку рекомендовать меня в поденщицы. Она только презрительно смеется:
– Куда уж вам! Белоручки вы! Сидите уж дома.
Хорошо ей говорить это. Но кто же прокормит Зиночку и детей? Не Зиночке же работать! Она барышня, вдова офицера. А я? Кто я? Я просто дитя леса, умевшее справлять самую черную работу в доме лесничего.
Мая… 190… г.
Последние гроши вышли. Не на что не только сварить обеда, но и купить молока. Мне удалося лишь достать в ближайшей лавочке весового хлеба для детей.
Зека ничего не понимает, по-прежнему смеется, звонко и весело, и иногда просит пряничка у меня и Зины…
Валя молчит, только личико его серьезнее и печальнее обыкновенного. Смотрит жалкими глазенками на мать и крепится, чтобы не заплакать. Иногда подойдет ко мне, уткнется курчавой головенкой в колени, как котенок, и молчит.
Какая пытка, это молчание голодного ребенка, какая мука!
Июня… 190… г.
На улице лето, душно и жарко. Вся природа тихо и ласково ликует.
У нас в мансарде ужас.
Дети напомнили о голоде; первый – Зека.
– Мама, дай хлебца… Я кушать хочу… – попросил он.
Валя бросился к брату.
– Постой, Зечка, рано обедать!
– Но я кушать хочу! – настаивал ребенок.
Зиночка забилась в угол и беззвучно рыдает.
Боже мой, как вынести эту пытку! И все из-за меня! Я одна во всем виновата. Ради меня ведь уехали мы в это захолустье. Не убеги я от преследования Манефы – они остались бы на виду их друзей, которые не допустили бы их голодной смерти…
А теперь…
Неужели непоправимо содеянное мною?.. Нет, нет, вздор!.. Еще не поздно, еще можно поправить.
Я беру перо и пишу Мише Колюзину, в каком мы положении, что переживаем. Пишу на клочке бумаги, без марки. Молю сделать подписку среди артистов в театре и прислать нам сколько-нибудь денег, потому что мы нищие, нищие вполне… И это пишу я, гордая Ксаня! Гордая лесная девочка, не склонявшая ни перед кем головы!.. Но я не для себя прошу: для Зеки, Вали… Несчастные дети!.. Чем виноваты они?
В этот вечер они улеглись спать, поглодав корку черствого хлеба. Я сумела выпросить его у хозяйки. Эта злая женщина чуть ли не ежедневно напоминает о том, что сгонит нас с квартиры, потому что мы уже две недели не платим за нее. Но она сжалилась над детьми и швырнула мне этот черствый кусок для них…
Июня… 190… г.
Утром я была поражена ужасным видом детей. Их личики стали прозрачны и худы до неузнаваемости. Глаза поражали своей величиной. Зека заплакал, прося кушать.
– Крошечку, мамочка… одну только крошечку хлебца!.. – молил он.
Этот слабенький, вымученный голосок рвал душу. Валя молчал, только огромные глаза его сверкали.
Зиночка, бледная и худая, как тень, пошатываясь подошла ко мне и прошептала:
– Я не могу… я не могу выносить больше этого, Ксаня… Уж лучше умереть всем сразу!..
Я тоже того мнения, лучше сразу. Я не железная и муки голода делают свое дело…
Дети немного кушали вчера, но у меня с Зиночкой двое суток не было во рту ни куска, ни крошки.
Как безумная кидаюсь я к хозяйке:
– Хлеба!.. Ради Бога!.. Хоть кусочек!.. Хоть крошку!..
Мое лицо, должно быть, слишком красноречиво говорит о том, что мы переживаем там, наверху, в мансарде… Хозяйка бранится и… все-таки дает краюшку… Когда я, с жадностью схватив ее, кидаюсь к дверям, она кричит мне вдогонку:
– Эй вы, дармоедка! Вот работу просили. Есть работа у меня: белье мне постирайте сегодня… Два гривенника заплачу.
– Белье?.. Да… да… хорошо… сейчас… сейчас, – в я уже взвиваюсь по лестнице туда, в мансарду.
Три пары лихорадочно горящих глаз впиваются в кусок хлеба, который я держу, как редкое сокровище, обеими руками. Я надламываю его… Мои пальцы дрожат… Одну половинку Вале, другую Зеке… Зека хватает свою порцию и лихорадочно быстро уписывает ее… Сухая корка хрустит на его зубенках… О, этот хруст! Он выворачивает всю мою внутренность… Он нестерпим для моего голодного желудка…
Валя смотрит на свой кусок, потом переводит глаза на Зиночку, на меня.
– А тебе? А маме? Ведь и вы тоже хотите кушать, – лепечет он, и его крошечные ослабевшие ручонки уже разламывают скудную порцию на три куска.
– Не надо! Не надо! Кушай сам… мы потом покушаем… мы сыты! – почти в голос кричу я, боясь разрыдаться от голода и жалости в одно и то же время. Потом кидаюсь к Зиночке.
– Ты знаешь, мне предложили работу!.. Потерпи до вечера, мы будем сыты! – шепчу я.
Она только машет рукой и отворачивается в угол…
Июня… 190… г.
Солнце палит вовсю. Когда я стояла на плоту и мылила белье и потом споласкивала его в зеленоватой воде пруда, оно было немилосердно ко мне. Оно жгло мою голову… Голова горела. Ах, как горела голова!.. Красные круги стояли в глазах. Все кружилось – и белье, и пруд, и старые ветлы на берегу. Мозг пылал… Внутренности сжимались от пустоты… Я не ела почти трое суток… Ад, ад внутри меня… И ад в голове… Не могу больше… Не могла дополоскать белье днем под палящими лучами солнца, не могу записать и теперь эти строки в мой дневник… Силы падают… Голова ноет все сильнее и сильнее… Зато внутри все легче и легче… Я не чувствую голода. Только язык весь ссохся и трудно ворочается во рту…
Июня… 190… г.
Я лежу. Голова болит нестерпимо. Зиночка сидит подле меня и кладет холодные компрессы… От компрессов не легче… Нет!.. Нет! Мой дневник под подушкой. Дневник и карандаш… Когда она отходит от меня к детям, я беру и записываю… Зачем? – не знаю сама… Голова раскалывается от боли. Не могу писать…
Июня… 190… г.
Не могу писать…
О Боже! Боже!
В глазах какие-то круги, все тело ноет, рука едва держит карандаш, в ушах – шум, голова точно свинцом налита.
Что это усталость, голод или смерть?
Боже, неужели смерть?..
Июня… 190… г.
Как долго я болела – не знаю…
Сколько перемен. Господи, сколько перемен!.. Но надо рассказать тебе по порядку, все по порядку, мой милый дневник… А я так еще слаба! Так слаба вследствие болезни.
Карандаш в моих руках. Меня оставили на минуту одну. Они пошли в церковь, а Зиночка, думая, что я заснула, взяла Валю и Зеку и спустилась во двор.
Мой милый дневник, я снова одна с тобою!..
Как все это случилось?
А вот как.
Мне стало худо тогда на плоту. Голова раскалывалась от боли… Все тело горело и ныло. Я едва дотащилась до дома и упала на кровать. Сначала мне казалось, что это только от усталости и… голода. Я успела даже кое-что записать в дневник. Но потом, ночью, началась пытка. Я не могла заснуть и не могла забыться… Холодная тряпка на лбу казалась раскаленным железом… Я кричала от боли, но среди крика минутами я различала бледное, встревоженное лицо Зиночки, склоненное надо мною.
– Тебе худо, Ксаня, очень худо?
Я не отвечала. Язык плохо ворочался во рту. Губы ссохлись. Сил не было произнести хоть слово…
День поднимался и снова догорал… Ночь спустилась. Зиночка уложила детей и сама прилегла в ногах моей кровати. Она думала, что я сплю.
Но я не спала… Я слышала, как спустилась ночь, как все затихло в доме, как улеглись сапожники внизу…

Смеркалось. Я лежала на спине с открытыми глазами… Так прошла вся ночь.
Вдруг неожиданно внизу скрипнула калитка… Послышались голоса… Отворилась хозяйская дверь… Опять голоса. Заскрипели ступени лестницы под чьими-то тяжелыми шагами, дверь нашей мансарды широко распахнулась, и два черных призрака вошли в нее.
Эти два черных призрака были – Уленька и мать Манефа.
«Это только бред», – подумала я. Но нет – это не был бред.
«Они» нашли меня, нашли больную, истерзанную голодом и болезнью. «Они» сказали, что гнев Божий посетил меня, что я наказана достаточно и что нет злобы в их душе на меня. Они узнали, где я, и явились.
Июня… 190… г.
«Их» опять нет, и я могу писать.
Они дали денег Зиночке, накормили ее детей и, как две добрые сиделки, стали чередоваться у моей постели.
Ко мне был позван доктор. Мне заказали лекарства, купили вина…
Лекарство и вино, а главное, доктор, сделали свое дело. Тиф был захвачен в самом начале. Теперь я буду жить.
Жить?..
А стоит ли жить? Что ждет меня, одинокую сироту, в жизни?..
Да, теперь я знаю: впереди ждет меня келья. Мать Манефа твердо решила это. И она, и Уленька целыми часами говорят о том, что тяжелый крест посетил меня, что я свернула с истинного пути, уготованного мне Богом, и что нужно новое искупление, дабы получить отпущение грехов.
Что ж, они правы!
Я вижу в том сама промысел Божий. Не приди они вовремя, Зина и дети умерли бы с голода… А теперь…
Да, да!.. Надо каяться и молиться. Это решено. Я иду в монастырь.
Июня… 190… г.
Когда «они» уходят в церковь, Зиночка садится на мою кровать и плачет надо мной, как над мертвой. Она не может успокоиться, что я буду монахиней.
– Ты так молода, Ксаня, и должна отказаться от жизни, от всех ее радостей, – лепечет она сквозь слезы.
– Зиночка, оставь! Оставь!
Прибегают Валя и Зека. Они очень переменились за эти несколько дней. Еще бы! Сытная еда что-нибудь да значит!
Их щечки снова слабо окрасились румянцем, глазки блестят.
– Тетя Китти, – лепечут они, – мы поедем с тобою. «Черные тети» сказали, что, как только ты поправишься они увезут тебя. Правда? Мы все вместе поедем. Когда? Скоро?
Я обнимаю их слабыми руками.
– Голубчики мои… Я одна уеду… Черные тети берут только меня с собою… Вас им не надо…
– Злые черные тети! Мы не хотим, мы не позволим, – лепечет Зека в то время, как Валя молча сжимает кулачки.
– Черные тети спасли вас от голодной смерти, вы не должны забывать этого, – говорю я наставительно в то время, как мое сердце разрывается от тоски…
Что это не отвечает Миша Колюзин? Он должен сделать подписку среди артистов и собрать денет в пользу Зиночки, иначе могу ли я спокойно уехать от них?