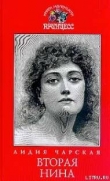Текст книги "Лесовичка"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Глава XIV
Молитва услышана. – Обреченная. – Паника. – Героиня
Тихо мерцает лампада перед Распятием Спасителя. Божественный Страдалец изображен с низко поникшей головою на грудь. Капельки крови, застывшие на теле, кажутся горящими рубинами чистейшей воды. Взор Спасителя поднят к небу. В нем светозарная скорбь, именно светозарная. Иначе нельзя определить эту полную неземной грусти, сладкую надежду на то, что великая жертва принесена за мир, за людей на общее людское благо.
Ксаня сидит у подножия Распятия в пустой, холодной и полуосвещенной часовне. Ее зубы дробно стучат. Руки и ноги захолодели.
Сегодня первая ночь «испытания». Таких ночей она должна провести шесть, прежде чем матушка отвезет ее в обитель. Так уже принято у них в пансионе, что каждая, обрекшая себя Богу, должна простоять шесть ночей на молитве от девяти до трех утра, чтобы сосредоточиться в полном одиночестве, подвести подсчеты прошлому, обдумать строго грядущее наедине с самой собою.
Но завтрашняя ночь будет пропущена. Завтра елка и вечер у княгини и представление «божественной мистерии», как называла княгиня устраиваемые ею спектакли.
Ах, как морщилась матушка, когда говорила ей вечером сегодня, благословляя ее идти в часовню:
– Эти светские выдумки помешают тебе только «готовиться», оторвут высокие помыслы и заменят их суетой. Просила княгиню освободить тебя, а она и слушать не хочет. Говорит, что ты будешь украшением ее представления… Ну, и пусть!.. А завтра опять за молитву…
Утром Секлетея принесла в классную радостную весть. «Уленьке лучше… Уленька выживет… Доктору удалось предупредить воспаление мозга!»
Итак, молитва пансионерок была услышана. Уленька была вне опасности.
Точно праздник Святой Пасхи была встречена эта весть присмиревшими пансионерками. Уленька-язва, Уленька-сплетница была забыта. Помнили о страждущей, болящей и несчастной Уленьке и взялись помогать сиделке, приглашенной к больной. Потом вспомнили о Лареньке.
– Что-то она? Как доехала?
– Надо бы узнать… в белую руину сбегать… Верно, уж лежит там письмо от Ларенькиного спасителя, – предложил Ксане кто-то из девочек.
Из-за крещенских морозов девочек гулять не водили, и потому Ксане пришлось снова прыгать зайцем среди сугробов.
Под мышкой мраморной Венеры лежало письмо.
«Царевна лесная! Сим доношу, что довез вашу беглянку до вокзала и посадил в поезд, – писал Виктор. – Она вам кланяется. Сейчас получил от нее длинную телеграмму. Извещает, что благополучно доехала до своей бабушки и что бабушка к Манефе ее больше не отпустит. Как видишь, царевна, все устроилось отлично – назло всем вашим монашенкам. Лариса обещала прислать обо всем подробное письмо, которое я в свое время исправно вам доставлю. Ну, а когда же я увижу твою милость? В субботу отпрошусь в отпуск к товарищу и приду в эту разлюбезную собачью конуру. Может быть, увижу тебя или найду от тебя писульку. Прощай, друже! Рад, что сослужил тебе службу. В сущности, ведь ты славный малый, Ксанька, хотя и не хочешь знать ни меня, ни розовых графов. Ну, пока до свидания. Искренно преданный
Виктор».
Ксаня спрятала письмо ее верного и единственного друга.
В субботу он обещал прийти. Но в субботу она не выйдет к нему. Она уже будет в обители. Так решила матушка, так должно быть. Она – одинокая, всеми забытая сирота, и ей только два выхода в жизни: или в лес, или в обитель. Но в лес нельзя. Ее поймают, найдут, отвезут в Розовую усадьбу. Нет! Нет! Она не хочет этого! Ни за что в мире! Лучше уж в обитель, туда, за серые стены, где плавно движутся черные тени монахинь, где жизнь катится тихо и ровно и где нет ни ненависти, ни вражды, где все время будет проходить в молитве…
«В молитве? А разве ты умеешь молиться?» – шепчет какой-то голос внутри Ксани.
Нет! Не умеет.
Она не умеет, по крайней мере, не умеет так, как хотела бы молиться…
Ее глаза поднялись на Распятие…
Какое чистое, прекрасное, страдальческое лицо! Сколько в Нем дивного самозабвения, покорности и кроткой ласки!.. Любит ли Он, чистый и безгрешный, ее, Ксаню, несмотря на то, что она не умеет и не может молиться Ему? Говорят, Он всех любит, и добрых, и злых, и кротких, и жестоких. Она постарается понять Его, почувствовать всю Его милосердную душу… Там, в монастыре, она научится молиться Ему. Ведь там Его дом, Его обитель… Не может же она не полюбить кроткого хозяина этой обители…
Во все глаза смотрит Ксаня на Распятие. Милостивые, кроткие очи затуманены слезами неземной скорби, рубиновые капельки крови на ладонях и ногах, рубиновые кровинки на высоком челе, увенчанном колючими терниями…
– Да!.. Да!.. Я буду покорной и кроткой монахиней, я постараюсь научиться молиться Тебе! – без слов шептали ее губы, и какая-то непривычная, тихая радость разлилась по ее душе.
«У вас талант, детка… Вы засияете яркой звездой на всю Европу! На весь мир!» – где-то близко-близко послышался знакомый голос подле нее, почти рядом. Она оглянулась даже, но никого не было кругом. Часовня была пуста. А между тем почти въявь перед нею стояло доброе, ласковое лицо, и восторженно сияли его детски чистые, прекрасные голубые глаза…
Снова слышался голос Арбатова: «Вы талант, детка, талант, какого я не встречал. Вы настоящая фея Раутенделейн! Идем за мною, фея Раутенделейн из лесной сказки, я сделаю вас великой!»
И его голос то падал до шепота, то поднимался снова и снова падал, баюкая и нежа ее, как колыбельная песнь…
Она забылась под эти нежащие, в душу вливающиеся звуки… Забылась, приткнувшись черною головкой к подножию распятого Христа…
* * *
Острый, неприятный и удушливый запах наполнил часовню. Едкий дым просачивался сквозь дверную щель и замочную скважину. Этот дым разбудил Ксаню. Она с усилием раскрыла глаза. Пахло гарью, но по-прежнему кругом была тишина. Только что-то зловеще шуршало за порогом часовни. Темные клубы дыма наполняли ее. Ксаня вскочила, схватилась за голову. Голова трещала и нестерпимо ныла. Дым ел глаза, заползал в рот, в нос, застилал зрение. Она задыхалась… Туманная мысль в больной голове подсказывала страшную действительность.
«Пожар! Горим!» – вот первое, что сознательно, молотом ударило в мозг.
– Пожар! Горим!
С этим криком, дико и пронзительно нарушившим тишину пансиона, она метнулась сломя голову из часовни, широко распахнула тяжелую дверь и отступила с трепетом. Огромное пламя бушевало по коридору – огненное, страшное, перемешанное с черным, едким, режущим глаза дымом. Оно начиналось там далеко, в комнате сестры Агнии, и, нарастая с каждой секундой, принимая чудовищные размеры, стремилось дальше к столовой, классной и к спальне пансионерок.
Не помня себя, Ксаня метнулась туда.
– Горим! Спасайтесь! – крикнула она диким, исступленным голосом, появляясь на пороге.
Там уже знали о пожаре. С воплями, стонами и слезами девочки метались из стороны в сторону, не зная, за что схватиться, что спасать. Бледные, потерявшиеся, с распущенными волосами, в одних длинных ночных сорочках, с перекошенными ужасом лицами, они носились из угла в угол, громко и дико взывая о помощи.
Но никто не шел, никто не приходил спасать их. От комнаты Манефы, кухни и каморок прислуги девочки были отделены этим свирепствующим морем огня.
Мимо Ксани пронеслась вихрем маленькая Соболева.
– Куда?
– Туда, в пламя! Все равно не спастись! – истерически взвизгнула девочка.
Сильные руки Ксани схватили ее.
– Ни с места! Там смерть! – властно крикнула Марко.
Высоким, чужим голосом Юля Мирская читала отходную. Ее худые руки тянулись к потолку. В длинной сорочке с худым, перекошенным от смертельного ужаса лицом, она походила на привидение.
Змейка Дар, бледная и страшная, стояла на ночном столике и, стараясь осилить стоны и вопли, выкрикивала каким-то фанатически звенящим голосом:
– Девоньки! Молитесь! Молитесь! Девоньки! Близка смерть! Умрем, как невесты Христовы!
В это время в спальне стало светло как днем.
Второй деревянный дом горел как свеча.
Вопль, дикий и пронзительный, потряс спальню. Змейка тяжело рухнула со столика в глубоком обмороке.
Стоны, крики, плач стали громче.
Вдруг сильный, могучий возглас покрыл все эти стоны и плач.
– Одеваться скорее! Вынуть салопы и платки! И вниз… на улицу!.. Медлить нельзя! – кричала Марко.
Ее властный окрик протрезвил всех. Вопли, стоны и пение отходной прекратились. Змейку привели в чувство, облив ей голову водой. Соболеву успокоили. И все это сделано было по тому же властному приказанию бледной черноглазой девушки-подростка.
Когда испуганная насмерть Манефа, Агния и прислуга появились в спальне, девочки были готовы, одеты все до одной.
– Вниз!.. вниз!.. На крыльцо!.. На улицу!.. – срывалось с бледных, трепещущих губ матушки, и взволнованные, потрясенные монастырки, с ужасом косясь на свирепствующее пламя, бросились по лестнице.
И было как раз вовремя. Невыносимо едкий дым душил их. Губы трескались от жары. Пламя пожара охватило все здание.
По улице в это время, тяжело громыхая, катили пожарные. Прямо к девочкам летела княжеская коляска. Князь стоял, махал рукою и кричал:
– К нам! К нам, матушка!.. Забирайте девочек и к нам!.. Княгиня ждет!.. Ее предупредили!..
А пламя, подхватываемое ветром, свирепствовало все больше и больше. Со свистом и ревом огненный клубок плясал свой дьявольский танец вправо и влево… Черный дым застилал легким флером этот торжествующий праздник огня… Балки здания рушились одна за другой… О спасении пансиона не было и речи. Надо было отстаивать другие, ближние здания.
Крики пожарных сливались с криками зрителей, собравшихся густою толпою на улице.
Князь продолжал кричать:
– К нам, к нам везите девочек!.. Берите коляску и отправьте в четыре приема!.. Места всем хватит!..
Но его не слышали. Крики людей, вой пламени и шум падающих балок заглушали все.

Среди общего гула и шума, на крыльце пансиона показалась фигура в сером платке и белом переднике.
– Больную… больную забыли! – кричала она. – Больную вынести забыли… Нельзя… не вынести… Погибает… Сгорит.
И, рыдая, упала на ступени.
Ответный крик пронесся на пожарище.
– Уленьку забыли! Уленька сгорит!
Ужас сковал присутствующих, смертельный, панический ужас.
– Человек погибнет!.. Человек сгорит!
Пожарные были заняты каждый своим делом на крыше и с боков фронта. За свистом ветра и шумом пожарища им не слышно было отчаянных криков матери Манефы и девочек.
– Спасите больную! Спасите больную! – гудела толпа.
– Не спасти все едино!.. Ишь огнище-то! – слышались отдельные голоса.
– Сунься-ка в пламя – капут!
– О Господи, душа человеческая!
– Рискнуть надо!
– Братцы, идем!
В ту же минуту с грохотом обвалилась горящая балка.
Толпа отшатнулась волной.
– Поздно теперь, шабаш! – выкрикнул чей-то голос.
Вдруг черная фигура отделилась от толпы, и, прежде чем кто-либо мог остановить Ксаню, она ринулась вперед в самое море огня.
* * *
Что-то толкало ее вперед. Она летела как на крыльях среди двух потоков бушующего моря. Ее кожа и губы трескались от жары, одежда начинала тлеть. Одна мысль жгла ей мозг:
– Больная… забытая… она… Ульяна!.. Надо спасти!.. вытащить!.. Надо… непременно надо…
Ксаня сама не замечала, что говорит это вслух, как одержимая, как безумная.
Вот коридор… вот часовня… Дальше, дальше… Пламя занялось… и уже стены горят… Шурша зловеще, огонь гуляет по обоям и мебели… Вот и комната Уленьки…
Черный дым наполнял эту комнату, выбиваясь клубами в коридор… Он ест глаза Ксани, туманит голову, почти лишает мысли…
Рядом пылает как костер приемная пансиона.
Смертельно душно…
Лесовичка делает скачок… другой… Вот она уже в комнате послушницы.
Уленька лежит на кровати с закрытыми глазами.
– Неужели задохлась?
Ксаня прикладывает ей ухо к сердцу.
– Нет! Жива! Слава Богу, сердце бьется!
И Ксаня сильными руками поднимает Уленьку. Больная послушница мала и худа, гораздо меньше ее, Ксани. Но в обморочном состоянии она тяжело повисла на руках своей спасительницы.
Ватное одеяло тянется за ней, мешая ступать, путаясь в ногах, заставляя спотыкаться. Быстрым, сильным движением Ксаня вскидывает свою ношу выше и идет… спешит…
Огненные языки тянутся к ней, как красные чудовища, со зверским желанием лизнуть, поглотить, уничтожить…
Она подвигается медленно со своей ношей на руках.
– Скорее бы, скорее!
Больная, бесчувственная Уленька стонет в забытьи:
– Душно! Душно! Воды! Душно!
– Сейчас! Сейчас! Потерпи немного!
Коридор миновали… Спальню тоже… Вот и лестница… Сейчас, сейчас спасенье…
Но что это? Целое море огня перед ними: пока возилась со своей ношей Ксаня, лестница давно занялась.
Как сойти вниз?
Ксаня бросилась было вперед, наперекор свирепствующей стихии – и мгновенно отскочила назад. Тяжело громыхая, что-то ринулось вниз из-под самых ног ошеломленной Ксани.
И на ее глазах остатки обгоревших ступеней исчезли в огне.
Кончено! Путь отрезан. Нельзя выбраться без лестницы с третьего этажа.
Тогда, вне себя, чувствуя гибель, она метнулась к окну.
– Спасите!.. – крикнула она своим резким, сильным голосом. Спасите!..
Черные, покрытые сажей фигуры были ей хорошо видны из окна.
Люди жестикулировали, кричали ей что-то, но ничего нельзя было разобрать.
А пламя приближалось. Поворотом ветра, ворвавшимся сквозь выбитые стекла, оно приняло другое направление. Оно свистело, как страшное чудовище, теперь за самыми плечами Ксани. Оно касалось ее волос, одежды… Сейчас оно оцепит ее всю с ее ношей, и они обе, и Уленька, и Ксаня, сгорят в бушующем пламени. Пока пожарные приставят лестницу и дойдут до них, все уже будет кончено… все… все! Они сгорят… Сгорят обе…
Пламя все ближе и ближе… Черные глаза Ксани покосились на бушевавшее вокруг нее беспощадное огненное чудовище, которое уже трепетно охватывало ее со всех сторон.
– Конец! – где-то со смертельным спокойствием отозвалось в глубине сердца Ксани.
Она подняла глаза к небу, как тогда, в тот вечер, около Розовой усадьбы, когда угрожала ей такая же гибель от огня.
Неясная мысль толкнулась в голову. Перед ней всплыл Тот, Распятый, с рубиновыми капельками на ногах и ладонях и на бледном челе, обвитом терновым венцом… Блеснули Его глаза, кроткие, добрые, милостивые, любящие…
– Христос! – прошептала Ксаня, – Ты Спаситель мира, – спаси нас!
– Прыгай, прыгай! – послышались голоса снизу.
Ксаня наклонилась, третий этаж высоко. Внизу несколько покрытых сажей, закоптелых фигур держали огромный кусок сетки под самыми окнами дома.
Ксаня вздрогнула.
– Спасены! – вихрем пронеслось в ее мыслях, и, осторожно положив Уленьку на край окна, она обернула ее одеялом и тихонько столкнула вниз.
Бесшумно упало на протянутую сеть бесчувственное тело больной.
Ее приняли бережно и переложили на носилки.
– Прыгай! Прыгай! – кричала снова через минуту Ксане та же толпа.
Лесовичка вздрогнула, вскочила на подоконник, быстро, бессознательно перекрестилась и скользнула вниз на растянутую под окном сетку…
Глава XV
Спектакль. – Дверь распахнулась настежь…
Было семь часов вечера, когда первые приглашенные появились в «театральной» зале княжеского дома.
В каком-то серебристо-золотистом и голубом платье встречала их княгиня Лиз, смеющаяся и розовая, как летнее утро.
С хорошеньких губок фейерверком слетала трескучая французская речь:
– Imaginez vous[4]4
Представьте себе (фр.).
[Закрыть]… в двенадцать ночи набат… крики и зарево!.. Ах, это было ужасно (Смеющееся личико изображало ужас). – Paul зовет камердинера… Qu'y at-il?[5]5
Что случилось (фр.).
[Закрыть] Пансион горит!.. Я потеряла голову… Эти милые чернушки и вдруг… Paul скачет на пожар, привозит их всех… Et figurez vous,[6]6
И вообразите себе (фр.).
[Закрыть] я узнаю, что одна из них – героиня!.. Да, да, героиня! Вынесла больную прислугу из пламени… Разве это не подвиг! И это была та самая новенькая, лесная красавица, о которой я вам говорила. Вы ее увидите скоро, сейчас… Замечательная девушка…
– Но пансионерки? Как они могут играть после такого потрясения? – интересовались гости.
– Ах, их надо развлечь. Il rant les distraire, les pauvres petites.[7]7
Надо развлечь бедных малышек (фр.).
[Закрыть] Этот спектакль отвлечет их мысли от катастрофы. Слава Богу, что все еще так кончилось. Ведь весь пансион сгорел дотла… Я пока приютила их у себя. А завтра их переведут в новое помещение. Я уже приказала нанять тут неподалеку.
И розовое личико принимало особенное выражение.
Между тем за сценой Арбатов выходил из себя, устанавливая группы, горячась и волнуясь как никогда.
– Так нельзя! Так нельзя! Нужно живее! – тормошил он Юлию Мирскую, изображавшую Лота с самым возмутительно-равнодушным лицом. – Ведь за вами гибнет Содом и Гоморра, все ваши родственники и друзья!
– И вы тоже неверный тон взяли, – налетал он на Машеньку Косолапову, которая спокойно перелистывала тетрадку, представляя из себя Вооза, называющего Руфь, т. е. Катю Игранову, своей женой.
– Вот вы, малютка, хорошо, очень хорошо! – одобрил он Соболеву, покорно и трогательно вошедшую в роль Иосифа, проданного братьями в неволю.
Увлекающийся и горячий Арбатов до того любил сцену, театр, что даже к постановке маленьких духовных пьес, сочиненных княгиней, отнесся с присущим ему вниманием и серьезностью. Режиссерская жилка заговорила в старом актере, и он непременно хотел, чтобы даже нелепые пьески княгини-писательницы, составленные из кусочков, диалогов и отдельных эпизодов, все же в отношении постановки вышли безукоризненно. Но особенно интересовал Арбатова предстоящий «первый дебют» будущей знаменитости, как он мысленно уже окрестил Ксаню, несмотря на ее заявление, что она не желает посвятить себя сцене. Старому актеру и режиссеру хотелось показать зрителям новый талант с самой выгодной стороны. Гримируя самолично девочек, наклеивая на лица одних длинные библейские бороды или покрывая пудрой и румянами красные щеки монастырок, Арбатов поминутно поглядывал на Ксаню, которая, совсем уже готовая к «выходу на сцену», сидела в углу и повторяла свою роль.
В древнебиблейском костюме, с распущенными вдоль стана своими роскошными волосами, Ксаня была настоящей красавицей. К тому же Арбатов сделал тушью какие-то два неуловимых штриха вокруг ее глаз, и без того красивые глаза лесовички стали глубокими, томными и дивно-прекрасными. Ксаня удивленно посматривала от времени до времени на себя в зеркало, узнавая и не узнавая свое лицо, странно преобразившееся благодаря слою румян и пудры и штрихам вокруг глаз. В то же время она читала вполголоса свою роль, предполагая, что никто не обращает на нее внимания. Но ошиблась: Арбатов прислушивался – и на лице его заметен был восторг, когда, увлекаясь ролью, Ксаня произносила целые монологи громко, с удивительным выражением, отчетливо, ясно отчеканивая каждое слово.
– Детка моя, – заговорил Арбатов, когда все остальные пансионерки были готовы и поспешили на сцену, – детка моя, теперь я все больше убеждаюсь в вашем успехе. Вы буквально родились актрисой… Вспомните, что я вам говорил и… и… решайтесь ехать со мною, в мою труппу… Я все устрою, нужно только ваше согласие…
– Матушка сказала, что через неделю отвезет меня в обитель, – был тихий ответ Ксани.
– Вздор! – вскричал Арбатов в забывчивости. – Вздор! Опомнитесь! Знаете, что ждет вас в монастыре? Тоска, медленное угасание молодой жизни… А там, там, на сцене, известность, слава, полный расцвет и торжествующий праздник таланта!..
– Но я обречена, – шепнули ее губы.
– Да, обречена, – подхватил Арбатов, – обречена, чтобы властвовать над толпою силою своего таланта, обречена на то, чтобы высоко и гордо нести светлое знамя искусства!.. Слушайте: сегодня, – прибавил он шепотом, сегодня после нашего спектакля с последним поездом я уезжаю… Если вы решитесь, то сегодня же…
Резкий звонок прервал его речь. Этот звонок означал, что пора начинать.
Наскоро шепнув Ксане: – «Подумайте! Решайтесь, пока не поздно!» Арбатов исчез в кулисах.
В зале зашуршали платья, зашумели голоса. Из-за тяжелого бархатного занавеса долетали звучащие веселыми перекатами французские фразы, смех, восклицания, милый, возбужденный голос княгини.
Затем все стихло как по мановению волшебного жезла.
Откуда-то из-за кулис послышались чарующие звуки бетховенской сонаты, и занавес тихо пополз кверху.
Сцена Лота должна была быть первою, согласно со строго библейским порядком, но, приберегая эффект появления Ксани под конец спектакля, Арбатов пустил ее последней.
Звуки бетховенской сонаты сменились иными тихими, чуть слышными, еще более чарующими звуками… Точно кто-то неведомый и глубоко печальный тихо плакал, сетуя и жалуясь на судьбу… И под эти чарующие звуки юная Раечка Иосиф, с закованными, как у невольника, руками и ногами, – рассказывала, как тяжело ей, Иосифу, расстаться с милым отцом, родиной и любимым братом Вениамином. Ее голосок хватал за сердце, а нежное лицо было так трогательно-прелестно, что по окончании сцены ее наградили бурными, долго не смолкающими аплодисментами.
Раечка кончила. Прекрасный Иосиф удалился со сцены. Его сменили Руфь и Вооз.
Эта сцена не обошлась без приключения. У Вооза отклеилась борода в самую патетическую минуту. Нимало не смущаясь, Машенька Косолапова оторвала ее совсем и положила в карман под оглушительный хохот зрительного вала. Катюша Игранова – Руфь неистово фыркнула при виде безбородого Вооза и, позабыв роль, понесла какую-то чепуху.
Но и этих двух растерявшихся девочек наградили поощрительными аплодисментами.
Прочтен, наконец, длинный монолог Ольги Линсаровой над корзиной с Моисеем, и бархатный занавес опустился под дружные хлопки зрительного зала.
Снова послышались чарующие звуки невидимой музыки, и снова тяжелый занавес поднялся.
Одобрительный шепот пронесся по залу. На сцене, рядом с Лотом и его дочерьми, Мирской, Играновой и Соболевой, появилась черноокая красавица с трагическим лицом и гордыми губами.
– О, Лот, я чувствую, что гибель там за нами!
Первая же фраза Ксани, произнесенная ее глубоким, сильным грудным голосом, захватила зрителей.
В огромном зале стало тихо, как в могиле. Все взоры приковались к лесовичке.
Арбатов нервно потирал руки. Его глаза, обводившие публику, казалось, говорили: «Ага! Каково?!»
С каждой новой фразой Ксаня все больше и больше захватывала зрителей.
Публика едва дышала, боясь проронить хоть один звук из ее роли.
– О, Лот, я гибну!.. Смерть пахнула мне в очи!.. Сковала и руки, и ступни… Я гибну!.. Смерть!.. Я обращаюсь в камень!.. – диким, захватывающим криком закончила Ксаня и окаменела с исполненным трагического ужаса лицом.
Занавес медленно пополз.
Гробовая тишина воцарилась в зале.
Воцарилась на миг. Только на миг, после которого гром оглушительных рукоплесканий, гром восторженных отзывов и похвал раздался в переполненном зале.
Точно что ударило в голову Ксане, когда ее, возбужденную, не остывшую еще от вдохновенного экстаза, Арбатов вывел за руку из-за кулис и сказал:
– Но, детка, я думаю, теперь вы убедились, что ваша стихия – сцена… Теперь вы убедились, что царевне лесной не место в келье…
И он стал рассказывать ей, какой успех ждет ее, если она согласится играть фею Раутенделейн.
Едва Арбатов вывел Ксаню в зал, ее тотчас же окружил со всех сторон целый цветник нарядных дам, целый сонм блестящих мужчин в орденах, лентах.
Ее спрашивали о чем-то, ее задаривали улыбками, ласковыми взглядами, похвалами и похвалами без конца.
Ксаня угрюмо молчала, но душа ее расцвела. Что-то огромное, прекрасное, как солнце, наполняло ее.
– Дорогу! Дорогу княгине! – послышался вдруг шепот, и княгиня Лиз очутилась перед девочкой.
– Вот твои лавры!.. Это только скромная дань твоему огромному таланту! – произнесла с влажными глазами княгиня, и на красивой головке Ксани очутился венок из душистых пурпуровых роз…
* * *
Сейчас после представления в зале зажгли елку. Зеленокудрое дерево было разукрашено по-царски. Изящные безделушки, сласти, свечи – все это играло и горело в тончайших световых переливах электрических фонарей.
За деревом стоит Ксаня. Ее глаза горят, лицо пылает. О, этот успех! Он кружит голову, дурманит мысль. Он так дивно сладок и хорош, он так приятно и радостно ласкает сердце.
Ей было слишком хорошо от всех этих похвал. Она боялась, что от острого прилива счастья разорвется сердце. Вот почему она скрылась возбужденная, зачарованная за эту зеленую, пестро разукрашенную ель.
Здесь, в одиночестве укромного уголка, никто не мешал ей грезить…
О, как сладки эти грезы… Что ей сказал Арбатов, когда ввел ее в зал? Ах, да: «царевне лесной не место в келье!»
И еще про фею Раутенделейн говорил ей много-много. Но все это должно отойти от нее, скрыться. Она – обреченная. Она чужая для сцены, для театра, для людей…
Смертельный ужас разом наполнил душу Ксани. Ей стало жутко. Ей стало холодно. Дрожь пробежала по телу.
Теперь в монастырь?! Теперь схоронить себя навеки?! О!
Она задрожала с головы до ног.
Перед ней, как призрак, появилась Манефа.
– Вот ты где, девонька, а я-то искала. Всюду искала тебя. Я за тобою. Больно велик соблазн здесь. Хочу увести тебя отсюда, девонька, помолиться. Вместе с тобой молиться буду, всю ночь будем замаливать сегодняшний грех… Ох, суета сует, суета сует и великая суета!.. Бежим от нее, девонька, пока не поздно, пока дурман не закружил мыслей…
Никогда еще голос матушки не звучал так ласково и кротко. Но от этой ласковой кротости еще больший холод охватил душу Ксани.
Вернуться! Позволить себя запереть в монастырь! Никогда! Никогда!
Шумный успех, выпавший на долю Ксани, отравил своим ядом угрюмую душу не привыкшей к нему лесовички!
«Никогда!» – еще раз вихрем пронеслось в ее мыслях, и, не помня себя, она рванула свою руку из цепко охвативших ее пальцев Манефы и бросилась со всех ног от нее через ряд комнат, в гостиную.
В гостиной сидели группами гости, весело и оживленно разговаривая. Между ними не было Арбатова.
«Неужели уехал?» – острым жалом вонзилась в голову Ксани тревожная мысль.
Она рванулась дальше, в кабинет. Ее глаза блуждали как у безумной, отыскивая Арбатова.
Вот он!
Арбатов как раз прощался с княгинею и другими лицами, желавшими ему успеха.
Ксаня остановилась, никем не замеченная, на пороге. Минута и Арбатов быстрым шагом направился к выходу и тут лицом к лицу столкнулся с Ксаней.
– Детка моя! Что с вами? Отчего этот расстроенный вид?
Она стояла, как вкопанная, тяжело дыша, с теми же блуждающими глазами.
– Возьмите меня с собою… туда… к вам… в театр… Я не могу… больше… Я не хочу в обитель… Выше сил!.. Не могу! Не могу!..
Она задыхалась.
Он схватил ее за руку.
Его голубые детские глаза вспыхнули, загорелись.
– Детка, неужели? О, я знал, что вы не могли поступить иначе… Скорее же, скорее!
Он схватил ее за руку и нервной походкой сбежал вниз, в швейцарскую, где высокий гайдук-казак помог одеться Ксане, накинул нарядную бобровую шинель на плечи Арбатова и распахнул перед ними дверь.
«Честно ли я поступила?» – вихрем пронеслось в мыслях девочки, когда острый морозный воздух прямо дохнул ей в лицо.
У подъезда уже стоял экипаж княгини, который должен был довезти Арбатова на вокзал. Арбатов, усадив Ксаню и сев рядов с ней, велел кучеру ехать как можно скорее.
«Честно ли я поступила?» – шепнула еще раз Ксаня, когда яркие фонари вокзала приветливо блеснули ей в лицо.
Она не слышала, что говорил ей Арбатов всю дорогу. Ее мысли кружились с поразительной быстротой…
Вот они на вокзале.
Арбатов послал ожидавшего его с вещами носильщика купить билеты, а сам побежал дать телеграмму своей труппе с извещением о предстоящем приезде и о том, что везет с собою «дебютантку».
Но вот раздался звонок, заставивший Арбатова с Ксаней броситься в вагон.
– Слава Богу! А ведь чуть было не опоздали. Фея Раутенделейн, садитесь! – произнес Арбатов.
Поезд тронулся… Колеса зашумели… Замелькали фонари, фонари без счета…
Арбатов наклонился к Ксане и шепнул:
– Детка моя, верьте, сама судьба заставила вас променять монастырь на сцену… О, я уверен, вы будете благодарны судьбе, вы будете счастливы, что послушались совета старого актера…
Ксаня ничего не ответила. Ее голову сверлила все время одна мысль: честно ли она поступила, бежав тайком после того, как она добровольно дала обещание поступить в монастырь? Она старалась успокоить себя тем, что это судьба так решила, а не она, Ксаня…
А колеса шумели.
Шумели, точно пели: «Привет тебе, лесная фея»…