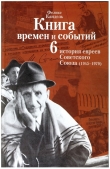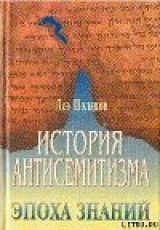
Текст книги "История антисемитизма.Эпоха знаний"
Автор книги: Лев Поляков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Его сын Бенджамин, родившийся в 1804 году, сначала обучался в английском пансионате, и похоже, что он испытал немало унижений со стороны своих христианских однокашников, тем более что по субботам приходил раввин обучать его закону Моисея. Но вместо того, чтобы завершиться торжественной церемонией «Бар-Мицва», когда ему исполнилось тринадцать лет, его религиозное образование закончилось в 1817 году крещением в англиканскую веру. Можно думать, что едва ли это обстоятельство увеличило его уважение к существующим религиям.
Умный и честолюбивый, он задумал, наподобие еврейского Жюльена Сореля, покорить враждебный мир. Можно представить себе юношу с черными кудрями, очарованного былым величием Израиля и засыпающего вопросами своего отца. По отцовскому примеру он сначала попробовал свои силы в литературе; написанный в 1833 году после путешествия на Восток «Алрой» выражал, как он сам записал в своем дневнике, его «высшую мечту», эту вековую мечту марранов, а именно – восстановление еврейского государства. Но «действительные и реальные» цели этого еврея, обращенного в англиканство, были политическими и светскими. В течение нескольких лет он следовал образу жизни денди по примеру знаменитого Бруммеля и блистал в салонах. Затем он добился избрания в Палату общин. Однако там он сразу же натолкнулся на недоверие и препятствия, неизбежные для человека низкого происхождения, к тому же еврея по рождению; это последнее обстоятельство еще больше усугублялось его фамилией, звучавшей как вызов, и восточной внешностью, не менее странной для старой Англии.
Как правило, специфика происхождения толкала молодых честолюбивых евреев этой эпохи к отрицанию своей «несхожести», которую они стремились свести просто к разнице вероисповедания. Именно поэтому еврейские последователи Сен-Симона во Франции и еврейские активисты «Молодой Германии» стали предшественниками «антирасистов», боровшихся в различных лагерях либеральной ориентации. В Англии либеральный историк Маколей развивал в 1831 году подобные взгляды, выступая за права евреев. Он сравнивал «еврейство» с «рыжими волосами», т. е. с незначительной случайностью при рождении. Неслыханная оригинальность Дизраэли проявилась в том, что он стал играть в противоположную игру, которую можно было затеять лишь в эксцентрической старой Англии: несмотря на обращение в христианство он заявлял о своей принадлежности к избранному народу и на этом основании требовал благоприятного к себе отношения и повышения политической роли своих соплеменников.
После того как он занялся политической деятельностью, Дизраэли изложил свое видение мира, а также свою программу действий в «политической трилогии» (романы: «Конингсби», 1844; «Сибилла», 1845; «Танкред», 1847). Особое положение евреев не имело ничего общего с проблемами английских рабочих или обязанностями церкви, но эти проблемы интересовали его меньше всего. Предварительно он серьезно изучил антропологические теории своего времени, что позволило ему отнести «семитов», т. е. евреев и арабов, к «кавказской расе». Лейтмотивом его трилогии было; «All is race: there is no other truth» («Раса – это все: другой истины не существует»). Как мы уже видели, подобные идеи уже носились в воздухе, но он стал первым англичанином, сделавшим этот подход не только теоретической концепцией, но и краеугольным камнем политической платформы. Вопреки господствующим теориям о германском превосходстве, распространявшимся по ту сторону Ла-Манша Карлейлем и Томасом Арнольдом, согласно Дизраэли именно «семиты» были достойны звания «аристократов от природы». Чтобы увеличить дерзость своих рассуждений, он сделал носителем своих идей «Сидонию» – еврея, чье богатство могло сравниться только с его умом (критики называли его «Дизротшильдом», т. е. Дизраэли-отцом, богатым как Ротшильд). Сидония выступает в роли наставника Конингсби и Танкреда, он открывает этим молодым английским аристократам тайны семитского превосходства, основанного на культе расовой чистоты. Он объясняет это лорду Конингсби следующим образом:
«…дело состоит в том, что невозможно испортить чистую кавказскую расу. Это физиологический факт… В настоящее время, несмотря на века и тысячелетия упадка, еврейский дух оказывает большое влияние на европейские дела. Я не говорю об их законах, которым вы подчиняетесь до сих пор, ни об их литературе, которой пропитаны ваши умы, но о живом иудейском интеллекте, В Европе нет заметного интеллектуального движения, в котором евреи не принимали бы активного участия. Первые иезуиты были евреями; секретная русская дипломатия, вызывающая такое беспокойство в западной Европе, в основном осуществляется евреями; мощная революция, подготавливаемая в настоящее время в Германии, о которой почти ничего не знают в Англии, но которая станет второй и более глубокой Реформой (здесь имеется в виду реформа Лютера. – Прим, ред.), развивается в целом под эгидой евреев, которые монополизировали почти все профессорские кафедры Германии…»
Но Дизраэли не удовлетворялся тем, что заполнял испанские монастыри и немецкие университеты замаскированными евреями, т. е. марранами; он причислял к евреям самых великих исторических деятелей – Канта, Моцарта, даже Наполеона, не говоря о героях второго ранга, таких как Массена или Сульт. Разумеется, подобная мистификация была обоюдоострым оружием, которое могло быть использовано в той же мере и для доказательства возможностей еврейской коррупции: в дальнейшем подобные аргументы будут использоваться антисемитами во всех странах хорошо известным способом, что продолжается и в наши дни – под сурдинку на Западе и с большим шумом в других странах («Пикассо – еврей! Как, вы этого не знаете? Сезанн также был евреем. И Кандинский. Не говоря уже о Шагале, разумеется. Когда Шагал был народным комиссаром в Витебске, он все делал, чтобы помешать обновлению русской живописи, которое началось в XIX веке, он стоял во главе большого заговора!» Эти слова принадлежат представителю «сталинистской оппозиции». (Jean Neuve celle, «Moscou 66»; «France-Sou», 10. 08. 1966.)). С другой стороны, процедура неправомерной натурализации в гораздо более широких масштабах использовалась подголосками пангерманизма, которые присвоили весь пантеон великих от Джотто до Пастера. По всем этим пунктам Дизраэли был первооткрывателем и, возможно, властителем дум.
В «Танкреде», своем лучшем произведении, он заходил еще дальше в провокационных утверждениях, даже не утруждая себя тем, чтобы скрыться за подставным лицом; в этом романе автор от собственного имени прославляет «семитский дух» и насмехается над «цивилизацией франков»:
«… некоторые франки с плоскими носами, напыщенные бурдюки, раздувшиеся от претензий, народ [la race], повидимому, возникший в болотах где-то на севере, среди недавно раскорчеванных лесов, осмеливается говорить о прогрессе!.. Европейцы говорят о прогрессе, потому что благодаря умелому использованию некоторых научных достижений они создали общество, в котором комфорт занял место цивилизации!»
Затем сам Танкред в свою очередь скромно подтверждает, что он происходит «от орды балтийских пиратов», народа [la race], который бы, без сомнения, погиб в междоусобицах, если бы его не просветила «семитская духовность».
Дизраэли проповедовал этот чрезмерный расизм на протяжении всей своей жизни не только в ставших популярными романах, но также и в чисто политической исповеди – «Лорде Джордже Бентинке» (1851); четырнадцатая глава этой книги посвящена апологии евреев. Накануне революции 1848 года будущий лорд Биконсфилд (Дизраэли получил титул графа Биконсфилда в 1876 году. (Прим ред.)) видит в Израиле скрытую эффективную причину подрывных действий в Европе, так что глупые христианские угнетатели должны были винить самих себя в своем непонимании того, что не следовало доводить до отчаяния избранный народ. В самом деле; «Разрушение семитского принципа, искоренение еврейской религии, будь то в форме религии Моисея или христианства, естественное равенство людей и отмена права собственности провозглашаются тайными обществами, образующими временные правительства, причем во главе каждого из них можно найти людей еврейского происхождения. Народ Господа сотрудничает с атеистами; удачливые богачи объединяются с коммунистами; особый, избранный народ протягивает руку отбросам и самым низшим слоям европейского общества! Все это происходит потому, что они хотят разрушить неблагодарное христианство, которое обязано им всем вплоть до собственного названия, и чью тиранию они не могут больше терпеть.
Когда в феврале 1848 года тайные общества застали Европу врасплох, они сами были поражены своим неожиданным успехом. Они не смогли бы воспользоваться этим успехом, если бы у них не было евреев, которые к несчастью на протяжении многих лет были связаны с этими зловредными организациями. Какова бы ни была глупость правительств, политические потрясения не опустошили Европу. Однако энергия и бесконечные ресурсы сыновей Израиля намного затянули эту бесполезную борьбу…» «Тайные общества» и «семитская раса» – эти идеи, высоко ценимые в XIX веке, оказались в результате поддержанными эпигоном марранской иронии. И хотя трудно допустить, что Дизраэли верил во все то, что он писал, тем не менее его апологетика свидетельствует об исключительно сильных страстях, особенно когда в «Танкреде» он бичует слабых и позорных евреев, которые отрекаются от своего происхождения или скрывают его. Искренность Дизраэли еще более очевидна в поразительной речи, в которой он, рискуя своей политической карьерой, потребовал в 1847 году допуска евреев в Палату общин не во имя каких-либо абстрактных принципов терпимости или равенства, а как привилегии, полагающейся народу Господа:
«Каждый божий день вы публично прославляете подвиги еврейских героев, доказательства еврейского усердия, блестящие свидетельства былого еврейского величия. Церковь построила во всех странах здания, посвященные культу, и на каждом алтаре мы найдем таблицы с еврейским законом. По воскресеньям, когда вы славите Господа или когда вы хотите найти утешение в горе, и в том. и в другом случае вы находите то, что вам нужно в стихах еврейских поэтов… Все первые христиане были евреями. Христианская религия вначале исповедовалась людьми, которые до своего обращения были евреями; на первом этапе христианской церкви каждый из тех, чье рвение, энергия или гений способствовали распространению христианской веры, был евреем… »
Когда эти слова вызвали движение возмущения в зале заседаний, Дизраэли пошел еще дальше:
«Именно в соответствии с пылкостью вашей веры вы должны стремиться совершить этот акт справедливости. Если вы не забыли, чем вы обязаны этому народу, если вы признательны ему за его писания, которые на протяжении столетий принесли столько утешения и столько знаний людям, вы получите большое удовлетворение от того, что вы сразу же смогли удовлетворить просьбы тех, кто исповедует эту веру. Но вы остаетесь под влиянием мрачных суеверий, восходящих к самым темным векам истории этой страны. Эта истина не стала очевидной в ходе настоящих дебатов, и несмотря на всю вашу образованность, она не стала ясной и для вас самих. Эти предрассудки продолжают оказывать на вас влияние, чего вы сами не сознаете, подобно тому, как они влияют на других людей в других странах… »
Очевидно, что за некоторыми исключениями английское общественное мнение не принимало иудеоманию Дизраэли. Карлейль возмущался его «еврейской болтовней» и задавал вопрос «как долго Джон Буль будет еще позволять этой бессмысленной обезьяне плясать у себя на животе?» Он также называл его «проклятым старым евреем, который не стоит своего веса в свином сале». Некий Кристофер Норт в ответ на «Конингсби» в 1844 году опубликовал «Анти-Конингсби». В «Панче» Теккерей пародировал его в небольшом шедевре британского юмора под названием «Кодлингсби» (Игра слов, английское слово «codling» имеет значения – «мелкая треска» и «дикое кислое яблоко» (Прим. ред.)). Функции посвящения, которые у Дизраэли исполняет Сидония, здесь принадлежат Мендозе, потомку Ребекки, которая вступила в мезальянс с сэром Уилфридом Айвенго (это единственное «темное пятно на ее гербе»). Мендоза открывает Джоффри де Бульону, маркизу Кодлингсби тайны семитской крови. Все в этом мире вплоть до папы римского являются тайными евреями:
«Давайте говорить тише, сказал Мендоза, провожая его к выходу. До свидания, дорогой Кодлингсби. Его Величество из наших, шепнул он возле двери, как и римский папа… Продолжение его слов перешло в неразборчивый шепот».
В научном мире профессор Роберт Нокс в «Исследовании о влиянии расы на судьбу народов» подверг Дизраэли суровой критике, но при этом дословно пересказывал его учение:
«Раса (т. е. ''род, племя, порода" – см. прим. на с. 44) определяет все в делах людских. Это самый замечательный и самый важный по своим последствиям факт, который когда-либо сообщала философия. Раса – это все: литература, наука, искусство, одним словом, цивилизация определяется ею. Однако любовь к истине запрещает мне опровергать романы Дизраэли. Достаточно просто заметить, что в длинном списке знаменитых персонажей, чье еврейское происхождение утверждается г-ном Дизраэли, я не обнаружил ни одной еврейской черты или манеры; следовательно, они не являются евреями и не имеют еврейского происхождения…»
Антитезис стоит самого тезиса, а акценты совершенно те же, что и у современного антисемитизма. В самом деле, в другом месте евреи и автор «Конингсби» вместе подвергаются нападению:
«Но где евреи-крестьяне и евреи-рабочие? Разве они не могут обрабатывать землю? Почему они не любят работать руками? У настоящих евреев нет ни музыкального слуха, ни любви к науке или литературе; они ничего не изобретают; они не занимаются никакими исследованиями; теория «Конингсби» в приложении к подлинным, настоящим евреям не только является вымыслом, она полностью опровергается всей историей».
Однако высшая слава лорда Биконсфидда заставила быстро забыть в Англии полемику по поводу Дизраэли. Его биографы и подпевалы если и не обходят молчанием его расовые теории, то трактуют их как мистификацию или прихоть. Г-н Раймон Метр писал: «Интересно, что большинство критиков подвергают сомнению серьезность и искренность Дизраэли в этом вопросе. Они видят в этом или непоследовательность, иди признак умственного расстройства, или чаще всего мистификацию – «самую необычную шутку, которую Дизраэли когда-либо себе позволял»,
На континенте плохо понимали этот вид юмора. Показательно, что Дизраэли, будучи одним из наиболее ценимых писателей своего времени среди англосаксонских читателей, и которого продолжают читать и поныне, очень мало переводился в Европе, что не мешало тому, что его расовые теории принимались там всерьез в гораздо большей степени, чем в его собственной стране. Пытались даже доказать, что граф де Гобино заимствовал у него основные положения своей политической философии. В самом деле, возможно, что эти два блестящих оратора встречались в Париже в 1841 году, когда Дизраэли посещал братьев Тьерри и Токвиля. «Очерк о неравенстве человеческих рас» был задуман после этого времени, а некоторые описания «рас», содержащиеся там, в том числе «английской» и «еврейской», обладают сильным сходством с соответствующими пассажами политической трилогии Дизраэли.
Однако подобные вопросы о приоритетах и взаимном влиянии очень трудно поддаются решению, особенно когда «идеи, носящиеся в воздухе», возбуждают умы так, как это происходило с идеей политико-расового детерминизма во второй четверти XIX века. Гораздо легче привести примеры того, как в дальнейшем антисемитская и расистская пропаганда использовала идеи, брошенные знаменитым евреем. Во Франции Гужно де Муссо и Эдуард Дрюмон стали его наивными последователями: в книге «Еврей, иудаизм и иудаизация христианских народов» приводятся в переводе многие страницы, принадлежащие Дизраэли, с одобрительными комментариями; в «Еврейской Франции» цитаты из Дизраэли можно обнаружить в тринадцати различных местах, а его положения обсуждаются в связи с проблемой «семитской принадлежности» различных исторических персонажей. Что же касается Наполеона, то Жюль Мишле с одобрением принимал взгляды «остроумного англичанина г-на Дизраэли», которые он подтверждал следующим рассуждением: «Любовь собирать сокровища, многие миллионы, спрятанные в подвалах дворца Тюильри, во всем этом чувствуется марран».
Различные аргументы такого рода повторялись большинством антисемитских французских авторов до 1914 года, особенно если они были англофобами, что чаше всего и имело место. В Германии Людвиг Шеманн (апостол теории Гобино) и Хьюстон Стюарт Чемберлен выступали против великого еврея, который первым объявил жалкой группе «антирасистских» евреев о важности понятия "раса" ; само собой разумеется, что на противоположной стороне гитлеровская пропаганда сделала из него символ еврейского господства в Англии.
Итак, это звучное имя использовалось в самых разных целях, и, разумеется, оно бесчисленными способами возбуждало антисемитские струны за столетие между 1845 и 1945 годами. Подобное действие очень трудно точно измерить, поскольку мы имеем дело с так называемыми невидимыми силами и оккультными влияниями, которые посвященные окружают тайной, но можно думать, что автор «Конингсби» и «Танкреда» послужил скандальным вдохновителем для целых поколений антисемитских мистификаторов, фальсификаторов и фантазеров и что ему так охотно верили и подражали, если не копировали, потому что его впечатляющая карьера, казалось, подтверждала истинность его теорий. Что же касается самих этих теорий, то они, в свою очередь, опираются на его знакомство с традицией марранов, которая в его лице, столь загадочном по распространенному мнению, вспыхнула в последний раз: разве в свое время герцог Наксосский не был для Османской империи тем, кем лорд Биконсфилд стал для Британской империи?
Ш. ФРАНЦИЯ
В 1816 году некий современник праздновал наступление новой эры: «Мы видим израильтян рядом с нами; мы с ними разговариваем, они разделяют наши трудности, наши жертвы, наши радости, наши бессонные ночи, наши страхи, наши надежды; почему? Потому что они пользуются теми же правами…» В самом деле, ничто, кроме обветшавших предрассудков, казалось, больше не должно было отделять евреев от христиан. Отныне любые карьеры были для них открыты, и, как отмечал в 1818 году Бенжамен Констан, их уже видели «достойными членами администраций, они больше не избегали военной карьеры, занимались науками и их преподаванием…» В противоположность тому, что происходило на другом берету Рейна, это первое поколение не выдвинуло (возможно, за исключением Рашель) ни одного по-настоящему первостепенного персонажа, но в роли вторых скрипок сыновья Израиля сделали себе имена, как, например, братья Галеви, Леон Гозлан, Александр Вейль; они были в театрах и редакциях, составляли значительную часть движения последователей Сен-Симона, а также в характерной для французского еврейства манере посвящали себя военному делу.
Что же касается второго поколения, то, по мнению Альфреда де Виньи, оно было готово достичь «самых высоких вершин в делах. литературе и особенно в искусствах и музыке». Иными словами, речь идет не только о Ротшильдах и банках. И вот уже поставленная эмансипацией проблема неопределенности определения «израильтян» получила отражение в литературе. В 1840 году некий анонимный автор выражал свои муки, облачив их в форму романтического средневекового нравоучения по моде того времени:
И если, чтобы избежать проклятой участи,
8 отказался от своего изгнанного народа,
То, указывая на меня пальцем, изумленный христианин
Воскликнет про меня: вот обращенный!
(…) И вас удивляет моя чрезмерная печаль?
Евреи, христиане, я вас ненавижу! Проклятье всем вам!
Однако при Реставрации общественное мнение буржуазных и интеллектуальных кругов по поводу евреев, по всей видимости, было благосклонным. Страна, которая стремилась к порядку и законности, опасалась поводов для раздора. Любая несправедливость или дискриминация немедленно наталкивались на бдительных критиков, особенно среди протестантов, богатых, активных и также подвергнувшихся коллективной травме. В связи с обманным крещением некоего еврея проснулся призрак драгонады (Гонения на гугенотов при Людовике XIV (Прим. ред.)); «Разве Нантский эдикт отменен во второй раз, и нам опять суждено увидеть возвращение времени, когда обращаемые… похищали детей протестантов и евреев и отдавали их на воспитание в монастыри?»
Обличая притеснения протестантов в Севеннах, Бенжамен Констан брал под свою защиту и «другую религию, которая подвергается гораздо более жестоким преследованиям уже две тысячи лет и вследствие этого несправедливого проклятия неизбежно впитала ненависть и враждебность к социальному порядку, при котором ее преследовали».
Но отныне у евреев появились свои собственные адвокаты. В своих защитительных речах Адольф Кремье заявлял, что прошло время для прежней ненависти. «Вы уже стали другими, они стали другими, их изменения велики, ваши ничуть не меньше…»
«Посмотрите на эту Францию, родину всех благородных чувств; посмотрите на израильтян, вступивших на самые достойные жизненные пути и для которых характерны все добродетели, которые необходимы добрым гражданам… Пусть же перестанут в этой стране говорить о еврейском народе, если вообще можно рассматривать евреев как отдельный народ, с тех пор как им посчастливилось смешаться с великой семьей французского народа».
Имя Адольфа Кремье символизировало успех эмансипации во Франции. В 1830 году Ганс (берлинский учитель Карла Маркса) заметил не без зависти, что Кремье «блистал благодаря репутации своих знакомых, благодаря своей ловкости и благодаря третьему пункту, который здесь делает ему честь, а именно благодаря тому, что он еврей». «Здесь» означало салон маркиза де Лафайетта, в котором собиралось высшее парижское и международное общество.
Еще более показательным для процесса исчезновения антиеврейских предрассудков среди просвещенных и имущих классов того времени является аргумент, к которому прибегал Виктор Шелъшер, чтобы доказать бессмысленность антинегритянских предрассудков: «У европейцев имеется нечто подобное тому, что существует между нами и нашими наемными слугами, как когда-то между католиками и евреями, как еще и в наши дни между русскими и польскими вельможами и их крепостными».
Справедливо, что новый «пункт чести" в действительности был привилегией сверхбогатых евреев. При этом самые бедные и несчастные из них остаются камнем преткновения при общем входе в общество и народ. Чтобы превратить их в так называемых полезных граждан, в «израильтян», четко организованные при Наполеоне консистории не жалели сил для увеличения числа школ, стипендий и центров обучения. Если сохранялся какой-то аспект, где общины оставались верными обычаям предков, то это была их плутократическая структура: «вольный стрелок» и математик Олри Теркем в 1836 году характеризовал французский иудаизм как «широкую коммерческую конфедерацию по религиозному поводу»:
«Имейте деньги и вы станете нотаблем; золото – вы член совета раввинов; бриллианты – вы в центральном совете…»
Таким образом, высшее руководство французского иудаизма естественно оказалось в руках самого богатого еврея, консула Австрии (он так никогда не натурализовался во Франции) Джеймса де Ротшильда, первого среди равных из пяти знаменитых братьев, «великого раввина правого берега» по Генриху Гейне (Здесь имеется к виду правый берег Сены, т. с. наиболее богатые и аристократические кварталы Парижа (Прим.ред.)) или «последнего первосвященника иудаизма» по выражению другого enfant terrible Александра Вейля.
«Короли евреев и евреи королей» – Ротшильды вначале были придворными евреями Священного союза монархов. Но феномен Ротшильдов – это нечто совсем иное. В эпоху, когда банки, используя общественный кредит, «встали во главе государств» (Стендаль), банк выходцев из гетто Франкфурта во многих случаях оказывался хозяином положения в политической ситуации одновременно с финансовой ситуацией. В Париже дом Ротшильдов «играет гораздо более значительную роль, чем правительства, за исключением английского кабинета» (канцлер Меттерних). «Вице-король и даже король Франции!» – воскликнула жена русского канцлера Нессельроде после обеда у Джеймса де Ротшильда. Со своей стороны финансисты считали, что в Европе крупная операция не имела шансов на успех без поддержки Ротшильдов. Их власть в глазах современников стала «чем-то вроде рока, которого очень трудно избежать». Противники установленного порядка могли отвести душу. Берне стал первым, кто в своих «Письмах из Парижа» иронизировал по поводу этого «еврейского господства»:
«Ротшильд поцеловал руку папе… Наконец, установлен порядок, который был предусмотрен Господом при сотворении мира. Бедный христианин целует папе ноги, а богатый еврей целует ему руку. Если бы Ротшильд добился римского займа под шестьдесят процентов вместо шестидесяти пяти, если бы он смог послать кардиналу, управляющему делами курии, больше, чем десять тысяч дукатов, ему бы позволили обнять папу. Разве не стал бы весь мир счастливей, если бы все короли были низложены, а семья Ротшильдов посажена на трон?»
Эта шутка, удачная или нет, имела право на существование, поскольку Ротшильды прилагали все усилия, чтобы предотвращать бессмысленные бойни. Мир был главным девизом банка: мир, который банку удалось сохранять вплоть до середины столетия благодаря весу всего своего золота и усилиям по «обузданию Европы, чтобы ничто не могло прийти в движение». И если в Европе перестала течь кровь, то оккультная власть этого банка чего-то стоила. Но необходимо признать, что современники не соглашались платить за мир такую цену. В 1842 году Мишле писал: «Таинственный посредник между народами, который говорит на языке, понятном всем, на языке золота, и тем самым заставляет их договориться между собой… Они не догадываются, что, например, в Париже есть десять тысяч человек, готовых умереть за идею…»
Эта знаменитая семья, в одиночестве олицетворявшая пугало, которым раньше размахивали семьи Местров и Арнимов, оправдывала самые мрачные предсказания Баррюэля или мегаломанию Дизраэли. Последователь Фурье Туссенель протестовал: «Не будем благодарить еврея за мир, который он нам дает, если бы он был заинтересован в войне, то началась бы война». Однако если Ротшильды стремились к миру ради успешного ведения своих дел, это стремление соответствовало мирным космополитическим традициям гетто. «Зачем ссориться? Россия далеко…» – наставительно писал в 1829 году Натан из Лондона Соломону в Вену; а Джеймс писал из Парижа в 1830 году: «Мы сделаем невозможное, чтобы сохранить мир…» Мы еще увидим в дальнейшем, каким образом он способствовал сохранению мира в 1840 году во время крупного кризиса на Востоке, и как международному конфликту предшествовала дискуссия о ритуальных преступлениях евреев.
Если тема Ротшильдов вдохновляла целые поколения антисемитских пропагандистов, то крайне интересно, что она оказалась частично или полностью отграниченной от еврейской темы у великих свидетелей этой эпохи. Для Бальзака «хищник» Нусинген, т. е. барон Джеймс прежде всего эльзасец, а его вошедший в поговорку акцент – это немецкий акцент. Гейне не без доли иронии помешал Ротшильдов среди знаменитостей Германии; Стендаль, изображающий барона в образе Левена-отца, полностью лишает его еврейства и приписывает ему наполовину голландское происхождение. В целом Ротшильды казались своим современникам более чужими, чем евреи; можно также утверждать, что они по-своему осуществили желание сторонников эмансипация, видя скорее чужака в еврее, чем еврея в чужаке. Но даже публицисты, выступавшие против Ротшильдов, по-своему отделяли банкиров от сыновей Израиля: памфлетист Матье-Дернвалль писал в своем сочинении «Ротшильд, его слуги и его народ»; «Я ничего не имею против евреев, которых я считаю своими братьями… Я против тех, кого я называю евреями…»
Получается, что под этими покровами древние предрассудки сохранили всю свою энергию, как это доказывают некоторые заметные дела. Если еврей оказывался в центре скандала, этот скандал немедленно становился еврейским, и осуждали всех сыновей Израиля. Именно это произошло в 1832 году, когда арестовали герцогиню де Берри, выданную правительству Луи-Филиппа обращенным евреем Симоном Дейцем. Этого авантюриста рекомендовал герцогине папа, но упреки оказались адресованными синагоге, причем активную роль здесь сыграли Шатобриан и Виктор Гюго. Шатобриан даже обратился к тени Иуды Искариота:
«Пусть потомок такого великого предателя как Искариот, в которого вселился сатана, скажет, сколько сребреников он получил за эту сделку…»
Виктор Гюго использовал более современный образ Вечного жида, так что когда Дейц совершил вероотступничество, то это потому, что он хуже еврея:
«Это даже не еврей! Это грязный язычник, Отступник, выродок и позор мира. Мерзкий изменник, лживый чужеземец (…) Уходи, еще один Вечный жид…»
Со своей стороны Берне отразил эту тему с весьма характерным черным юмором; «Непонятно, почему этот еврей стал католиком, он вполне мог бы стать прохвостом, оставаясь иудеем». Только Александр Дюма отнесся к Дейцу достаточно беспристрастно.
Если происшествие с Дейцем было скорее симптоматичным, то «дамасское дело» 1840 года имело глубокие международные последствия. По историческому стечению обстоятельств сообщество ведущих держав, включая Россию Николая I, взяло тогда под свою защиту евреев, преследуемых агентами французского правительства. Однако отнюдь не было случайным, что это совпадение породило в эпоху всплеска националистических настроений временную несовместимость между евреями и французами.
В 1840 году обострился кризис на Востоке, в ходе которого Франция, покровительствовавшая вице-королю Египта Мехмету Али, вступила в конфликт с остальной Европой, поддерживавшей султана. На фоне крупных событий произошло одно незначительное: в Дамаске, где жило много христиан, в феврале 1840 года таинственно исчез монах-капуцин отец Томас. Французские консулы Ратти-Ментон и Кошле обвинили в этом исчезновении еврейскую общину и организовали преследование старейшин этой общины, обвиненных в ритуальном убийстве. После долгих пыток некоторые умерли, другие отреклись, а третьи дали ложные показания. Оказалось, что двое из этих старейшин были австрийскими подданными. Консулы Австрии Мерлатто и Лаурин попытались вызволить своих соотечественников из беды. С обеих сторон правительства Меттерниха и Тьера встали на сторону собственных представителей, и конфликт превратился в эпизод силового противостояния, в котором против Франции выступили остальные державы. Этот эпизод даже стал своеобразным прологом конфликта. Итак, Европа сосредоточила внимание на событиях в Дамаске: в Сирии представители Англии, Пруссии и России выступили на стороне своих австрийских коллег; в соответствующих столицах начал широко обсуждаться вопрос о человеческих жертвоприношениях, которые якобы предписываются Талмудом.