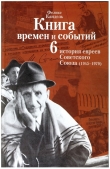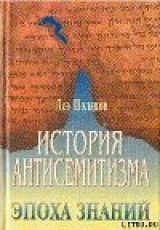
Текст книги "История антисемитизма.Эпоха знаний"
Автор книги: Лев Поляков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Третья часть
РАСИСТСКАЯ РЕАКЦИЯ
I. РАСИСТСКАЯ РЕАКЦИЯ
Пока евреи жили в рамках режима исключений, то по всем законам теологии их рассматривали как полноправных представителей человеческой природы; проклятие, тяготевшее над ними, с точки зрения христианской антропологии было лишь искуплением. Но когда они достигли эмансипации и смогли свободно влиться в большое буржуазное общество, то в терминах новой так называемой научной антропологии это проклятие стало трактоваться как биологическое отличие или биологическая неполноценность, а презираемая каста превратилась в неполноценную расу, как если бы круглый знак или коническая шляпа прошлого отныне были впечатаны, «интериоризированы» в их плоть, как если бы чувствительность Запада не могла обойтись без уверенности в отличиях, которые, после того как видимые знаки, идентифицирующие евреев, исчезли, превратились в невидимую сущность.
Итак, необходимо рассмотреть теоретические основы современного антисемитизма – страсти, которая пренебрегает теологией и ищет свое оправдание в науке. В этой связи прежде всего необходимо бросить взгляд на основные источники «арийского мифа», который в прошлом был предметом обучения в школах и составлял часть интеллектуального багажа образованных людей XIX века.
В каких условиях Европа Эрнеста Ренана и Рихарда Вагнера сделала фантастический выбор в пользу индийской генеалогии? До наступления эпохи научного знания традиции европейских народов соответствовали учению церкви, которая несмотря на некоторую неопределенность в этом вопросе тем не менее приписывала европейцам не вполне четкое «еврейское» происхождение в том смысле, что следовало возводить род человеческий к первоначальной паре – Адаму и Еве, а также отводила ивриту роль всеобщего первоначального языка. Колыбель человеческого рода неизменно помещалась на древнем Востоке, поблизости от Иудеи, там, где когда-то находился райский сад, а также где Ной и три его сына смогли ступить на землю после потопа, т. е. к югу от Кавказа. Обычно считалось, что европейцы произошли от Иафета: так, через образ всеобщего прародителя Адама или Сима, старшего из сыновей Ноя, «еврей» также получал свою древнюю онтогенетическую роль «отца»,
Новый миф об ариях предполагал, и на это следует обратить особое внимание, утрату этого качества, и в этом отношении он также фиксирует или символизирует свержение церковного ига, конец «эпохи веры». Как заметил один современник, «можно сказать, что иудаизм потерял в почитании то, что евреи выиграли в политической свободе» (М. Capefigue, Histoire philosophique des Juifs, Paris, 1833, p. 13.). Более того, новая эра, эпоха знания, вначале прошла через этап деизма; характерно, что идея Индии как колыбели «естественной религии», иначе говоря, рода человеческого, распространилась во второй половине XVIII века даже до открытия родства между европейскими языками и санскритом. К тому же этот факт уже неоднократно отмечался в прошлом, но время еще не пришло, и это открытие вновь погружалось в забвение. Совсем иначе случилось, когда англичанин Уильям Джонс написал в своих «Азиатских исследованиях» о структурном сходстве, которое имелось между санскритом, греческим, латинским, «готским» и «кельтским»; при этом он полагал, что индийскому языку следует приписать примат превосходства, поскольку он обладает «удивительной структурой, более совершенной, чем греческий язык, более богатой, чем латинский, и более изысканной, чем каждый из них». Философия того времени положительно отнеслась к этому рассуждению, которое было развито основателями немецкой индологии братьями Шлегелями. Б 1805 году Фридрих Шлегель писал, что индийский язык «более древний, чем греческий и латинский языки, не говоря о немецком и персидском…». Он добавлял: «Индийский язык отличается глубиной, ясностью, спокойствием и философским направлением». Шлегель также предполагал, что индийский язык был «самым древним из развитых языков», а следовательно, самым близким «к первоначальному языку, из которого произошли все остальные». В том же труде («Исследование по языку и философии индийцев») он предложил термин «арии» для обозначения непобедимых завоевателей, спустившихся с Гималаев, чтобы колонизовать и цивилизовать Европу. Август Вильгельм Шлегель, опираясь на идеи Лейбница о пользе филологии для изучения происхождения народов, также занимался вопросом «о происхождении индусов» и провозгласил превосходство их языка над семитскими языками. В ту же эпоху философ Шеллинг подверг критике недостатки Священного писания, которое, по его мнению, не выдерживало сравнения «в собственно религиозном отношении» со священными книгами индийцев. Столетие спустя исследователь теории Гобино писал: «то было своего рода опьянением, современная цивилизация поверила, что она нашла фамильные ценные бумаги, утраченные много столетий назад, и таким образом родилась арийская теория…" (Ernest Seilliere, Le compte de Gobineau et l'aryanisme historique, Paris, 1903.).
Братья Шлегели и Шеллинг в основном ограничивались еще рамками филологии и философии, и Фридрих Шлегель, так же как до него Гердер, отказывался распространять понятие «расы» на человеческий род, тогда как Шеллинг предлагал использовать его для «деградировавших» неевропейских рас. Но в течение той же первой декады ХIХ века другой немецкий филолог, Й. Хр. Аделунг, опираясь на таких географов, как Паллас, Паув и Циммерман, открыто включил антропологию в свою научную дисциплину, и его комментарии позволяют особенно четко проследить, каким образом на начальном этапе «арийский миф» складывался по образцу «библейского мифа», одновременно стремясь дистанцироваться от него.
В предисловии к своему очерку сравнительной грамматики, знаменитому «Митридату», Аделунг констатирует, что во все времена Азия считалась колыбелью рода человеческого. Но о какой части Азии идет речь? Следует принять во внимание общее мнение ученых, согласно которому «первоначальный народ» мог сложиться только на вершинах гор, откуда воды потопа отступили в первую очередь. Основываясь на этом, Аделунг определяет точное место: речь может идти только о Кашмире, о котором известно, что в нем имеется все великолепие райского сада, как оно описано Моисеем, «все, что только может представить самое развитое воображение как идеал для блаженства всех чувств». Итак, наш автор делает пространное сравнение между райским садом и Кашмиром, к чему он добавляет следующее доказательство: «Даже люди там более совершенны, чем во всех остальных частях Азии; у них полностью отсутствуют монгольские и татарские черты, свойственные тибетцам и китайцам, они обладают самыми прекрасными европейскими формами, а также превосходят всех азиатов интеллектом и духовными качествами». Затем он переходит к истории первой человеческой пары и ее потомства, как он это себе представляет. Из сказанного выше ясно, что Аделунг остается верным христианской антропологии, с которой он расходится только в одном важном пункте: «первоначальная пара» – это больше не библейская пара Адама и Евы, их место жительства было перенесено с Ближнего Востока в Индию, они говорят на арийском языке (само это понятие тогда еще отсутствовало) и «имеют европейские формы».
После Аделунга нам следует уделить немного внимания давно забытому автору, немцу Иоганну-Готтфриду Роде, который также не соглашался с общим мнением, согласно которому колыбель человечества находилась в Месопотамии или на Кавказе. Разрабатывая эту тему, в 1820 году он обратился к Авесте, иначе говоря, к откровению Заратуcтры. Основываясь на описании рая, которое Ормузд дал своему народу (этот рай он ставил на место библейского), он полагал, что обнаружил там географические сведения, позволяющие реконструировать «последовательный путь арийского завоевания». Согласно Роде эта эпопея началась на Памире, а не в Гималаях или Кашмире.
В любом случае все происходит, как если бы Европа, оставаясь пленницей некоторых традиционных представлений, занялась поиском новых предков. Можно заметить сходство этих поисков с деистской полемикой против библейского Иеговы, причем для них было характерно различие, проведенное Роде, между религией Моисея, основывающейся на чудесах, и зороастризмом, который опирается лишь на «внутреннюю силу истины». Однако на всем протяжении первой половины XIX века ученые продолжали измерять историю библейскими мерами. Если не все из них следовали за средневековой хронологией, которая датировала рождение Иисуса 4004 годом от сотворения мира, то все были убеждены, что род человеческий существует лишь несколько тысячелетий. Подобное убеждение, безусловно, задержало рождение археологии (достаточно вспомнить о проблемах Лайеля или Буше де Перта), отсюда же черпали дополнительные аргументы в пользу помещения в Азию колыбели человечества, которое лишь на позднейшем этапе колонизовало Европу.
Для другого пионера индологии ФА Потта было очевидно, что человечество на заре своей истории следовало за солнцем: ex oriente lux («С Востока свет» – парафраза евангельского рассказа о рождении Иисуса. – Прим. ред.), так что Азия была для него площадкой для игр и гимназией для первых физических и духовных упражнений человечества. Но в чем состоит причина миграции в северные страны? Якоб Гримм в своей знаменитой «Истории немецкого языка» говорит, что массы людей пришли в движение «под воздействием непреодолимого инстинкта, причина которого нам неизвестна». Нерешительность ученого мира признать, что родиной европейца могла просто быть Европа, враждебность, с которой встречались все гипотезы такого рода, могут служить еще одним свидетельством парализующего влияния общепринятых идей, даже когда они явно противоречили библейской космогонии.
Более радикальной формой разрыва с библейскими представлениями стали гипотезы полигенеза, вошедшие в моду в эпоху Просвещения. Вслед за Вольтером к ним присоединился Гете, и аргументы, выдвигавшиеся им в защиту этих идей, необычайно четко высвечивают их скрытую «антииудаистскую» мотивацию. В самом деле, Гете обосновывал свои взгляды прежде всего предпочтением, одушевляя природу, считать, что по духу она скорее расточительна,
чем экономна:
«Полагают, что природа является исключительно экономной в своих творениях. Я чувствую себя обязанным выступить против этого утверждения. Я заявляю, что, напротив, природа всегда проявляет свою щедрость и даже расточительность. Ее духу будет больше соответствовать допущение, что она одновременно произвела дюжины или даже сотни людей, чем теория, что она скупо породила их от однойединственной пары. Когда сошли воды и высохшая земля покрылась достаточным количеством зелени, наступила эпоха становления человека, и люди появились благодаря всемогуществу Бога повсюду, где позволяли условия местности, сначала, вероятно, в горах…»
Затем Гете выдвинул и другой аргумент, который, несмотря на внешне шутливую форму, открывает нам глубинные мотивы выбора, перед которым в середине XIX века оказалось большинство европейских ученых:
«Верно, что в Священном писании говорится лишь об одной человеческой паре, созданной Господом в шестой день. Но люди, получившие весть и записавшие слова Бога, переданные в Библии, сначала имели дело лишь со своим избранным народом, у которого мы ни в малейшей степени не хотим оспаривать честь происхождения от Адама. Но мы все, а также негры и лапландцы, разумеется, имели других предков: безусловно следует согласиться с тем, что мы во многом отличаемся от настоящих потомков Адама, и они превосходят нас, в частности, в том, что касается денежных вопросов…»
Итак, для Гете было существенным «во многом отличаться от истинных потомков Адама»; эту проблему на самые разные лады трактовали многие авторы, прежде всего немецкие, при обсуждении вопроса о происхождении рода человеческого. Так, весьма разносторонний писатель Клемм, автор «Всеобщей истории культуры», уже в 1843 году проводил различие между активной (мужественной) расой и пассивной (женственной), более примитивной: «Между тем созрела и другая раса на высоких плато вблизи Гималаев… Подобно тому как застывшая земная кора сотрясается и разрывается вулканическими силами, так и мирное первобытное население, распространившееся по земле, было застигнуто в своих спокойных снах героями активной расы, обрушившимися на них… « Здесь уже звучат весьма воинственные ноты, те же самые, что с этого времени будут возникать под пером Вагнера, и которые он разовьет в своей музыке. Но смутное отождествление «молодости» или «агрессивности» с «совершенством» или «ценностью» будет проявляться и у более серьезных ученых. Так, для великого индолога Лассена «арии образуют наиболее организованный, наиболее предприимчивый и наиболее творческий народ; поэтому он более молодой, ибо природа лишь на поздней стадии стала порождать более совершенные виды растений и животных…» Уже в 1845 году Лассен стал противопоставлять в этом смысле ариев семитам:
«Среда кавказских народов мы, разумеется, должны отдать пальму первенства индогерманцам. Мы не думаем, что здесь дело случая, мы полагаем, что это должно вытекать из их превосходящих и более разнообразных талантов. История учит нас, что у семитов отсутствует гармоническое равновесие всех сил души, которое характерно для индогерманцев…»
Основные недостатки семитов заключаются в их полной философской посредственности и их религиозном эгоизме. Таким образом, в 1845 году был заложен последний краеугольный камень мифа, право авторства на который немного позже будет энергично оспаривать у Лассена молодой Ренан, говоря об «ужасающей простоте семитского духа», о «более низком строении человеческой природы» и т. д. (См. Histoire gйnйrale et systиme comparй des langues sйmitiques (1855). Livre I, chap, 1.)
Но были также и черные, т. е. «хамиты». Новая научная антропология оставалась в зависимости от прежней и в одном дополнительном пункте, а именно в той мере, в какой она утверждала деление человеческого рода на три большие расы как отражение мифа о трех сыновьях Ноя. Это наблюдение имеет отношение к работам Кювье; в этой связи интересно отметить, что обычно используемая терминология также остается библейской, поскольку негры и евреи, т. е. низкие расы, характеризуются как «хамиты» и «семиты», что же касается самих европейцев, которые претендуют на благородное происхождение, то в этих работах отвергается вполне логичное наименование «яфетидов» с его библейским духом; они хотят называть себя ариями, без сомнения, потому что предполагается, что этот термин происходит от того же корня, что и слово «честь» (Ehre). Подобные теории распространяются с потрясающей скоростью и немедленно используются в самых разнообразных областях, включая и динамичную сферу религии. В 1853 году Вагнер, этот медиум XIX века, писал, что «первоначальное христианство» было искажено из-за своего смешивания с догмами иудаизма и что «это христианство было лишь ответвлением благородного буддизма».
Можно еще один раз задать себе вопрос, в какой мере, учитывая уровень научных знаний того времени, можно говорить о существовании позитивных данных, подтверждающих великую «арийскую гипотезу». Но мы напрасно станем искать эти данные, поскольку не найдем ничего, кроме открытая семьи индоевропейских языков, «этого открытия нового мира» (Гегель). Даже Кювье проводит разделение на основные расы «по аналогии с языками». Крайне редкими были голоса, возражавшие против этого смешения; напротив, оно лишь усиливается после наполеоновской бури, и вопрос о европейских истоках стал до прихода Дарвина заповедником для филологов, находящихся под «гнетом санскритологии». К тому же самый знаменитый из них оксфордский англогерманец Макс Мюллер сделал употребление термина «арийский» преобладающим в республике ученых. В своих знаменитых лекциях, прочитанных в Королевском институте Лондона в 1859-1861 годах, он описывал триумфальное продвижение ариев к мысу Нордкап и Геркулесовым столпам. Его отступления и предостережения, которые он высказывал с 1872 года, имели гораздо меньший резонанс, и напрасно в конце жизни он заявлял, что в термине «арийская раса» имеется так же мало научного содержания, как и в термине «долихоцефальная грамматика».
Европейский этноцентризм, который начиная с эпохи Просвещения искажал зарождающуюся антропологию, получает мощное развитие в эру романтизма и национализма: он направляет умы ученых и определяет их теории и классификации. Именно в этой обстановке разрабатывается мистическая трихотомия – арий, или настоящий человек, определяется как по отношению к его брату Симу, еврейскому получеловеку-полудемону, так и по отношению к его брату Хаму, черному получеловеку-полузверю. Философы в свою очередь умножают подобные иерархии: даже Гегель, несмотря на весь свой «спиритуализм», отдал этому дань, описывая характер негров. Он утверждал, что «в его характере невозможно найти ничего, что напоминало бы человека»:
«…негр представляет природного человека во всей его дикости и бойкости: чтобы его понять необходимо абстрагироваться от всякого уважения и морали; в его характере невозможно найти ничего, что напоминало бы человека (…) Итак, нефы обладают совершенным презрением к человеку, что составляет их главную сущность в том, что касается права и морали. Бессмертие души также игнорируется…, широко распространено и допустимо поедание человеческой плоти».
Профессиональных ученых не беспокоило бессмертие души, но их суждения о расе Хама были еще более жесткими, если это вообще возможно. Согласно краткому описанию Кювье «негритянская раса находится к югу от Атласа; у нее черный цвет кожи, курчавые волосы, сдавленный череп и приплюснутый нос; скуластая физиономия и толстые губы явно сближают ее с обезьянами; племена, составляющие эту расу, остаются варварами». Великий предшественник теории трансформизма англичанин Лоуренс более подробно останавливался на моральном и интеллектуальном слабоумии негров:
«Они почти повсеместно предаются разврату и отвратительной чувственности, они проявляют грубый эгоизм, безразличие к боли и радости окружающих, нечувствительность к красоте форм порядка и гармонии, почти полное отсутствие того, что мы имеем в виду, когда говорим о возвышенных чувствах, мужественных добродетелях и морали».
Следует ли удивляться, что вскоре понятие «раса» оказалось возведенным в ранг великого двигателя будущего человечества, заменив собой Провидение? Современные историки (особенно занимающиеся историей антропологии), которые попытались найти причины катастрофического смешения рас и языков, истории и антропологии и особенно философии, отягощенной пережитками богословия, и науки, часто ссылаются на программное письмо, адресованное в 1829 году Уильямом Эдвардсом Амедею Тьерри, в котором предлагалось определить, «до какой степени различия между народами, устанавливаемые историком, могут совпадать с теми, что определяет сама природа», а также совместно рассмотреть соответствия между «исторически сложившимися расами и теми, которые признают естественные науки». В это время подобные идеи носились в воздухе, и задолго до историка Тьерри и естествоиспытателя Эдвардса романист Вальтер Скотт давал «расовую» интерпретацию английской истории в свете борьбы между саксами и нормандцами. Таким образом, наука о расах черпала вдохновение в романтических мечтах, и «после битв под Лейпцигом и на Ватерлоо европейская почва порождала все новые расы». Это было самозарождение, причем как можно судить по именам и текстам, которые мы приводили выше, главным местом действия была Германия. Остается добавить, что этот международный научный хор хотя и был подавляющим, но в нем никогда не было единогласия: в качестве диссонирующих голосов можно упомянуть Александра фон Гумбольдта, который, выражая благодарность Гобино за присылку его книги «Исследование о неравенстве человеческих рас», писал ему, что эта книга «даже своим заглавием противоречит моим многолетним убеждениям относительно прискорбного деления на высшие и низшие расы».
II. АНГЛИЯ
Евреи Вальтера Скотта и евреи Дизраэли
Говоря об эмансипации, мы не затронули ситуацию в Англии. В самом деле, с XVIII века евреи находились там в положении, похожем на положение католиков и других нонконформистов, так что ограничения в правах распространялись там лишь на политические и представительские функции. К тому же речь там шла преимущественно о португальских евреях, которые, как мы это видели, уже находились под сильным влиянием западной цивилизации. Основным спорным пунктом была возможность избираться в Палату общин, которую католики получили в 1829 году. Освобождение «папистов» предвещало то же самое и для последователей Моисея, однако в этом случае возникли новые сильные препятствия, так что политическая борьба по этому поводу продолжалась около четверти века.
Можно провести аналогию с Францией, где евреи добились эмансипации по следам протестантов, и эта аналогия прослеживается во множестве деталей: подобно молодому Учредительному собранию 1790 года почтенная Палата общин превратилась в 1854-м в связи с обсуждением еврейского вопроса в арену неслыханных бурь, которые одна английская газета не упустила случая сравнить с «поведением верующих в синагоге, а все знают, что это означает».
При этом, когда в один прекрасный день политические права были евреям предоставлены, они никогда больше в Великобритании не оспаривались; кроме того там не было ничего подобного антисемитским вспышкам и кампаниям, которые бушевали почти везде на европейском континенте во второй половине XIX века. Для Гладстона агитация против евреев на его родине была так же неправдоподобна, как агитация против земного притяжения. Это не означает, что всеобщие предрассудки там испарились: избранный народ возбуждал там такие же беспокойные чувства как и раньше, и соответствующие темы разрабатывались многочисленными публицистами из поколения в поколение, но их сочинения не могли породить политического движения, союзов зашиты или боевых ассоциаций, т. е. никакой коллективной и организованной паники, В связи с этой пассивностью английского антисемитизма говорили о религиозной близости («два народа, воспитанных на Ветхом Завете»), о близости исторической («культ традиции предков»), о сходстве экономической этики («два народа коммерсантов, у которых торговля в почете») и даже об английской идиосинкразии («гордыня» и «заносчивость» Альбиона). В связи с этим последним пунктом можно заметить, что в самом деле навязчивый страх «еврейского завоевания» был несовместим с блистательной уверенностью подданных королевы Виктории, хозяев морей и мировой торговли.
Каково бы ни было значение всех этих факторов, английская оригинальность, часто трактуемая как «филосемитская», проявлялась весьма различными способами. Прежде всего ее необходимо связать с уважением к традиционным иерархиям в стране, население которой никогда не попадало под влияние революционных мифов. В результате британские евреи никогда не проявляли со своей стороны никаких поползновений связать свои политические интересы с «левыми» или с «трудящимися классами». Дизраэли был не единственным еврейским консервативным лидером: в 1868 году из восьми депутатов-евреев, выбранных в Палату общин, трое принадлежали к династии Ротшильдов.
На протяжении XIX века Великобритания многократно брала на себя роль державы, защищающей интересы рассеянного народа. С этой точки зрения следует запомнить 1840 год, поскольку «дамасское дело» (о котором речь пойдет ниже) одновременно возбудило новый рост сознательности среди эмансипированных евреев Европы и символизировало начало отношения покровительства, которое также опиралось на политические расчеты в рамках «восточной политики». Можно сделать аналогичное замечание по поводу различных проектов восстановления еврейского государства, которые обсуждались со времени Кромвеля в полуполитическом, полуэсхатологическом аспектах британскими литераторами, духовенством и даже государственными деятелями. И в каком еще христианском государстве политический деятель мог провозглашать с парламентской трибуны, что евреи – это высшая раса, «природные аристократы», и при этом подобные достаточно провокационные заявления не помешали ему стать премьерминистром и основателем Британской империи? Благодаря Дизраэли, этой неординарной личности, можно, как нам кажется, лучше понять все своеобразие отношений между Англией и евреями.
Мы уже говорили, что по другую сторону Ла-Манша евреи возбуждали те же чувствительные струны, что и в других странах. Для враждебности, презрения и других чувств этого рода, если они не находят внешнего выхода, нет лучшей разрядки, чем художественное творчество: так, несмотря на развитие выразительных средств и литературных стилей, на родине Шекспира образ еврея мало изменился и остается под влиянием грандиозной фигуры Шейлока. Конечно, как и в остальной Европе в конце XVIII века на театральных сценах стал процветать условный образ «хорошего еврея», но этот искусственный дидактический прием использовался лишь второстепенными авторами, забытыми в наши дни.
Великие художники оставались под впечатлением фигуры сурового Венецианского купца, воздействие которой можно видеть у Диккенса в беспричинной зловредности мучителя детей Фейджина; более тонким и замечательным образом трактует еврейскую тему Вальтер Скотт. В его самом популярном романе «Айвенго» евреев представляют Айзек и его дочь Ребекка. Сначала они противостоят различным христианским родам, которые сами вовлечены в светский конфликт, в ходе которого медленно выковывается будущее Англии, поскольку «четырех поколений оказалось недостаточно, чтобы смешать враждебную кровь нормандцев и англосаксов». Враждебную до такой степени, что у конфликтующих родов нет ничего общего, кроме их ненависти к сыновьям Израиля. Но Айзек и Ребекка также совершенно непохожи друг на друга. Не такой мстительный как Шейлок, отец всего лишь презренный трус, тогда как дочь сочетает сияющую красоту с самыми возвышенными добродетелями, а ее совершенство еще сильней подчеркивается испытаниями и несчастьями, на которые ее обрекает Вальтер Скотт.
Подобное распределение, лишь усиливающее свет и тени средневекового образа еврея, как нельзя лучше подходит для романтического воображения и почти немедленно стало литературным штампом: только в течение 1820 года не меньше четырех английских драматургов вывели на сцену героев Айвенго, тогда как во Франции Шатобриан в своем эссе «Вальтер Скотт и евреи» стремится выяснить, «почему у евреев женщины более красивы, чем мужчины». Он находит интересное объяснение этому феномену: Сына Божьего отвергли, пытали и распяли только мужчины, тогда как «женщины Иудеи поверили в Спасителя, полюбили его, последовали за ним, облегчали его страдания».
Подобный взгляд, который находит в евангельском повествовании лишь весьма неудовлетворительное подтверждение, позволяет нам прикоснуться к психологической «эдиповой» сути антисемитизма, для которого только евреи-мужчины опасны и отвратительны. Деспотический отец может быть только мужественным; не имеющая пениса еврейская женщина не несет на себе «расового проклятия», а ее невиновность даже делает ее особенно желанной. В этом смысле Шатобриан выступил в роли интерпретатора христианской традиции, говоря о женщине из Вифании, доброй самарянке, восхитительной Магдалине, благодаря которым «отражение прекрасного луча останется на лице еврейских женщин». Помимо этого красота еврейских женщин, часто называемая божественной, была общепринятой идеей в романтическую эпоху («небесная красота» и «жемчужина Востока», – напишет совершенно серьезно Мишле), тогда как несчастья позволяют еще лучше подчеркнуть ее прелесть оскверненной богини или «сексуального символа». Поверьте нам, что очень редко гремучая смесь религии, эротизма и древнего страха, на которой держится антисемитизм, бывает столь ясно выражена, как это сделано в забытом комментарии автора «Гения христианства».
Чувствительность, которую проявляет Вальтер Скотт к образам такого рода, обнаруживается также в романе «Дочь хирурга». На этот раз действие происходит в современности. Новейшая копия Ребекки, прекрасная и несчастная Цилия Монсада оказывается соблазненной знатным христианином, и ее любовь разрушается фанатичным и жестоким отцом. Она рождает незаконного сына (Ричарда Миддлемаса), который становится повесой, авантюристом и ловеласом. В свою очередь он соблазняет невинную христианку (как если бы он должен был отомстить за поруганную добродетель своей матери), а его порочность еще больше выделяется на фоне добродетели его друга «Адама Харли… который обладает открытостью англичанина древнего англосаксонского происхождения». После того как он причиняет тысячи мучений своим родителям и трогательной Мени Грей, наш мрачный герой оказывается раздавленным слоном, «который сразу кладет конец его жизни и его преступлениям». Выйдя за рамки старого сюжета о преступных и невинных евреях, это повествование оказывается первым в истории уроком о вреде «смешения крови».
С эмансипацией евреев и их доступом в общество еврейская женщина становится своеобразным и в каком-то смысле самостоятельным феноменом европейской культурной жизни. Ее странное очарование проявляется самыми различными способами: в реальной жизни, в Германии или Австрии, она выполняет функцию «акушерки духа», это судьба еврейских дам высшего круга в Берлине и Вене; в промежуточной сфере между реальностью и воображением она блистает на драматической сцене, как божественные Рашель и Сара Бернар во Франции. Наконец, в Англии от Джессики до Ребекки она принимает форму соблазнительного фантома; похоже, что эта градация выстраивается в зависимости от интенсивности реакций, которые возбуждает ее партнер-мужчина и которые варьируются от открытого до латентного антисемитизма.
В 1750 году еврейский коммерсант из Феррары по имени Бенджамин Дизраэли переехал в Лондон, чтобы начать там торговлю кораллами. Его сын Исаак занялся литературой и добился известности благодаря своим эссе и новеллам, некоторые из которых даже были переведены на французский язык. Проявляя все качества образцового джентльмена, Исаак посещал в Лондоне и Париже великих людей своего времени: лорд Байрон и братья Тьерри были в числе его сотрапезников. В Англии крещение не было необходимым «пропуском в европейскую культуру», и когда Исаак Дизраэли порвал с синагогой и в 1817 году крестил своих детей, это произошло из-за разногласий с единоверцами. Это отречение не помешало ему анонимно опубликовать в 1833 году книгу «Гений иудаизма», представлявшую собой защиту и прославление иудаизма, прежде всего испанского; в книге уже заметно влияние новых идей относительно особых «гениев» народов и рас. Этот труд свидетельствовал о глубоком знании еврейской культуры и был немедленно переведен на немецкий язык.