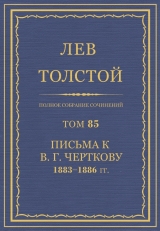
Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 85. Письма к В. Г. Черткову 1883-1886 гг."
Автор книги: Лев Толстой
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 50 страниц)
1886 г. Апреля 22—23. Москва.
Посылаю вамъ обратно Гуса.1 Кажется такъ хорошо. Посылаю еще финляндскіе деревенскіе разсказы,2 изъ к[оторыхъ] первый – Попутчикъ – очень хорошъ. Его слѣдуетъ напечатать. – Прилагаю письмо Веселовскаго,3 чтобы вы написали ему по адресу – чтобъ онъ согласился. Напишите отъ моего имени и благодарите отъ меня за присылку. Выписку о женскомъ трудѣ я еще пересмотрю, тогда напишу.
Л. Т.
Напечатано полностью в ТЕ 1913 г., отд. «Письма Л. Н. Толстого», стр. 38. Письмо написано на полулистке розовой почтовой бумаги высокого качества и небольшого формата, вероятно, оторванном от какого-нибудь полученного женского письма. На нем рукой Черткова проставлено: «М. 23 апрель 86». Так как Чертков обычно исходил в этих пометках из штемпеля отправления, датируем расширительно.
Судя по последней фразе письма – относительно «выписки о женском труде», оно было написано в ответ на то несохранившееся письмо Черткова, в котором он просил у Толстого разрешения напечатать эту выписку из его предыдущего письма (см. № 107 от 17—18 апреля и прим. 7 к нему).
1 «Иван Гус» – исторический рассказ Александра Александровича Эрленвейна, учителя Ясно-полянской школы, напечатанный в сборнике «Из «Ясной Поляны» (журнала гр. Л. Н. Толстого). Рассказы для семьи и школы. Под редакцией А. Эрленвейна. Тифлис, 1880» (изд. 2-е, Спб., 1884 г.) Рассказ Эрленвейна уже был выпущен отдельно в 1884 г. в серии «Народная библиотека» В. Маракуевым. Судя по выражению Толстого «кажется, так хорошо», нужно думать, что Толстой, подготавливая этот рассказ для «Посредника», сделал в нем некоторые поправки. Рассказ был напечатан в том же году с рисунками Л. К. Дитерихса под заголовком: «Иван Гус. Рассказ А. Эрленвейна. Из «Ясной поляны» гр. Л. Н. Толстого». Изд. «Посредника», М., 1886.
2 Финляндские деревенские рассказы, о которых говорит Толстой, – рассказы финского писателя Петра Пэйверинта (Päivarinta, 1827—1913), представителя группы финских народных писателей, выдвинувшихся в последнюю четверть XIX в. и отличающихся свежестью реалистического изображения жизни и природы и юмором. Первая повесть Пэйверинта «Моя жизнь» вышла в свет в 1877 г. Главные рассказы его собраны под общим заглавием «Elämän havainnoi» («Наблюдения из жизни», 1880—1884). Упоминаемый здесь Толстым рассказ «Попутчик» – о лицемерии и черствости лютеранского духовенства – прошел цензуру с большими затруднениями и был издан с значительным запозданием под заголовком «Попутчик». Рассказ. Изд. «Посредника», М. 1887 г. (дозв. ценз. в Варшаве 28 ноября 1886 г.) В дальнейшем «Посредник» издал и другие рассказы Пэйверинта: «Выселок», «Загубленная жизнь или исповедь пьяницы», «Первый мороз».
3 Установить, о каком Веселовском идет здесь речь, не удалось. В письмах Черткова к Бирюкову за лето 1886 г. (одно – без точной даты, другое от 30 августа) о Веселовском, без указания его имени и отчества, говорится, как и в настоящем письме Толстого, в связи с книжкою рассказов Пэйверинта и, в частности, с рассказом его «Попутчик» (AЧ). Судя по этим письмам, Веселовский рекомендовал эти рассказы для переиздания в «Посреднике» и оказывал содействие прохождению «Попутчика» через цензуру.
* 109.1886 г. Мая 10. Я. П.
Если вы выѣзжаете 12-го, то это письмо не застанетъ васъ. Все таки пишу, чтобъ сказать, что вы не напрасно потрудились написать ваше длинное мнѣ письмо. Я совершенно согласенъ съ изложеннымъ въ немъ. Тамъ есть новое для меня: именно о любви какъ къ самому себѣ. Мнѣ это представляется совершенно вѣрнымъ, а главное, это самое и разъясняетъ вопросъ о правдивости. Я только не соглашался съ тѣмъ, чтобы правило: говори всегда правду можно было поставить наравнѣ съ другими заповѣдями Х[риста]. Это правило, какъ правило, стоитъ гораздо ниже, и какъ правило не можетъ даже быть выражено; но какъ условіе – непремѣнное – служенія Богу, оно уже не правило, а самая сущность ученія и стоитъ даже выше заповѣдей 5-ти.1 Я есмь жизнь, путь и истина. И потому христіанинъ не можетъ, не долженъ отступать отъ истины. Истина есть conditio sine qua non2 его жизни. И потому, когда говорятъ про истину, про правдивость, какъ про практическое правило, выходитъ недоразумѣніе. Все равно, какъ сказать: ты долженъ всегда дышать. Какъ только скажутъ такъ, а не такъ, что ты не можешь жить безъ дыханія, такъ сейчасъ могутъ быть вопросы. А какъ же, когда я задумаюсь или прислушиваюсь, – долженъ я дышать или не долженъ? Истина, правдивость есть само ученіе, и потому кто живетъ ученіемъ, тотъ будетъ стремиться къ истинѣ и бояться всякаго отступленія отъ нея. Правило же это не можетъ заставить быть правдивымъ. Ну, да если нужно (но совсѣмъ и не нужно намъ съ вами), поговоримъ при свиданіи, к[отор]ому очень радуюсь. Разумѣется, очень радъ буду и Спенглеру.3 Завтра, 11-го, жду моихъ изъ Москвы, а 12 Кузминскихъ. Мое уединеніе двухнедѣльное кончилось. Но и то и другое хорошо. Я, слава Богу, живъ духомъ и тѣломъ, чего и вамъ желаю.
Л. Т.
Полностью печатается впервые. Отрывок, с значительными искажениями, был напечатан в СК, вып. II, стр. 101—102, под заглавием «Правда». На подлиннике рукой Черткова помечено только: «Я. П.». Как по архивному номеру, так и по содержанию письма, отвечающего на письмо Черткова от 5—6 мая 1886 г., можно с уверенностью заключить, что оно относится к маю 1886 г., точная же дата его устанавливается словами письма: «завтра, 11-го».
В упомянутом письме Черткова, от 5—6 мая, из Лизиновки, он говорит (цитируем с значительными сокращениями): «Давно я вам не писал, дорогой Л. H., а наше свидание в Москве было такое мимолетное. Все эти дни здесь я был занят Ростовцевым и экзаменами в нашей и трех соседних школах... В особенности меня интересует возможное применение начала не насилия, и очень отрадно видеть, как некоторые учителя начинают в виде опыта, без надежды на успех, и понемногу к своему удивлению убеждаются в том, что можно и хорошо обходиться без принуждения и наказаний. А каждый шаг в этом направлении ведь дорог, даже и тогда, когда производится он в обстановке неправильного и внешне организованного школьного дела. – Вчера приехали, здесь переночевали и сегодня уехали к Н. Д. Кившенко Анна Константиновна [Дитерихс] и Озмидова. Они рассказывали про свое свидание с вами в Ясной... Рассказали мне Анна Константиновна и Ольга Николаевна про разговор с вами, вызванный вопросом Павла Ивановича о том, хорошо ли прибегать к неправде из любви к человеку. Как ни хотелось бы мне во всем быть с вами согласным, но не нахожу возможным в этом с вами согласиться. И я как-то чувствую, что вы в этом согласитесь со мною. Мне кажется, что вопрос этот гораздо глубже забирает, чем кажется, когда разбираешь отдельные частные случаи. И притом уверяю вас, что я вовсе не смотрю на него со стороны чистоты своей совести, или с узко-пуританской точки зрения. Я даже думаю, что о нем не стоило бы вовсе говорить, если вопрос ставится так – хорошо или дурно поступил человек, солгав ради спасения ближнего напр. от смерти... Действуя под влиянием сильного чувства человек часто становится невменяем по отношению к своим приемам. Если человек рассердится так, что потеряет рассудок и в минуту исступления убьет человека, то он виноват не в том, что убил, это он сделал в состоянии невменяемости, а в том, что допустил себя до такого состояния гнева. Точно так же, если под влиянием порыва любви и жалости человек сказал неправду, то он не виноват в том, что сказал неправду, он был в состоянии невменяемости, он был не виноват, а прав в том, что им овладел этот порыв сострадания, любви. Но совсем другое дело, если в минуту полного душевного равновесия мы в принципе признаем, что в простых случаях должно солгать и что можно это сделать, не нарушая правды божьей. Для этого приходится признать, что есть добро высшего разряда, есть низшего, и что следует нарушать низший разряд добра, когда хочешь исполнить высший. А единственным мерилом для такой классификации является наше соображение о том, чтò поведет к лучшим результатам, а этого мы никогда не можем вперед определить. Хорошо, если вы на этом остановитесь и не будете выводить дальнейших, неизбежных выводов из такого допущения, но ведь другой пойдет дальше. Явится у него потребность последовательности, явятся в его уме (именно в уме, потому что я говорю о признании принципа) другие случаи совершенно аналогичные, но более сомнительные; и если он не решится признать, что ложь всегда зло, то он неизбежно будет доведен до того, что цель оправдывает средства, и будет подкошено самое основание и сила учения Христа, которое всё основано на средствах, а не на достижении определенной цели... То, что я говорю, не есть отвлеченная, холодная, головная теория. Напротив того, на каждом шагу приходится сталкиваться с тем или другим видом лжи, допускаемой ради того, в чем предполагают выгоду божьего дела. Да неужели же добро и правда сами по себе не могут за себя постоять всегда, во всех случаях, неужели для их торжества бывает необходимо, желательно прибегнуть к обману, к искажению самой истины, к введению людей в заблуждение? Я этого признать не могу... ибо чувствую, что еслиб я это сделал, то неизбежно принужден был бы признать всё, что вытекает дальше. Тогда уже без всякого сомнения одного человека следует убить ради спасения десятков тысяч. Уж одно то, что ложь для спасения своей собственной жизни в принципе гораздо труднее допустить, уже одно это указывает на то, что нельзя в принципе признать правоту лжи для спасения ближнего, которого мы должны любить, как самого себя. Фрей, например, говорит: «Христос говорит: люби ближнего, как самого себя; а мы говорим – люби ближнего больше самого себя». И он думает, что этим он поднимает выше Христа. Между тем эти слова или вовсе не имеют смысла, или же имеют смысл самый ложный, пагубный. Как Свешникова мне объяснила, что есть случаи, когда должно поступиться своею совестью. И они думают, что здесь вопрос о какой-то аристократической собственной, личной чистоте. Но это вовсе не так – какая там чистота, когда ежедневно, ежечасно думаешь и делаешь вещи без всякого сравнения хуже, чем это! Здесь всё исчерпывается словами Христа, сказанными в ответ на самый существенный вопрос, который только можно сделать, и, по мне, разрешающими этот вопрос по существу так глубоко и полно, как невозможно лучше: Люби Бога всем существом своим, всею душою, и ближнего, как самого себя. И это одно и то же, и одно другому никак не может противоречить, несмотря на кажущиеся противоречия в частных случаях, где мы увлечены каким-нибудь сильным чувством. Чтò я в себе люблю больше всего, чтò ставлю выше всего, за чтò желал бы быть готовым всякую минуту умереть? Свое сознание вечной божьей правды, истины – бог. Почему? Потому что я знаю, что это жизнь вечная, всё обобщающая, что в этом мы все едино. Зачем же я отрекусь от этого сознательно, хладнокровно, когда вопрос коснется временной жизни, личной, одного человека? Если я сделаю это в минуту увлечения, невменяемости, то... могут просмотреть это пятнышко. Но имею ли я право выставлять это, как положительное добро?» – Не окончив письма 5 мая, Чертков на следующий день продолжает : «Вчера вечером я заговорил с вами по поводу «лжи во спасение», как называет это православная церковь... Если вы будете со мною не согласны, то я в свободное время постараюсь формулировать обстоятельнее то, что чувствую и думаю по этому поводу, потому что вопрос этот у меня очень близко к сердцу... В учении Христа мы постоянно имеем перед собою ясное, определенное указание пути, и сколько бы мы ни спотыкались и ни падали бы, мы всегда можем опять встать на ноги и продолжать по этому пути. Но важно, чтобы самый путь не затемнялся, нигде не становился бы для нас сомнительным, запутанным. Теперь скажу вам, какие случаи практические представились мне в течение этих последних дней, в которых бы пришлось совсем сойти с прямой дороги, если признать правду маленькой лжи: Озмидова пишет о древних христианах. Отец ее утверждает, что они напрасно подвергались казням за то, что не хотели отречься словесно от Христа. Он говорит, что по поводу слов не стоит и не следует подвергать себя лишению жизни. Ошибочность такого взгляда для меня очевидна. Примените его к окружающим нас теперь обстоятельствам, и при первом столкновении, грозящем серьезным стеснением, каждый из нас будет отрекаться на словах от того, во что он верит. Жить и говорить правду мы будем исподтишка. В таком случае и молодой Сютаев, и Залюбовский заблуждаются, отказываясь от внешнего признания, от исповедания войны... Подобный же случай недавно возник среди соседних крестьян, о которых я вам говорил, что их преследуют за веру в Евангелие. Для устранения неприятностей, весьма и весьма для них существенных, они прибегали к обману, к введению своих врагов в заблуждение. Они сами чувствуют, что это нехорошо, у них являются сомнения. Неужели следует стараться заглушать в них эти сомнения, научая их тому, что бывает добро разных степеней и что соображение о более важной пользе покрывает отступление от правды в мелких случаях». В заключении письма Чертков говорит: «12-го мы думаем выехать отсюда. Мне очень хотелось бы заехать к вам в Ясную и, если можно, с молодым Спенглером, который кончил свою школу и собирается работать с крестьянами летом. Но сейчас здесь нет никаких полевых работ, и он очень хотел бы воспользоваться этим, чтобы еще раз повидаться с вами и познакомиться с Файнерманом...»
1Слова: и стоит даже выше заповедей 5-ти вписаны поверх строки.
2 Непременное условие.
3 О Ф. Э. Спенглере см. прим. 4 к п. № 4 от 17 февраля 1884 г. Приехал ли он вместе с Чертковым в Ясную поляну в мае 1886 г., установить не удалось.
* 110.1886 г. Мая 27—28. Я. П.
Получилъ ваше письмо, милый другъ, и очень радъ былъ ему. Мое – пожалуй не застанетъ васъ въ П[етер]б[ур]гѣ. Мы живемъ хорошо. Продолжаю понемногу работать – больше теперь руками, чѣмъ головой, такъ какъ больше тянетъ къ этой работѣ. Кромѣ того много гостей. Былъ Озмидовъ, Грибовскій, Мар[ья] А[лександровна] Шмитъ и Сосновскій1 и теперь тутъ. Озмидову я былъ очень радъ. И мнѣ очень хорошо б[ыло] съ нимъ. Я радъ тоже тому, что въ моихъ домашнихъ разрушилось предубѣжденіе къ нему. Грибовскій очень молодъ. Это главное, что надо помнить о немъ, и еще то, что первое пробужденіе его душевной дѣятельности было революціонное – такъ называемое научное. Какая это страшная чума! Тоже и еще въ гораздо большей степени съ Сосновскимъ. Мы часто обманываемся тѣмъ, что, встрѣчаясь съ революціонерами, думаемъ, что мы стоимъ близко рядомъ. Нѣтъ государства – нѣтъ государства, нѣтъ собственности – нѣтъ собств[енности], нѣтъ неравенства – нѣтъ неравенства и мн. др. Кажется, все одно и тоже. Но не только есть большая разница, но нѣтъ болѣе далекихъ отъ насъ людей. Для христіанина нѣтъ государства, а для нихъ нужно уничтожить государство; для хр[истіанина] нѣтъ собственности, а они уничтожаютъ собст[венность]. Для христіанина всѣ равны; а они хотятъ уничтожить неравенство. Это какъ разъ два конца несомкнутого кольца. Концы рядомъ, но болѣе отдалены другъ отъ друга, чѣмъ всѣ остальныя части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концахъ.
Помѣшали мнѣ писать это письмо Сосновскій съ Файнерманомъ. Они пришли съ деревни (Сосн[овскій] жилъ 2 дня у Файнер[мана]), и мы очень хорошо поговорили. Я между прочимъ прочелъ Сосн[овскому] то, что пишу о немъ. Онъ мнѣ очень понравился. Доброты въ немъ много. Сейчасъ онъ уѣзжаетъ. Если вы переписали начало разсказа о мужикѣ и мальчикѣ2 (изъ моихъ бумагъ; очень измаранная), то пришлите мнѣ ее. Я нынче о ней думалъ. Можетъ быть, удастся написать. Очень меня занимаетъ теперь не только Будда, но и Браманизмъ,3 и Конфуцій,4 и Лаодци.5 Можетъ быть, ничего не выйдетъ, а можетъ быть выйдетъ что-то, о чемъ не стану писать, п[отому] ч[то] въ письмѣ не разскажешь.6 У насъ нынче набралась куча гостей – молодежь, Сережа7 пріѣхалъ, Кузминскій,8 и заливаетъ море пустоты и соблазновъ дѣтей, и они отдаются, а я борюсь хоть не съ соблазнами, но съ досадой на тѣхъ, кто ихъ вводятъ. – И надѣюсь, что Богъ поможетъ. Съ особенной любовью думаю въ такія минуты о васъ и всѣхъ мнѣ близкихъ. Пишите почаще, милый другъ. Поклонитесь отъ меня вашей матери. Сосновскій просилъ очень вамъ кланяться. Мои всѣ васъ любятъ и помнятъ.
Полностью печатается впервые. Отрывок, с некоторыми искажениями, напечатан в СК, вып. II, стр. 69—70. Другой небольшой отрывок напечатан в ТЕ 1913 г., отд. «Письма Л. Н. Толстого», стр. 38, где письмо неправильно отнесено к началу мая. На подлиннике рукой Черткова помечено: «Я. П., начало июня 86». Письмо это, адресованное в Петербург, было переслано Черткову в Англию, вероятно, без конверта Толстого, и о дате отправления из Ясной поляны Чертков судил приблизительно. Датируем, исходя из того соображения, что в письме от 24 мая Чертков сообщает, что отъезд его в Англию намечен на пятницу будущей недели, т. е. на 30 мая 1886 г., а Толстой, отвечая ему в настоящем своем письме, выражает опасение, что ответ этот уже не застанет его в Петербурге.
Разнообразное содержание этого большого письма Черткова, от 24 мая, не отражается непосредственно на ответном письме Толстого. Но оно заключает в себе отчасти живые отголоски их недавнего свидания в Ясной поляне, наметившего некоторые новые шаги для дальнейшей деятельности «Посредника», которая одинаково интересовала их обоих, и вместе с тем рисует всё новые и новые трудности, возникающие для этой деятельности со стороны властей. Приводим из этого письма все наиболее существенное: «В Москве я не застал Островского – он выехал в деревню, – пишет Чертков. – Я поручил И. И. Петрову, который между прочим собирался к вам в Ясную вместе с М. А. Шмидт [о Петрове см. ниже прим. 3 к п. № 125 от 17—18 декабря 1886 г.], доставить заказною посылкою в деревню Островскому ваше письмо с экз. Полного собрания сочинений. [О письме Толстого к А. Н. Островскому см. ниже, прим. 1 к п. № 121 от 10—11 ноября 1886 г.] С своей стороны я написал Островскому, указывая на те две его вещи, которые мы хотели бы напечатать для начала. Златовратского я застал. Он был очень рад получить ваше предисловие, которое мы и прочли вместе в присутствии И. И. Петрова. Последнему содержание было очень сочувственно. С Златовратским же у меня завязался спор. Он говорит, что от вас ожидают изложения общественной деятельности. Он говорит, что Бондарев ставит вопрос именно на общественную почву, а что вы держитесь личной. Ну, разумеется, я говорил о том, что корень зла лежит не в общественных или других наружных формах, а в сознании людей и что, развивая наше собственное личное сознание в истинном направлении и проводя его в делах, мы неизбежно участвуем в поступательном движении, которое само собою отразится в свое время и в наружных государственных и др. формах. А что, борясь с одними формами, мы упускаем из виду источник зла, который и будет процветать и в нас самих, и вокруг нас... – Сюда приехал Чистяков из Динабурга. Он распространил там громадное количество книг и навлек этим на себя нарекания. А потому счел удобным уехать на некоторое время. Друг его, офицер Дицкевич, также распространявший наши книжки среди солдат, лишился поэтому своей «образцовой» роты и получил другую, в которой он уже усиленно распространяет наши книжки. Он читает ваши рукописные сочинения, привлекается ими и собирается оставить военную службу и зажить работою среди крестьян... – В дороге сюда я прочел ваш дневник. Не могу вам сказать, дорогой Лев Николаевич, сколько пользы и поддержки я получил из него. Для меня стало так очевидно и ясно, что как женщина в муках рождает ребенка, так и для нас всякие самые тяжелые страдания ведут к нарождению в нас нового и большего, полнейшего сознания истины божьей. Если бы вы не прошли через всё то, через что прошли, то были бы теперь слабее и более односторонним. – Не стану говорить вам, какое отрадное впечатление я вынес от своего последнего пребывания с вами. Я всегда уезжаю от вас с сознанием прибыли и подкрепления, а приезжая к вам, я всегда поражаюсь величиною тех шагов, которые вы успели сделать вперед. – Я также много думал о тех трех «рассуждениях», которые вы чувствуете потребность написать. Мне кажется, что теперь больше, чем когда-либо, настало время изложить чистое понимание учения Христа не в форме автобиографической и полемической, как в «В чем моя вера», а в виде простого непосредственного обращения к читателю... Следовало бы взять Евангелие и в особенности Нагорную проповедь, как канву, рамку, и затем высказать всё, что вы имеете сказать и о любви, как корне всего хорошего, и о женщинах, и о современных формах истязания людей... Эта новая книга читалась бы всеми и перед всеми ставила бы ребром вопрос жизни... Раз вы имеете еще чтó сказать, раз вы чувствуете в себе эту потребность, то лучше прямо возобновляйте учение Христа во всей его силе, а не касаясь в отдельных статьях только отдельных его составных частей. Постоянное сравнение этого учения с окружающею нас действительностью во всех ее формах, обнаруженное с тою искренностью, горячностью, любовью, увлекательностью, которыми вы одни располагаете, – такое обращение открыло бы глаза многим... Как вы правы в вашем предисловии к Бондареву [о статье Т. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство», – см. прим. 2 к п. № 74 от 13—14 июня 1885 г.] о том, что в любви к богу, к ближнему, как к себе, – всё, и что прибавлять к этому ничего нельзя. Бeз преобладающей любви к богу я не могу любить ближнего, т. е. всякого человека, а могу любить только того, кто мне нравится. С другой стороны без преобладающей любви к богу я бы слишком много любил того, кто мне нравится в ущерб другим; т. е. любил бы не проявление божества во всех людях, а любил бы сочетание частных условий, составляющее отдельную личность». В большой приписке к этому своему письму, на отдельном листке, Чертков говорит: «Если увидите Озмидова, то не можете ли сговориться с ним относительно того, чтобы он в Москве переселился, если будет продолжать жить в Москве, куда-нибудь подальше от типографии Сытина и не входил бы по возможности в личные деловые сношения с Сытиным и его конторою... В Москве я узнал еще кое-какие факты, указывающие на то, что близость Озмидова к типографии навлекает внимание, и... может прямо навлечь такие обстоятельства, которые неожиданно и сразу прекратят возможность дальнейшего издания наших книжек... Мне кажется, что мы должны делать возможное для устранения и предупреждения невыгодных наружных обстоятельств, когда это в наших руках, и мы можем, как в данном случае, сделать это, не изменяя нашим убеждениям... – Рассказ Гаршина «Царь Аггей» не разрешен в отдельном издании, так как знают, что он предназначался для нас, хотя сам Феоктистов говорит, что рассказ сам по себе прекрасен и не содержит ничего предосудительного. – Я слышал, что учреждена комиссия для изобретения средства для затруднения обращения книг в народе. Говорят, что хотят завести особое клеймо для народных книжек, т. е. вторичную особенно строгую цензуру».
Николай Николаевич Златовратский (1845—1911), о котором говорит здесь Чертков, – писатель-народник, автор «истории одной деревни» под заглавием «Устои», очерка «Деревенские будни» и др. произведений, представляющих собой сочетание беллетристики, этнографии и статистики и печатавшихся в «Отечественных записках». Был знаком с Толстым, который в Дневнике 1884 г. от 24 марта пишет о нем: «Пришли Златовратский и Маракуев. Златовратский – программу народничества. Надменность, путаница мысли и плачевность мысли поразительны». В письме к Златовратскому от 20 мая 1886 г., которое повидимому было передано ему в Москве Чертковым вместе с предисловием к сочинению Т. М. Бондарева, Толстой говорит: «Много встречаю людей, напоминающих мне того пьяницу-портного, которого вы мне читали. Это верный признак, что образ художественный, настоящий. Кончили ли вы? Дайте это в «Посредник». Вам и бог велел быть одним из лучших сотрудников». Однако сотрудничество Златовратского в «Посреднике» в ближайшее время не состоялось. Много позднее – в 1892 г. и позже – «Посредником» были изданы его рассказы «Искра божия», «Белый старичек», «Деревенский король». – О Чистякове из Динабурга и офицере Дицкевиче, навлекших на себя неудовольствие властей распространением книжек «Посредника», в редакции сведений не имеется. Известны и другие, аналогичные случаи гонений на книжки «Посредника». Так Н. Д. Кившенко пишет Черткову 14 июля 1886 г.: «Получены известия из Твери, что жандармы велели снять с выставки книжки «Посредника». Один учитель пишет, что эти книжки навлекли на него подозрения начальства» (AЧ). – Феоктистов, Евгений Михайлович, – с 1883 до 1896 г. начальник Главного Управления по делам печати. – Какие «три рассуждения», упоминаемые Чертковым, чувствовал потребность написать в то время Толстой, установить не удалось.
1 Михаил Иванович Сосновский (1863—1925?) – народоволец, сын учителя, родился в Полтаве. Учился в петербургском университете. В 1881—1883 гг. работал в студенческих кружках: в 1885—1887, в период знакомства с Толстым, был участником петербургской террористической группы. В 1887 г. в связи с покушением на Александра III был арестован и в 1888 г. сослан в Восточную Сибирь. Пробыл в ссылке восемь лет. Сотрудничал в газете «Восточное обозрение» и журнале «Русское богатство». В 1917 г. был видным деятелем в партии с.-р. в Туркестане. Дальнейшая судьба его неизвестна.
2 Толстой говорит о его, взятой Чертковым для переписки, небольшой неозаглавленной рукописи, «начинающейся словами: «Жил в селе человек праведный, звать его Николай...», которая печатается в т. 26 настоящего издания. Рассказ остался ненаписанным.
3 Браманизм или, по новой научной транскрипции, брахманизм – социальная и религиозно-философская система индусов, постепенно сменившая в IX—X вв. до н. э., с закреплением в Индии господства завоевателей-арийцев, более древнюю религию – ведаизм, с его многочисленными богами, населяющими природу и управляющими ее явлениями. Священные книги этого древнейшего периода, Веды, представлявшие собою собрание религиозных песнопений, мифологических отрывков, богослужебных формул и разъяснений различных обрядов, перешли и к брахманизму, который, оставляя массе ее старых богов, придал из них особое значение Брахме (в старой транскрипции – Браме). Выделившиеся из Вед особые сборники мудрых изречений, размышлений и притчей – Упанишады («сокровенное знание») – концентрируют в себе философию брахманизма. По учению Упанишад, мир со всеми его страстями и бедствиями призрачен, реальным является только Брахма, безличное верховное божество мира, к слиянию с которым должна стремиться всякая индивидуальная душа («атман»). Иллюзии мира держат ее в плену и порождают ее уродства, грехи, за которые она несет возмездие, перевоплощаясь после смерти в всё новые и новые существа – людей или животных, пока не прозреет истины, не очистится и не познает своего тождества с безличным началом мира, Брахмою. Познавшие же истину достигнут уничтожения своего индивидуального существования и сольются в Брахме, «как реки в океане», и будут пребывать в неизъяснимом блаженном состоянии, которое можно уподобить сну без сновидений. Но эта философия брахманизма оставалась в Индии философией для немногих. Жрецы брахманизма – брахманы (по старой транскрипции – брамины) держали массу в повиновении вульгаризированной догмой о посмертном возмездии, связанной с бесконечными обрядностями и учением о вековечном разделении народа на четыре замкнутые в себе касты, – учением, которое на тысячелетия закрепило экономически-сложившийся в то время классовый строй индусов, предоставляя господствующее положение высшему классу – брахманам. – Философия и основанная на ней этика Упанишад, как и одна из позднейших философских систем брахманизма, так называемая Веданта, имеющая выдержанный идеалистический характер, а также различные глубокомысленные сказания в поэтическом творчестве индусов, с которыми Толстой не переставал знакомиться по немецким, французским, английским и частью русским источникам до конца жизни, несомненно, увлекали его. В «Круге чтения» мы находим ряд изречений и поэтических отрывков, почерпнутых из этих источников. Что же касается учения брахманов, обращенного к массам, то он относился к нему так же отрицательно, как и к христианской догматике, и в своей незаконченной работе «Сиддарта, прозванный Буддой» говорит о лживости и корыстолюбии брахманов, которые «стали вводить в учение о воле бога», написанное в сердцах всех людей, «много лишнего, ненужного и вредного для людей, но полезного для них» и установили «разделение людей на разные породы, уверив людей всех, что это делается по воле Бога».
4 О Конфуции см. прим. 1 к п. № 5 от конца февраля 1884 г.
5 О Лао-тзе см. прим. 2 к п. № 8 от 11 марта 1884 г.
6 В дальнейшем Толстой однако изложил Черткову тот план задуманной им работы, о котором он говорит здесь, что его «в письме не расскажешь» (см. п. № 112 от 15—16 июля 1886 г.).
7 Судя по письму Черткова от 10 июня (см. комментарий к п. № 111 от 28—29 июня) речь идет здесь о Сергее Львовиче Толстом.
8 Зять Софьи Андреевны, Александр Михайлович Кузминский.
Отвечая на это письмо Толстого 10 июня, уже из Лондона, Чертков говорит: «Я получил вчера ваше письмо, которое вы написали, когда у вас был Сосновский. И я был особенно рад, потому что давно не получал от вас вестей, и так хотелось знать, что и как с вами. – Вы, вероятно, уже получили начало рассказа «о мужике и мальчике» вместе с оригиналом, которые я вам отправил по почте еще раньше своего выезда из Петербурга... Отрывок этот мне ужасно понравился. Что придает ему особенный интерес, это то, что введены не только простые крестьяне сами по себе, но и захвачен уголочек той «рамки», в которой они живут, в лице старшины и священника, которые выступают в высшей степени рельефно и характерно. А это так важно. Оно придает рассказу больше полноты и интереса. Как рад я буду, да и не я, а все, ценящие ваши рассказы, если вам бог когда-нибудь положит на сердце написать такой рассказ, о каком мы говорили последний раз, где бы действовали не только крестьяне, но и все люди, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. – Я совсем согласен с тем, что вы пишете про отдаление революционеров от нас. Это действительно так и есть. Но почему-то некоторые революционеры искренние, и в особенности молодые, как-то особенно привлекают меня к себе и вселяют особенно сильное желание перетянуть их на нашу сторону. Это не желание пропаганды или прозелитизма, а чисто сердечная симпатия».








