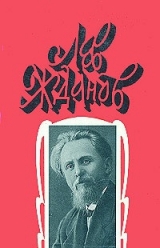
Текст книги "Осажденная Варшава"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– Письмо… письмо получено прямо из Берлина, почтенные паны. Экстренная эстафета… Да… И пишут цесаревичу… Сами уж можете понять кто… Что в Познани раскрыт большой заговор… Кхм… кхм… имеющий отношение к Варшаве, к особе цесаревича и все иное прочее… Разные там неприятные подробности… Почему и был сбор начальникам частей назначен на сегодня… Кхм!
– Ах, вот о чем вы. Ну, это еще небольшая беда. Я только что собирался доложить Комитету, – заговорил молчавший до сих пор Прондзиньский. – Действительно, цесаревич созвал всех, кое-что говорил о письме, как бы ожидая от нас услышать дальнейшие откровенности… Но все в один голос отозвались, что ручаются за спокойствие… Познанский заговор, если он существует, конечно, направлен против Пруссии. А чтобы обезопасить себя и облегчить работу, может быть, "списковые" [3]3
Списковые – заговорщики.
[Закрыть] там и пустили ракету, что метят против Бельведера.
– И что же великий князь?
– Задумался. Но все же, как он сказал, "на всякий случай", назначил русским и нашим войскам три сборных места в минуту тревоги.
– Конечно, Бельведер, Марсово поле перед дворцом и банк? – подал голос Махницкий.
– Нет. Третье место – Арсенал…
Все невольно переглянулись, но промолчали. Прондзиньский продолжал:
– Конечно, дать распоряжения – одно, а как они будут выполнены, – дело совсем иное и зависит от частей, которые попадут в караул в назначенный день.
– Вернее, назначение дня будет зависеть от того, какой караул в городе? – поправил Уминьский.
Прондзиньский поспешно утвердительно закивал головой.
– Это еще далеко не все, – снова загудел таинственно Гуровский. – Кхм, кхм… Там у меня в Бельведерчике есть такая девчоночка… Уж пусть не взыщут почтенные паны. Молодость – это первое дело. А второе, польза общая. Она тихенькая на вид, глупенькая, а такая шустрая, что мужчину за пояс заткнет… Все слышит, что надо… И она наверное знает, что какой-то… Уж извините. Один из панов подхорунжих – и католик, как жив Господь, – католик был сперва у грека Куруты. А потом потихоньку и у самого! И отпечатал ему про весь наш… Про все наши дела, про список и планы открыл, и даже так слышно, что берлинское письмо только для отвода глаз, чтобы получше скрыть от всех, кто настоящий предатель. Потому что он очень важное лицо в деле. Так мне говорила Юзя, девчонка эта.
Гуровский, выпаливший все залпом, огляделся, и его смутило суровое, мрачное выражение лиц у окружающих. Он смолк на мгновение и вдруг еще оживленнее прежнего загудел:
– Верить мне могут панове Комитет. Первое, нового начальника дают панам подхорунжим. Вот завтра услышите. Пана генерала Трембицкого. Знаете его. Было сказано: "Тот всяким шалопаям, гицлям потачки не даст, подтянет их сразу! Сына родного не пожалеет ради присяги и долга".
– Да, Трембицкий. Верно, он такой, – словно против воли вырвалось у нескольких из присутствующих. Снова минутное тяжелое молчание было прорезано баском Туровского.
– Мало того. Пану генералу Кривцову велено писать указ: вывести из Модлина, из крепости, польские батальоны и заменить москалями. И в целом царстве будут поставлены русские гарнизоны, как на Литве. Да. Я сам ви… слышал это! А она сама видела бумагу. Девчонка эта, Юзя. Смышленая и читает по-русски. Научилась. Как же. И войска все польские решено не оставить в крае, а пустить вперед в первую голову, в авангард, как у вас говорится, против Бельгии и Франции. Это князь Любецкий дал крулю Николаю такой совет. Погонят нас на бойню. Сами услышите через несколько дней, как затрубят выступление. У них уже все обдумано, как бы задушить заговор. Особенно когда и от панов студентов те же вести пошли.
– Почему? При чем тут студенты?
– А как же? И этого не знает Комитет? – заговорил Ю.Б. Островский, стороживший свой черед. – Москали давно обратили внимание на гимназические потешные роты, которые еще наш славный Зан затеял лет двенадцать тому назад. И сами москали догадались, и доносчики подшепнули, для чего учатся мальчики стрелять. Куда они целить станут, когда подрастут?! И студенческие кружки показались опасны. Аресты начались давно. А тут вот на днях проболтались многие из молодежи. Следственная комиссия такое узнала!.. Говорят, на днях и университет будет закрыт. И все списки главных вождей попали уже в Бельведер.
– А если не попали еще, если мы еще на свободе, то через день-два ниточка доведет до клубочка! – резко вставил Заливский свое слово.
– Да, вот и я собирался именно об этих арестах доложить Комитету, – проговорил делегат студентов.
– Вот они дела-то каковы, – снова среди общего подавленного молчания врезался голос Заливского. – А мы тут кружева плетем, классическими заговорами и парламентской дребеденью занимаемся. Полагаем, что можно располагать целыми месяцами, когда минуты сочтены. Когда все раскрыто… Измена и предательство гнездятся чуть ли не в самом тесном кругу. И впускают жало в тех, кто истинно любит отчизну. Кто не болтовню пришел разводить, а готов положить жизнь или добыть волю. Сами решайте, можно так действовать дальше, как мы делали до сих пор? Смеем ли выжидать? Нас ожидают арест и суд каждую минуту. Так лучше же рискнуть. Все равно конец один!.. Пусть нас берут в бою, а не голыми руками, как индюков или поросят берут резать на Святки.
Заливского нельзя было узнать. Действительно, он переживал близкую опасность со всем страхом и отчаянием души, любящей земные блага жизни и еще не пресыщенной ими. Этим настроением он безотчетно заражал и других. Но отчаяние вызвало в нем же какую-то слепую жажду борьбы, сопротивления, порыв безрассудной отваги. И бледные лица сидящих вокруг стола тоже постепенно порозовели, глаза загорелись, стали сжиматься руки. А все спокойные, рассудительные соображения, которые казались незыблемы, неоспоримы полчаса назад, – вдруг закружились, развеялись в вихре налетевшего страха, смешанного с отчаянием, с готовностью на все, только бы не отдаться без сопротивления врагу в руки.
Высоцкий, на которого, конечно, и были главным образом направлены сарказмы и удары Заливского, понял теперь подпоручика. Очевидно, последнему хотелось столкнуть главаря партии и занять самому первое место. Об этом не печалился Высоцкий, который охотно готов был уступить достойнейшему свой опасный пост. Но сейчас надо было забыть и о личном самолюбии, и о великодушных порывах.
Пока остальные обменивались между собою отрывистыми, взволнованными фразами по поводу сообщений, сделанных так неожиданно, Высоцкий быстро набросал несколько строк на бумаге и попросил внимания.
– Вот здесь я набросал в общих чертах план действий в тот день… самый ближайший, конечно, который мы изберем… Чтобы довести до конца работу многих лет, стоившую много крови и жертв.
– Слушаем, читай, читай!..
– Прошу делать поправки, вносить изменения, когда я кончу. Так будет удобнее обсудить. Пункт первый…
– Как захватить цесаревича и сделать его безопасным для Варшавы и для целой Польши! – совершенно неожиданно прозвучал молодой, нервный голос Мавриция Мох-нацкого.
Высоцкий устремил на него свои ясные, внимательные глаза, нисколько не обижаясь помехе, и, потирая лоб над переносицей, сказал:
– Тут у меня не так. Я полагал начать совсем с другого. Но если пан желает. Вопрос, действительно, важный. Все равно, начнем с этого. Ваше мнение, пан Мавриций?
– Мое мнение – мнение всех решительных людей, ясно понимающих положение, любящих родину, готовых на дело, не на болтовню. Я молчал до этих пор. Теоретические разговоры и предложения мне претят. Но решили взяться за дело, запахло стычкой. Хуже, чем есть, конечно, быть не может… Мы убедились! Так надо начинать с начала, как учит природа. Взял у пчел матку – распадется улей. Стоит на ученье покончить с нашим "старушком" – и его все войска будут так же безвредны для народа, как стадо овец. Такой план был уже раз намечен. Решим же, кто его выполнит? Кто нанесет удар?
– Никто из нас, из военных! – вставая, отрезал Высоцкий. – Чувство воинской чести, наша присяга, привычка долгих лет запрещает нам. Не говоря уже о бесполезной жестокости подобного акта.
– Да, вот как! Если мы, готовясь к перевороту, говорим о долге, если у главного из "друзей" нашей отчизны имеются такие ярые защитники…
– Пан Мавриций, я не защищаю никого. Повторяю только: мундир воина не будет запятнан убийством начальника армии. Разумнее, наконец, обезоружить неожиданно в казармах русских, чем затевать свалку. И его захватить, конечно, надо и обезвредить. Это могут сделать наши. Но не больше. Под надежной стражей он будет безвреден. А мы избегнем картин братоубийственной резни на глазах у всей Варшавы.
– А я так совсем иначе думаю, – вмешался Заливский, перешепнувшись с Островским и делегатом студентов. – Нам, военным, не надо мешаться в некоторые моменты того, что может произойти. Вот товарищи пан Островский, паны Гощиньский, Набеляк говорят, что есть кучка решительной молодежи, студентов и других. Они возьмутся устроить дела с Бельведером, если уж пан избегает схватки на площади, во время парада.
– Я не хочу, чтобы плохо говорили и думали о нас в чужих землях. Днем, на параде, начать свалку – значит вызвать панику в публике, будут даже невинные жертвы… И нас обвинят… А если все устроить с вечера и ночью…
– Да, да, – подхватили голоса более опытных военных. – Так, как мы уж толковали много раз. С вечера лучше… И напасть на местах. Будем знать хотя, где враги, где друзья…
– Так все согласны? Бельведер берут на себя паны, названные подпоручиком? Хорошо. Затем идет Арсенал.
Долго еще обсуждались подробности предстоящего переворота, день которого назначен был на воскресенье, 28 ноября, то есть ровно через неделю…
По одному, по двое, небольшими группами разошлись они затем по домам, утомленные, усталые от вечера, полного напряжения и волнений, как после трудного, долгого пути.
Только пан Адам Гуровский, выйдя раньше других, в одиночку, вскочил на дрожки и покатил к Банковой площади. Здесь он боковым ходом из ворот прошмыгнул к дверям роскошной квартиры Любецкого. Камердинер, очевидно, ждал, сам открыл позднему гостю и проводил его к князю.
Долго, подробно докладывал пан Адам о событиях сегодняшнего вечера, получил дальнейшие инструкции, был удостоен пожатия министерской руки и, довольный не меньше остальных, вернулся в свой чистенький угол на Тлумацкой улице.
Глава II
ГРОЗОВАЯ НОЧЬ
Как это было, – поведаю вам.
Что это было? – не ведаю сам.
Дерзай. Вера спасла тебя.
Евангелие от Луки. VII,50;VIII,48.
Юность – чудо жизни.
В воскресенье 28 ноября Варшава с самого утра казалась необычайно оживленной.
Не только храмы везде были переполнены народом, но густые толпы темнели у папертей, вблизи костелов, на углах улиц, на площадях. И мужчин тут было, против обыкновения, почти столько же, если даже не больше, чем женщин, которые у всех народов отличаются особой набожностью, любовью к посещению храмов, заменяющих им другие места общественных собраний.
И в стенах церковных обычное молитвенно-праздничное настроение людей смешивалось с каким-то иным. Словно ожидали чего-то, к чему-то готовились, более важному и грозному, чем беседа с Божеством. Это настроение особенно ярко проглядывало в уличной толпе, где мужчины держались особняком, а женщины, словно по уговору не сливаясь с ними, только поглядывали тревожно кругом, подымали глаза к нему с мольбой, а порой и со слезами, которые старались сейчас же быстро отереть.
Иногда целый город в предчувствии важных событий зашевелится, как рой пчелиный перед сильной грозой. Так случилось с обитателями польской столицы. Простой люд, ремесленники, купцы, мелкая шляхта и более значительные обыватели, кроме высшей знати, магнатов и вельмож, не то вести получили, не то чутьем узнали, что особенный день сегодня. Большие дела будут твориться в стенах древнего города над прекрасной Вислой-рекой, сейчас обледенелой, лежащей недвижно в снегом занесенных берегах.
Кучки людей, сознавая свою силу в своей многочисленности, громко толкуют на старую, но вечно новую тему о тяжести налогов, о несправедливости в судах, о засилье чужих пришельцев, хозяйничающих в краю вот уж шестнадцать лет подряд… Перемывают косточки и своим властям, и москальскому начальству… Клянут всячески Рожнецкого – "здрайцу", предателя братьев своих – поляков, и его пособников. Вспоминают разные обиды и унижения, нанесенные почти каждому из обывателей столицы и всего края агентами власти. Добираются и до самого "старушка" в Бельведер, поминая все его странности и грубые выходки даже с первыми лицами страны. И все это говорится смело, громко, как будто никто не видит десятки и сотни "личностей", которые осторожно шмыгают взад и вперед в толпе, прислушиваются, запоминают лица, речи, порой перешептываются друг с другом, оглядываясь своими волчьими колючими глазами по сторонам, как будто ожидая удара сзади, в спину.
Но сегодня и эти "личности" как-то осторожнее держат себя, больше обычного маскируются, кроются в тень, не врезаются так развязно и самоуверенно в самую гущу, как делают это всегда. Когда народ начинает чуять свою силу, шпионы теряют ее в соответственном количестве. Это – общественный закон, такой же незыблемый, как закон тяготения или сохранения энергии в мировом кругообороте.
Многие знают, что это за "личности". Другие – угадывают. И взгляды всех как будто говорят:
"Шнырьте, шнырьте, проклятые Иуды-предатели!.. Месите свой хлеб на слезах, на крови братьев своих… Скоро придет ваш день расплаты".
Но кроме этих "личностей" сегодня и другие какие-то загадочные люди, все больше безусая молодежь из простых классов, и хорошо одетые, – тоже переходят от одной кучки к другой, обходят улицы и площади, вмешиваются в толпу, порой обращаясь с речами к ней, порой шепча пару слов главарям, вожакам, неизбежно присущим каждой толпе, каждому людскому сборищу, все равно, созвано ли по чьей-либо воле скопище народное, или случайно скипелись темные, разноцветные, полные движения и говора ряды людей.
Обычным явлением стало за последние полтора-два месяца, что по воскресеньям и по праздникам, когда сильнее кипит уличная жизнь в столице и легче может вспыхнуть неожиданное волнение, – в такие опасные дни усиленные патрули российских войск тянутся и по лучшим, наиболее людным улицам, и там, на окраинах, где среди пустырей и низеньких домишек выбрасывает черные клубы дыма суконная фабрика Френкеля и другие фабрики и заводы, еще немногочисленные пока, но растущие в числе довольно быстро, благодаря стараниям умного министра финансов, изворотливого, загадочного для многих князя Ксаверия Любецкого.
Особенно много народу, особенно часто проезжают патрули и проворнее шныряют "личности" на Марсовом поле, перед Брюллевским дворцом, где ожидается обычное праздничное зрелище: развод войск в присутствии цесаревича. И еще в двух местах не то случайно, не то по уговору скипаются толпы: у Арсенала и перед красивым, обширным зданием на площади Красиньскихг в котором помещается Народный банк, департаменты министерства финансов и квартира самого Любецкого.
На этих трех пунктах также усиленно мелькают юноши, "добрые вестники", как их окрестил кто-то на лету; больше всего это студенты, "паны академики" по-варшавски. Они первые заметили, что у Арсенала, перед банком, у обоих дворцов, везде и всюду, где обычно стоят польские солдаты на карауле, теперь расхаживают часовые из российского войска, похлопывают рукавицами, притоптывают ногами, чтобы согреться среди мглистой, туманной изморози, которая сеется еще с самого рассвета, пронизывая до костей всех и каждого своим влажным холодом, словно дыханием смерти.
– Почуяли!.. Свои караулы вывели, наших убрали, – кидают здесь и там толпе "вестники добрые". – Ничего! И развода нынче не будет, говорят. Ничего! Если не сегодня, так завтра… Мы свое сделаем… Расходитесь, люди добрые, спокойно по домам. Ждите знака… Как сказано: пожары загорятся… Здесь, к Пононзкам ближе… И там, на Сольце… Тогда… Уж знаете сами… Все, как сказано… Лишь бы врасплох поймать друзей…
И чинно, молчаливо начинают расходиться толпы, кидая косые взгляды на встречные патрули, на шныряющих без угомону "личностей", шепча не то молитвы свои привычные, не то обеты возмездия.
К тому времени когда должен был начаться развод, с разных концов площади, среди толпы, медленно, по возможности незаметно человек сорок студентов стали пробираться к знакомому целой Варшаве месту, где постоянно красуется на коне Константин во время излюбленных военных смотров.
Юноши кутались старательно в просторные шинели, что и понятно, судя по погоде. А под шинелью у каждого прилажены пистолеты за поясом, сабля, по старой римской манере висящая на груди, а не сбоку. Многие держали под левой рукой заряженные короткие, сильного боя карабины, уткнув под мышку дуло, прихватив оружие пальцами под курок. Вот уж почти все юноши сошлись, приблизились к заветному месту. Их группа в шинелях, их неподвижные позы, лица суровые, бледные, несмотря на холод, – кидались в глаза ближайшим соседям, даже малонаблюдательной толпе простых людей, темнеющей здесь. Но люди словно не замечают ничего; оглядываются только исподтишка, нет ли близко "личности", которая тоже заметит кое-что и тогда помешает, конечно, чему-то…
Но "личности" заранее уже знали то, о чем "сорок" в шинелях узнали только в самую последнюю минуту от «добрых вестников»:
– Развода цесаревич делать не будет. Он нездоров. Так объявлено. А проще сказать: почуял беду. Успели ему донести, какую вы тут готовите приятную встречу. Вот он и бережется. Ничего! Мы свое возьмем. А пока можно и по домам. Сегодня вечером соберемся на балу, в Биржевом собрании… На Медовой! Там люди плясать будут. И мы повеселимся. Может, в последний раз. Туда от Комитета дадут знать, что надо делать и когда. Не огорчайтесь, товарищи. Что отложено – не потеряно!..
– До вечера… на балу, – не то огорченные, не то довольные, повторяют юноши в шинелях и так же расплываются во все стороны в толпе, как сошлись к назначенному месту…
Грозная тревога, порывистое беспокойство, охватившее целый город с населением в 150 тысяч человек, проникает и сквозь толстые стены, через резные дубовые двери палацев и особняков варшавской знати, обычно стоящей слишком далеко от серого, потливого простонародья и беспечально проживающей в тиши своих роскошно разубранных палат.
Люди положительные, почтенные, редко покидающие свой домашний уют, разве к вечеру, для партии бостона в клубе, либо у такого же вельможного приятеля, – сегодня они с полудня уселись в экипажи, колымаги, кареты, навещают дома, где, как у князей Адама Чарторыского, Любецкого, Замойского или графа Красиньского, можно было узнать городские и "бельведерские" новости раньше других.
О молодежи и говорить нечего. Вестовщики, добровольные глашатаи и любители всякого переворота, больше ради шуму, неразлучного с последним, вроде Стася Ржевусского, молодого Любенского, и другие, не зная устали, мелькали на своих взмыленных верховиках здесь и там, ловили слухи, вести на лету, раздували, украшали их по собственному вкусу и вдохновению: как мячи, перебрасывали дальше, ловили снова и так без конца.
Более серьезные, не чуждые общественной жилки, молодой граф Владислав Замойский, адъютант Константина, те не только узнавали новости, но и обсуждали их со своими приятелями, вступали в разговор и с пожилыми людьми, признанными вождями общества, вроде того же Лю-бецкого или князя Адама, желая разобраться в событиях, отсеять пустое от важного, правду ото лжи.
Любецкий отвечал всем охотно, каждому именно то, что могло понравиться собеседнику, и при этом последний ясно понимал, что князь не говорит ему ни одного искреннего слова, а морочит либо отделывается фразами. Чар-торыский отвечал менее охотно и не всем, но был определеннее и даже сам шел навстречу влиятельным, хотя бы и далеким прежде от него людям, как будто хотел образовать какую-то свою обширную партию для использования грядущих неизбежных событий.
Сумерки раннего вечера сбегались в стенах обширного кабинета, когда князю Адаму доложили о Владиславе Замойском [4]4
Князь Адам Чарторыский занимал «Олейный Палац» на Новом Свете, бывший княгини Анны Сапежанки, теперь – казармы.
[Закрыть].
Князь поднялся и, против обыкновения, встретил юношу чуть ли не на середине кабинета, повел к удобному дивану, стоящему у боковой стены, над которым тянулась темная резная полка со всевозможными курительными приборами и редкой красоты чубуками старого польского образца.
– Желаешь, пан граф, закурить?
– Если сиятельный князь позволит…
– Прошу… весьма прошу!..
Ливрейный пожилой слуга, бесшумно зажигавший канделябры на высоком, черного мрамора камине против дивана и свечи на письменном столе, ловко подал зажженный "фидибус" Замойскому, помог закурить стоящую наготове набитую трубку, поправил экран перед пылающим камином и вышел неслышно, как вошел.
После первых приветственных польских фраз гость задал вопрос по-французски:
– Итак?.. Что скажете, мой князь, насчет сегодняшних новостей? Конечно, вы осведомлены уже обо всем.
– Слышал многое, дорогой граф. Из города только, не из Бельведера. Правда, заезжал этот добряк, полковник Колачковский. Но он, как назло, сегодня там не был. Собирается завтра к княгине Лович. А вы знаете: я лично…
– Да, конечно, князь… Я понимаю. В вашем положении, при ваших чувствах горячего патриота… многое там должно быть не по сердцу! И, наконец, протягивать руку господам вроде Рожнецких, Жандров, Красиньских и tutti quanti… Я понимаю! Но, к сожалению, и мне не довелось сегодня… Не мое дежурство… Только от князя Ксавье пришлось услыхать кое-что…
– Ну, конечно, наш министр финансов, вернее сказать, "первый министр", капитан-баша, он лучше всякого другого знает, что происходит не только в здешних, но и в петербургских дворцах. И он?..
– Князь Ксавье получил подробные сведения… Цесаревич за обедом был очень весел, спокоен. Шутил с принцессой, поддразнивал своего Поля, трунил над Курутой и адъютантами, приглашенными к столу, и заявил, что очень доволен миновавшим днем. "Вот оно, ваше "кровавое" воскресенье… Не только пришло, но и прошло благополучно, без революции, без нападений и резни… Без всяких ужасов, какие нам пророчили!" "Благодаря решительным мерам, принятым вашим высочеством", – заметил Колзаков. "Ну, что за особенные меры? Несколько лишних патрулей? Это бы не удержало никого, заварись каша всерьез! И напрасно я не был на разводе. Лишние сплетни теперь пойдут у кумушек в робронах и в мундирах, черт подери! Все этот проныра и трус Рожнецкий опять сбил меня. И вообще, от страха у него двоится, троится все в глазах. И плутует он при этом. Узнает что-нибудь на два злота, прибавит на пять червонцев, а в награду хотел бы получить дукатов пятьсот, если не больше… И куда он девает деньги? На девочек, в карты проигрывает". Тут скорбный взгляд княгини остановил излияния. Точно повторил вам, князь, все, что было передано князю Ксавье очевидцем.
– Боже мой, Боже мой! Какое гибельное заблуждение. Так всегда бывает, если добрый, но недалекий человек окружен негодяями, – скорбно кивая головой, проговорил взволнованный князь, но сейчас же сдержался и продолжал спокойно, мягко, как всегда: – Так в Бельведере полагают, что "все благополучно прошло", потому что взрыва не было сегодня, когда его ждали, когда о нем говорил целый город, не только донесения тайных агентов господ Рожнецких и Новосильцева… Какое заблуждение… А что событие может произойти совершенно неожиданно, еще нынче ночью, завтра, послезавтра, наконец. Что буря – неотвратима, что ее, действительно, не отклонить лишними патрулями и арестом нескольких безрассудных крикунов. Что опасна целая Варшава, замолкшая, затихшая, но тем более страшная. Что край охвачен огнем и спасут только решительные успокоительные меры, широкие уступки, полное изменение взаимных отношений между народом и властью. Особенно исходящей из стен Бельведера. Этого всего там, как видно, и не чуют? И знать не хотят? Вы затрудняетесь ответить, милый граф. Ну, понятно. Дело ясно и без слов. Что будет, что будет с нашей отчизной?!
– Храни Господь Польшу от всяких бед! Она и так изведала их немало. Я люблю родину, князь, должно быть, так же, как и вы. Хотя, конечно, слишком мало мог ей послужить в сравнении с вами. Но позволю себе спросить вас, князь. Так ли все неотвратимо, как вот мы сейчас полагаем? Есть, конечно, опасные течения, среди военной молодежи преимущественно. Но мы, все правящее сословие, крупные помещики, сановники и люди нашего круга… Неужели мы уж так бессильны, что не сможем остановить движения? Тем более что, по словам князя Ксавье, – оно грозит нам не меньше, если не больше, чем власть россиян. PI если самые влиятельные, лучшие из нашего круга, сильные общественным доверием соединятся с законной властью… Неужели и тогда опасность неотразима? Как вы полагаете, дорогой князь?
– Я вам скажу все, что думаю. Но просил бы раньше сообщить, что думает князь Любецкий о положении вещей? Он, конечно, высказывал вам?
– Как и всем. Мы не особенно близки. Но князь весьма подельчив. Я готов вам сообщить, князь. Помню постоянное ваше участие ко мне и даже содействие в личных, служебных моих делах… И наше родство. Словом, я желал бы выяснить мотивы моей откровенности, моего обращения к вам в данную минуту. И заверить, что мои мнения если и совпадают со взглядами князя Ксавье, то совершенно от них не зависят. А думает или, вернее, высказывает он вот почти то же самое, что и я сейчас сказал.
– Да, да! И что внушено им там, в Бельведере? Вот это-то печальнее всего. Таким путем можно лишь ускорить развязку. Можно, как заклятиями, вызвать таких "гениев Земли", которых уж и не сумеем отогнать без собственной гибели. Вот как я думаю, милый граф. И еще полагаю… Даже наверное скажу… У меня есть на то основания. Мне открыто многое, что, пожалуй, и вам известно… И о военном союзе, и обо всем другом… Что должен знать и князь Ксавье. Только мы различно оцениваем то, что узнали. События покажут, кто из нас прав. И это будет очень скоро. А надо бы нам потолковать с князем. Может, со мной он заговорил бы несколько иначе, чем с другими.
– Наверное даже, дорогой князь! Я и начал с того, что не слишком доверяю искренности нашего министра-дипломата. Но с вами?! И как кстати. Нынче, узнав, что я собираюсь быть у вас, князь Ксавье просил передать, что он сам собирался. Но нездоровье… Он, действительно, второй день не выезжает никуда.
– Его обычай: сидеть у себя и выжидать в решительные моменты. Все равно. Я охотно загляну к нему… Это даже необходимо по некоторым соображениям. Время не терпит! События у ворот.
– Вы так уверены, князь? – с искренней тревогой спросил Замойский.
– Почти! Но не будем волноваться раньше времени, мой юный друг. Я по моим годам, естественно, стал фаталистом. И вам советую заразиться немного этой философией. Удобнее жить, легче мириться с таким вершителем судеб целого народа, как обитатель Бельведера.
– Надо сознаться, удивительный человек, словно сотканный из противоречий, – живо подхватил Замойский, склонный, подобно всякому юноше, разбираться в поступках и в характере людей, стоящих на вершине власти. – Я вот уж третий год приглядываюсь. И невольно, по служебной близости, знаю многое, неизвестное другим. Непостижимый человек! Порой – олицетворение добродушия. Внимателен к последнему из окружающих. Трогательно деликатен. Нам, полякам, оказывает гораздо больше внимания, чем своим россиянам. Брату-царю говорит и пишет о нас все лучшее, превозносит Польшу до небес. Громко заявляет: "Лучше пускай они останутся у нас и с нами хорошими поляками, чем плохими русскими, ненавидящими своих угнетателей-братьев…" Тех же русских, особенно придворную и военную знать, часто называет "народом убийц"… Никак не может забыть смерти отца своего, несчастного Павла… А сам порой поступает по его примерам, даже хуже. Нестерпимые оскорбления, кидаемые заслуженным людям, часто перед фронтом, перед всей Варшавой. Мучительная муштровка, суровые взыскания, незаслуженные кары. Мы с вами знаем, князь, что цесаревич не раз хлопотал у брата. Настаивал на необходимости слить Литву, Подолию и Волынь с целой Польшей. А здесь – сажает в тюрьму людей, которые хотят того же. И эта ужасная полицейская система! Шпионство, сыск… Нарушение конституционных обещаний… Глядишь, и руки опускаются… И начинаешь если не сочувствовать, то понимать тех, о ком мы говорили сейчас. И взрыв, которого, в сущности, должно опасаться, не желать, кажется не только неизбежным механически, но и необходимым, благотворным, как… как… – Замойский остановился, подыскивая выражение.
– Как протест народной души, – договорил князь, приходя ему на помощь. – Как вот этот взрыв юной откровенности, которым я очень порадован, верьте мне, милый Владислав. Если бы вы знали этого… несчастного принца тридцати пяти лет, как я его знаю… Вам бы многое стало понятно. Но все-таки я сам готов, не выбрасывая ни йоты, повторить высказанное вами. Только мои холодные выводы будут много печальнее, безотраднее ваших юных надежд, ваших негодующих ожиданий. Не хочу и смущать вас ими.
– А я, дорогой князь и наставник, не стану более утруждать вас. Имею честь. Прошу передать мое уважение княгине.
– Вы разве не пройдете к ней? Она вас любит… Пожалуйста.
Проводив гостя до дверей, князь позвонил.
– Одеваться. И заложить карету! – приказал он вошедшему камердинеру, направляясь в соседнюю с кабинетом уборную свою.
В светлом, просторном кабинете, убранном с казенной, холодной роскошью, сидел князь Ксаверий Любецкий, кутаясь в теплый меховой халат, глубоко уйдя в вольтеровское кресло, придвинутое ближе к огню, весело пылающему в камине, и попыхивал дорогой "Регалией" Уппмана, провожая взором кольца дыма, медленно тающие в воздухе. Моложавый для своих пятидесяти лет, как будто не стареющий ни душой, ни телом, князь и теперь, несмотря на нездоровье, выглядел довольно бодро и свежо. А может быть, легкий жар, окрашивая румянцем щеки, отражаясь лихорадочным блеском в умных глазах князя, производил обманчивое впечатление живости и подъема сил.
Против него, по другую сторону камина, грузно темнеет в кресле большая, начинающая жиреть фигура сенатора, графа Людвига Платера.
Сильный, неугомонный, порывистый, как и в годы далекой юности, пан сенатор сжимает левой рукой длиннейший чубук позабытой им, давно погасшей трубки, а правой сильно и часто взмахивает в лад отрывистой, звучной, решительной речи своей:
– Не-е-е, князюшка, не-е-е, сердце мое любое, тут фигли-мигли, дипломатия всякая не поможет! Прямо карточки на стол. Раз, два! Левая, правая. Ва-банк! И – кому счастье? Отвильнуть нельзя. Да, да! Не нынче, так завтра те самые голодранцы, над которыми ты потешаешься сейчас, войдут и спросят: за кого ты? За москалей либо за Польшу? За Бельведерчик либо за нашу независимость и святую отчизну? А ну-ка, что тогда скажешь, сердце мое?








