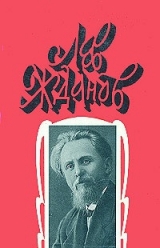
Текст книги "Осажденная Варшава"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
– Подкуплены нашей партией?..
– Есть и такие. Только немного. Где же закупить всю эту свору шпиков и доносчиков? Их на службе постоянных считается больше четырех тысяч негодяев, а сколько еще добровольных предателей?.. Вон у одного Макрота, толкуют, больше ста ищеек под рукой… Нет, всех не купишь, Иуды всех продать тоже не могут, хоть бы и хотели… Однако совесть есть и у шпиков… Многие работают на два фронта и своим больше дают знать бесплатно, чем чужим за деньги. Но кроме того, Бог помогает нам везде. Например, знаешь генерала Рожнецкого?..
– Жандарма, прохвоста и прихвостня бельведерского?.. Кто его не знает? Пусть придет день возмездия, первая веревка, самая высокая виселица, уже назначена для него и для Любовицкого… Их пара – пятак!
– Так удивляйся. Этот самый "голубой" архангел Константина оказал огромную услугу для святого дела… Удивляешься? Глаза раскрыл широко? Да, да… Помог нам, как никто…
– Послушай, не морочь меня, Цезя…
– И не думаю. Потерпи, сейчас все поймешь… Сыскная часть у генерала поставлена хорошо, говорить нечего… И если бы не агенты, преданные нам, которые его морочат, а каждый его шаг выдают патриотам, плохо бы пришлось всем кружкам и планам… Особенно теперь, в эти последние дни… Да нечистый попутал гадину… Проворовался он там у себя в штабе, в своей казне… Дело вскрылось… Если бы не "заслуги" негодяя по предательству, выгнали бы немедля голубчика… Да "старушек" решил сквозь пальцы смотреть на растрату… А Рожнецкий дрожит за свою шкуру все-таки… Как-нибудь отличиться задумал… И устроил заговор.
– Рожнецкий… против кого?..
– Против Константина! Провокация, конечно… Пустил двух-трех своих агентов… Те нескольких дураков втянули в дело… Серьезная публика на удочку не пошла. Нашим все раньше открыли… Они постарались только получше узел завязать, больше швали впутать в "список Рожнецкого".
– Ловко!
– Настал день, Иуда шасть к "старушку": так и так… Опасный заговор. Готовы склады оружия… Покушение на вашу особу… Захват Варшавы… И прочее, прочее… Расписал, как по нотам. Дал ему Константин предписание. Пошли аресты. Начался сыск, следствие, допросы… Конечно, яснее дня оказалось, что весь заговор вышел из канцелярии самой "охранки"… Вместо патриотов и заговорщиков оказались переодетые шпики и подонки города… И досталось же "голубому" архангелу!.. Он даже два дня с подвязанной щекой должен был являться… И даже музыкой не занимался, как всегда. С тех пор, если и самые верные сведения приносит Иуда, ему больше нет веры… А он был нам всех опасней…
– Браво!.. Завтра же открываю национальную подписку на почетный пеньковый галстук для душки Рожнецкого… И всю виселицу его мы уберем чертополохом… Виноват!..
– Тише, безумец… Ты обращаешь на себя внимание… Да еще ео стороны таких хорошеньких мордочек, что я, пожалуй, не доведу тебя до заседания и ты застрянешь где-нибудь по дороге…
– Нет, не бойся… Ну, дальше, дальше…
– Дальше все так и покатилось, словно с горы… Удержу нет!.. Даже уж было день назначили для восстания. Восемнадцатое октября… И все было готово.
– Как? Месяц тому назад?.. Так почему же…
– Люди отговорили, умные люди… Наш Петрусь и сам осторожен… Он – вроде меня… Слишком хочет удачи и потому боится за все, обсуждает каждую малость… И вот почти в последние часы послали делегатов посоветоваться с такими людьми, как пан Баржиковский, граф Островский, Владислав, граф Густав Малаховский, оба Немоевские… И еще с иными… И в один голос все на собрании решили: ждать, пока русское войско пойдет в поход… А там, глядя по обстоятельствам, приступить к делу…
– Ну, это известная компания. Им жить хорошо, сравнительно… Да и прием их мы знаем: потихоньку да полегоньку… Чтобы без особых неприятностей!.. Им бы хотелось и яичек не побить, и яичницы покушать. Известные тихоходы. А если дышать трудно, если земля под ногами горит?! Если…
– Вот им так и говорили… А они в ответ: "Чем вернее нанести удар, тем скорее наступит настоящее облегчение и для каждого отдельно, и для нашей отчизны!" Даже Зверковский, пан депутат, и Тржциньский с графом Малаховским об этом же толкуют.
– Как? Те самые, кто год тому назад, с Винцентием Смагловским затевали "майский заговор"? Хотели в день коронации захватить здесь разом Николая, Константина, всю семью! И они?!
– Да, вот именно. Люди поумнели за год. А "майский заговор", по-моему, был с сильным душком провокации. Кружок Петруся только народился… Не было военной широкой организации… не было сил. Польша была в летаргии. Европа содрогнулась бы только, а не пришла на помощь кучке безумцев. Нет, с той поры все поумнели, говорю тебе. И хвала Пану Иисусу! Так октябрьский срок и отменили. Тем более что очень важный вопрос оставался еще открытым. Кто будет у нас…
– Вождем?
– Скорее вождями. Гетмана для войск уже наметили давно. Булаву получит, конечно…
– Наш Хлопицкий?
– К сожалению, так.
– Цезя, что ты говоришь! Как ты можешь!
– Успокойся… Позволь мне высказать, что я думаю, а не то, что ты чувствуешь. Дай докончить…
– Ну, говори, я послушаю. Только все же выражайся полегче. Мне больно слышать, что о нем…
– Выражаются непочтительно. А каково мне было пережить, когда я пришел к убеждению, что мой кумир, герой и надежда всей Польши, за которого я, как и другие дети, молился еще ребенком, когда просил у Бога возрождения для родины, что этот человек совсем не то желает, чего желает наш народ. И это бы еще не беда… Если бы он, храбрый генерал Хлопицкий, сподвижник Бонапарта, не был простым, ограниченным, нестерпимо узким человеком… Да, да. Это верно! Я за последнее время имел случай сталкиваться с ним. Он не верит, не надеется на силы и разум польского народа. И все спасение наше видит в союзе с Россией! Вот в чем грех вождя, заранее избранного народом! Вот в чем гибель дела, если даже Господь пошлет нам полную удачу.
– Цезя, Цезя! Да нет… Да ты!..
– Я не ошибаюсь. Знаешь, ума большого у меня нет. Характера тоже. Задумать большое, выполнить я не умею… Но понять чужой ум и душу могу порой с одного взгляда… Это у меня от природы. Я часто проверял себя… А тут я всматривался, еще и еще раз старался проверить свои соображения, свои выводы, свои ощущения… И говорю тебе – Хлопицкий будет вождем… даже против своей воли, как он явно выражает… Но это же погубит нас!.. Не его предательство, а его преданность родине, узкая, тупая, ограниченная одним ложным выводом, сделанным когда-то и раз навсегда. Он видел блеск гениального вождя, толкающего людей на великие дела. Знает, что Польша сама губила себя разладом. И он ослеплен блеском цезаря Бонапарта, сам мечтает быть таким же. Он любит Польшу, желает ей счастья, но по своему образцу… Он презирает и народ, и магнатов. Только за военными рядами признает некоторую осязательную силу и значение. А ты же знаешь, Фредя, можно ли теперь презирать народ, если он и хлопы по нашим диким селам и деревням зашевелились. С другой стороны, пусть испорчены магнаты и шляхта. Но в них заговорили святые чувства: любовь к родине, жажда свободы, негодование против гнета. Надо ловить эти минуты, сближать всех между собой, разжигать светлую искру… И понемногу разгорится огромный, небесный пламень… А Хлопицкий всех обдаст презрением, покажет свой кулак и скажет: "Слушайте меня!" Увидишь, так и будет. А что выйдет из того? Сам понимаешь, Фредя… Он уверен, что старая зараза зависти, раздоров неискоренима из души нашего народа. И он вызовет ее наружу. Я вижу это… Я этого боюсь…
– Иезус-Мария! Да может ли быть? Ты, правда, умеешь понять людей. Но он же не один. Есть другие. Они могут… Неужели они не способны ни на что, кроме короткого, искреннего порыва? Даже лучшие из всех. Я говорю о первых людях Польши, о Радзивиллах, Чарторыских, Пацах, Замойских… Говорю о генералах, не продавших еще себя до конца бельведерским жильцам. Большинство из них разделяет искренне убеждения Хлопицкого… Вернее, он от них набрался своих взглядов, как это свойственно ограниченному, властолюбивому человеку. Хлопицкий не глуп. Он только ограничен, узок. Одна идея может еще вместиться в его львиной голове. Но явится вторая – и ей там тесно… Ее гонят, чтобы избежать разлада в уме и в душе… А если ты сейчас подумал о молодежи или о тех депутатах последнего Сейма, которые не покрыли себя стыдом за безличность? Немоевские, Малаховский, Ледуховский, даже Зверковский. Мы уже говорили. Все поумнели и стали осторожны не в меру. Да не ради общего дела, а в страхе за собственную шкуру… И то сказать: пятнадцать лет жизни под угрозой ежеминутной возможности попасть в тюрьму и очутиться в Сибири. Эта марка кого угодно остепенит. Молодежь, конечно, на все готова, как я, как ты… как тысячи нас! Но за нами народ не пойдет, нам и войско не поверит. Нужны имена, люди, которые стоят высоко над другими… Такова уж наша польская натура. Мы и революцию можем делать только по старине, с магнатами во главе, с ксендзом и крестом сбоку… "Старая Польша" и "новую жизнь" умеет лишь начинать по-старому. А юная, молодая Польша? Та еще слаба. Страдания ее велики. Духом она могуча. А кучка нас небольшая. От хлопов, от народа мы оторваны. Да и что мы скажем народу? Поверит ли он, что мы любим его, когда до сих пор живем его трудами, хлопским потом и кровью? И жить иначе не умеем. Мы, молодые, сильные… А уж о наших отцах и говорить нечего.
– Да, правда, вот это правда, Цезя. И я думал не раз… Большой грех отцов наших и дедов лежит у нас на плечах. И как это поправить, даже исхода не видно… Надо бы разом волю дать всем, как во Франции, в Англии. Но там вся жизнь иначе. Надо бы научить темный люд. Да есть ли время теперь? Надо бы…
– Многое надо бы… А тут уж приспела пора браться за оружие. Больше ждать никто не может! Вот почему, Фредя, и повторяю: боюсь я за отчизну… Хотя самые светлые предсказания выпадают перед нами в минуту начала борьбы. И я, хотя иначе, чем пан будущий гетман Хлопицкий, готов сказать: начнем борьбу и победим… но будем побеждены сами собой.
– Оставь, молчи. Не говори так, Цезя. Мне страшно становится. И наконец, не забывай еще: как нас била судьба! А не сгибла Польша. И народ весь, как отдельные люди, умнеет от прежних уроков и неудач. Ты верно сказал: нарождается молодая Польша. И среди мелкой шляхты, и между ксендзами, в мещанстве, даже у хлопов я встречал людей, которые меня понимали, которым я охотно мог протянуть руку. А мы, а сотни из высшего шляхетства, отвергающие личную выгоду? Готовое на тяжелые личные жертвы ради отчизны и всего народа? Неужели все так и пройдет бесследно? Если нас нынче мало… Будут другие дни! Только надо не унывать, идти упорно к своей цели… И мы, нынче задавленные, побежденные, будем победителями. Не на час, а надолго. На многие годы, пока будет жить Польша. А я верю, она вечно будет жить. Иначе и не явилась бы среди народов такой сильной, яркой, смелой и безрассудной. Безрассудство – не грех. Это временная болезнь народа, как бывает у людей тяжкая хворь. Но мы излечимся сами и излечим наш народ от нее. И он будет равный между равными, а не раб у своих сородичей. Так я верю, так я думаю, Цезя. Так подыми же голову! Не тоскуй сам, не печаль, не обескураживай меня, провинциала, мой мудрый братец!
– По вере твоей дастся тебе, Фред. Где мне обескуражить тебя? Слушаю твои фантазии, и светлее стало на душе… Хотя тут же сам смеюсь своему легковерию… Ну, довольно. Мы уж пришли. Теперь ты приблизительно знаешь все, что у нас творится.
– Да, почти… А главное, вижу, что и как мне надо будет говорить по делу. Мы правда пришли…
В старинных стенах обширного Варшавского университета отведено особое помещение для многолетнего Королевского общества друзей науки, разрешенного всеми властями столицы.
Главными членами и заправилами Общества были профессора, лекторы, которых насчитывалось до пятидесяти, затем ученые профессионалы, проживающие в Варшаве, соискатели степеней и магистранты различных факультетов, частные лица, посвятившие себя каким-либо изысканиям, и члены-корреспонденты за границей.
Кроме закрытых заседаний и бесед, посещаемых исключительно членами Общества, оно устраивало иногда публичные заседания и лекции по разным вопросам научного характера, популярным почему-либо в данную минуту. Для этого Общество пользовалось одной из аудиторий, свободных обычно по вечерам.
Такое именно большое, публичное собрание назначено было Обществом друзей науки на воскресенье вечером 21 ноября, когда оба кузена – Цезарь и Фердинанд Платеры – вошли в освещенный подъезд университетского здания вместе с другой, полупосвященной публикой, спешившей послушать лекцию профессора-историка Лелевеля на тему "Рим-Республика, Рим-Империя".
Граф Цезарь, хорошо знакомый с помещением, прямо из обширной передней вместе с кузеном двинулся не в аудиторию за другими, а в боковые переходы и коридоры, ведущие в библиотеку того же Общества. Здесь одновременно с показным заседанием и лекцией, объявленной открыто, назначено было тайное заседание обширного кружка "Друзей Польши", служившего как бы наследником "Народного союза вольных каменщиков", основанного Маевским, Лукасиньским и компанией в расцвете масонских общин, когда сам Александр I не пренебрегал званием масона и русские власти у себя и в Польше делали всякие поблажки этим "просветительным" организациям.
Но времена переменились. Лукасиньский сидел в цепях, в темной келье особой, одиночной тюрьмы, недалеко от казарм российских полков Константина. Сотоварищи Лукасиньского – кто покончил с собой, не вынося пыток неволи, кто зяб и голодал в изгнании в Сибири…
Всякие просветительные союзы, даже невинного свойства, искоренялись, должны были уйти во тьму и подполье. А уж кружкам, носящим характер заговора, и подавно следовало прятаться как можно лучше. Шпионами наводнился не только город, но вся страна. Частные дома, театры, рестораны кишели соглядатаями. Одни костелы и университет относительно были еще ограждены от слишком явного вторжения шпионских элементов.
Святость храмов обезоруживала, казалось, и шпиков, которые, невзирая на всю грязь своего ремесла, оставались добрыми католиками и старались не навлекать неприятностей ни на костелы, ни на служителей святой католической церкви. И ксендзы, принимающие очень деятельное участие в политических движениях страны издавна, тем не менее оставались почти невредимы, конечно, за редкими исключениями. И среди доносителей, и среди польских следователей и судей находились "атеисты"-вольнодумцы, не щадившие сутаны и предававшие кое-кого из агитаторов-ксендзов.
Но это случалось очень редко.
А в университете сотоварищество еще было довольно сильно. Все почти знали друг друга, знали и "шпиков москальских" из числа студентов, вроде Макрота, и из служащего персонала. Поэтому здесь сыск был почти безвреден для молодежи, не опасен для своих кружков и чужих заговорщиков, которые пользовались порой гостеприимством almae marris для целей, далеких от чистой умозрительной науки.
И сейчас главари обширного заговора нашли удобным собраться под шумок лекции в просторном покое, где помещалась богатая библиотека Общества друзей науки.
Кузены остановились у двери, на которой прибита была доска с четкой надписью: "Королевское общество друзей науки. Канцелярия".
Они постучали и вошли в небольшой покой с полусводами, из которого раскрытая дверь вела в просторную библиотеку.
У стола против дверей сидел юный подхорунжий и проглядывал список лиц на листе бумаги, лежащем перед ним.
– Здравствуй, Платер. Ты на закрытое заседание? – обратился он к графу Цезарю. – Я тебя запишу.
– Вечер добрый. Пришел, как видишь. И не один…
– А пан… пан тоже? – вопросительно обратился юнец к Фердинанду и особенно пристально оглядел брелоки часов, которыми играл тот.
– Граф Фердинанд Платер с Литвы. Кузен графа Цезаря. Прошу записать и меня. Или я сам…
Медленно положив руку на стол, Фердинанд выставил палец с простым серебряным кольцом, где на эмалевом щитке амарантового цвета стояли две темные буквы, сплетенные между собой: P.P. (PrzyjacСt Polskiok).
– Литва, Польша и воля, – негромко добавил Фердинанд, протягивая руку к перу.
– Пусть пан граф не беспокоит себя. Я запишу сам, как водится, графа, – видимо, совершенно успокоенный паролем и кольцом новопришедшего, любезно заговорил подхорунжий. – Собственно, достаточно и того, что пан пришел со своим кузеном. Но пароль и знак мне приказано все-таки спрашивать. А я вижу у пана и масонский знак литовской ложи. Какой красивый… Лучше наших…
И юноша-заговорщик, отметив на листе имя Фердинанда, стал разглядывать золотой массивный жетон в виде равнобедренного треугольника. С одной стороны на нем была изображена недостроенная арка, у подножия которой лежал сфинкс, а с другой – пятиугольная звезда Соломона и две буквы внутри ее: G.L. Раскрытый циркуль своими острыми концами примыкал к нижним углам массивного треугольника, образуя второй, равный первому, треугольник, только пустой внутри.
Пока наивный офицерик разглядывал символическую безделушку, граф Цезарь пробежал глазами фамилии на листе.
– С нами – сотня… Ого! Дело растет по минутам. Тут же ж только делегаты и главари! Да все какие имена. Уминьский пришел, и Прондзиньский… И наших двое еще, гляди, Фредя, Венця Непокойчицкий и Залесский, Кон-стан. Пойдем скорее, Фредя, пока не началось заседание. Потолкуем кое с кем…
Бесконечно длинный, покрытый сукном стол в библиотеке, обычно заваленный газетами, журналами и новыми изданиями, присылаемыми со всех концов Европы, – теперь был пуст, сдвинут ближе к одной стене и на нем белели только листки бумаги да разложены были карандаши и очищенные гусиные перья для тех, кто желал бы записать что-нибудь во время заседания.
Секретарь собрания, юноша студент, был уже на своем месте, рядом с пустующим креслом председателя. Многие из присутствующих также заняли места за столом или перед ним, другие сидели в разных концах обширного покоя, курили, негромко беседовали между собой. Иные стояли в амбразурах окон и вели вдвоем, втроем оживленный разговор.
Фердинанд и Цезарь с порога увидели тех, кого желали встретить.
Константин Залесский и Винцентий Непокойчицкий, молодые богатые шляхтичи, лет 27–28, недавно окончившие университет, весело проводя время в привислянской столице, сначала слегка, наравне со всей передовой, горячей молодежью занялись политикой. Но чем шире рос заговор, тем сильнее увлекались агитацией оба приятеля и, наконец, попали в ближайший кружок лиц, окружающих подпоручика Гренадерского полка королевской гвардии, инструктора школы подпрапорщиков Петра Высоцкого, бывшего основателем и душою заговора.
Оба плотные, рослые, с красивыми, литовского склада, овальными лицами и волнистыми волосами, они походили друг на друга, имея нечто общее с Платерами и еще с тремя-четырьмя литовскими шляхтичами, пришедшими на собрание.
Старший, Непокойчицкий, по моде неслужилой литовской шляхты, носил бороду, которая легкими темно-русыми завитками мягко обрамляла его бледное, выразительное лицо.
Залесский брил усы и бороду, которая недавно стала погуще пробиваться, и отпустил лишь бачки-фаворитки, желая походить на европейского дипломата.
Оба стояли в амбразуре дальнего окна, ведя задушевный разговор.
К этой паре присоединились еще два литвина: пан Юзеф Страшевич и видный, упитанный блондин с голубыми ясными глазами и правильным, женственно-нежным лицом, Езекиил Станевич, маршалек (предводитель) дворянства в Россиенском повете. Вся компания увидала кузенов, едва те появились на пороге. Живой разговор оборвался, и приятели издали закивали с улыбкой вошедшим, пока они шли по зале, обмениваясь рукопожатиями и приветами с теми из знакомых, кто стоял на пути.
– Вечер добрый, пане Езекиил, пан Юзеф… Костик, Венцю, и вы оба в "списковые" попали? Вот уж верная поговорка: за компанию жид удавился, ксендз оженился… А наши два кутилки за серьезные дела принялись.
– Но, но, не смейся, пан графчик. Сам тоже рябчик… Посмотрим, кто еще сумеет лучше дело справить, тогда и посмеемся! – полушутя, полуобидчиво возразил Залесский.
– Да ты не обижаться ли вздумал, Венця?.. Так извини. Ты ж меня знаешь… И в твоем успехе я не сомневаюсь. Знаешь, новичкам всегда удача. Но отчего вацпаны так разбились по кучкам? Где Петрусь? Почему не начинается заседание? Мы думали, что уж опоздали… А тут…
– Да вот Высоцкого нет. Ждем, оттого… – отозвался Страшевич, худенький, нервный, полный какого-то неугомонного задора и огня.
– Подождем, поболтаем… Фредя расскажет нам, что нового на Литве у нас… Я уже давно оттуда, – обратился к Фердинанду Станевич. – Зажился у вас в веселой Варшаве… А уже пора к своей хате…
– О, нового немало… Хотя новости все старые… Набор объявлен… Да только теперь литвинов не оставляют у нас, в полках, как раньше было, а назначают в Россию, в московские полки… А нам будут кацапов присылать на пополнение службы… Каково?!
– Да, что ни год, все хуже!.. Прижимки и угрозы без конца… И так – целых тридцать шесть лет!
– Ну, я вам в таком случае расскажу о "рыцарском поступке" нашего властелина… Вацпаны знают светлейшую Витгенштейн, урожденную принцессу Радзивилл…
– Еще бы, эту… известную многим особу… бывшую добрую приятельницу Михаила Павловича…
– А что же, дружба – вещь неплохая… Она помогла принцессе, как сейчас увидите… Принцессе достались по наследству все домены и майонтки Радзивиллов, почти треть Литвы…
– А на этой трети – столько долгов, что если продать половину Литвы, все же не хватит, чтобы уплатить их!.. И лучше будет, если эти земли, которые пустуют, попадут в руки мелкой шляхте да хлеборобам после распродажи…
– Принцесса думает иначе… Оно попросила прежнего друга… Тот похлопотал у брата… И пришел указ: фамильных земель Радзивиллов ни за какие долги нельзя отчуждать и продавать!..
– Что вы говорите?.. Если так, тысячи семей разорятся… Они ссужали последнее… Да и богатые люди, которые верили гербу Радзивиллов, почешут затылки… Сколько новых слез и горя теперь будет?..
– Особенно среди процентщиков – иудеев наших… Они там больше всего запутаны, пане маршалек… Вы же знаете…
– Все одно… Нельзя нарушать справедливость и закон так грубо, так открыто, кто бы при этом ни пострадал – свои или чужие, католики либо жиды… И они тоже люди… Их жмут, они жмут…
– Ну, мало, видно, жали они пана маршалка, что даже их жалеет. А меня только интересует справедливый поступок… И то горе, какое испытают от разорения наши, близкие, а не жиды.
– Конечно, граф Фердинанд думает, как он желает… А я полагаю по-своему… Но все-таки начнем мы заседание сегодня либо нет?..
Такой же почти вопрос, только несколько в другой форме задавала публика, пришедшая на лекцию Лелевеля.
Назначенный час наступил, прошло пять, десять минут после него, а лектор не появлялся на трибуне.
Будь это в театре, давно бы уже послышались крики нетерпения, застучали бы палки, задвигались стулья.
Но здесь собралась своя, особенная публика, хотя и представляющая смесь всех сословий и кругов варшавского общества.
Кроме человек пятнадцати – двадцати из охраны, присланных для наблюдения и доклада, – вся остальная толпа, старые и молодые, аристократы, чиновники, адвокаты и врачи, типографы и наборщики, ремесленники и купцы, их жены и дочери, пришедшие на "лекцию" ученого историка, знали, что они услышат. Были уверены, что тем либо иным способом будут затронуты их самые горячие, затаенные чувства: любовь к несчастной отчизне, сдавленное негодование против гнета, лежащего на народе уже много лет…
Поэтому все сдерживали законное нетерпение и скорее дружелюбно тревожились по поводу запоздания лектора, чем сердились на его неаккуратность.
Публика переговаривалась, сидя в рядах и стоя кучками в аудитории. Иногда внятно всплывали отдельные слова, предположения:
– Болезнь?.. Арест?..
Но более рассудительные успокаивали слишком опасливых:
– Быть ничего подобного не может. Иначе публику давно бы распустили по домам… А то бы даже не дали собраться…
И успокаивались тревожные, но все напряженно ждали…
Странный вид имела эта толпа, наполняющая обширную аудиторию, ожидающая начала запоздалой лекции с таким волнением, с такими чувствами, как бы ждала важнейшего священнодействия, полного таинственного значения и чар, которому неизвестные помехи не дают начаться в должную минуту…
А в это самое время в небольшом покое, через коридор от аудитории, профессор Иоахим Лелевель сидел вдвоем с Петром Высоцким, и так была важна, так захватила обоих беседа, что они забыли, казалось, и самое время, и людей, ожидающих каждого из них.
– Простите, что я перехватываю на дороге пана профессора, – начал Высоцкий, когда Лелевель на просьбу поручика уделить ему несколько минут предложил войти в эту комнату. – Время не терпит… Раньше я не успел видеть вацпана. А откладывать беседы нельзя. Сегодня решительное собрание, вы, конечно, знаете. Дольше тянуть не хватит терпения и сил… Я это чувствую. Надо подготовить самое важное… Простите, я сейчас объяснюсь яснее… Я волнуюсь… и вообще плохой оратор… Но уважаемый профессор поймет…
– Прошу, прошу, пане подпоручик. Говорите, я вас слушаю… У вас там собрание, я слышал… У меня – лекция… Но, конечно, нечто весьма важное вынуждает пана подпоручика…
– О, конечно, пане профессор… Я прежде должен обратиться к пану как к ученому историку, авторитету в науке и мудрому знатоку жизни… Обращаюсь к признанному вождю нашей честной, пылкой молодежи, которая так чтит шановного пана профессора, так верит его словам… Учится у светлого наставника любить отчизну, искать для нее свободы, славы и счастья.
– О, вацпане слишком преувеличивает мои скромные труды и значение у молодежи… Я только исполняю долг человека науки и… честного поляка… не больше…
– Хорошо, пусть так, дорогой профессор. Не стану тревожить скромность пана. Но все же знайте: ожидаемый ответ для меня слишком важен… И не для одного меня, а для многих… Для целых тысяч людей, стоящих рядом со мною.
– Знаю и я, пане подпоручик, что в военных кругах ваше влияние далеко значительнее и важнее, чем мое среди студентов. Я слушаю.
И Лелевель с серьезным лицом внимательно уставился глазами в бледное, взволнованное лицо подпоручика, хотя он был уверен, что знает наперед все, о чем будет речь.
– Вопрос, повторяю, большой… И прежде вам, пане профессор, как делегату Народного Союза, принятому в нашей организации, должен сказать: у нас все готово, и восстание может вспыхнуть каждую минуту!.. Там сейчас в библиотеке соберется до ста человек: делегаты от всех польских частей войска, стоящего в Варшаве и под Варшавой. С провинциальными мы тоже давно столковались… Они ждут знака. Словом, целая армия готова поднять оружие на защиту отчизны, за ее освобождение… За волю и счастье народа… За все то, о чем так хорошо и горячо говорил уважаемый профессор тысячам из молодежи за годы своего служения науке и родине…
– Да?.. Вы уверены, что дело так далеко зашло?..
– Уверен, пане профессор. Когда вместе с почтенным паном профессором от Союза явились к нам делегатами два месяца тому назад депутаты высокого Сейма: высокочтимый граф Владислав Островский и достойнейший пан Ксаверий Бронниковский, – я тогда же почувствовал, что являются именно люди, которых нам не хватало!.. Переворот был назначен на восемнадцатое октября. Но мне понемногу удалось оттянуть, отсрочить на дальше… Я все опасался. Не был уверен, насколько сочувственно широкие круги общества, как вся Польша отнесется к перевороту, выполненному нами, военными людьми. В содействии средних и низших классов мы теперь уверились… А когда и ваш Союз… Когда такие лица, как пан профессор, как граф Владислав и пан Ксаверий!.. Тогда мы совсем воспрянули духом. Но тут еще вопрос. Хорошо ли вы знаете наши цели и замыслы?.. Можно разными путями идти к одной цели и наоборот… Скажите же нам прямо!.. Дайте совет… Если мы решили уничтожить навязанную нам конституцию, хотим сбросить с себя чужую опеку, желаем видеть Польшу единой и свободной, – стоит ли для того рисковать очень многим?.. Я не говорю о собственной жизни… Но польется, конечно, потоками своя и чужая кровь… Может быть… Нет, наверное даже вспыхнет война…
– Война?.. с Россией! Пан думает?! – вырвалось тревожно у Лелевеля. Но тут же, быстро подавляя невольное проявление страха, он, раздумчиво покачивая своей большой, тяжелой, по телу, головой, добавил, словно видя перед собой неизбежное: – А, пожалуй, пан прав: войны не миновать!..
И вздохнул не то с унылой тоскою, не то с решимостью…
– Да, да, войны не миновать, пане профессор! Но мы – победим!.. Если народ пойдет за нами, за войском… Если шляхта и магнаты будут такими же горячими патриотами на деле, каковы они на словах… А я верю, что так и будет… Но, дорогой профессор, самая горячая вера доступна минутам колебания, сомнения… Так скажи, решай, пан: есть ли надежда, что народ пойдет с нами?.. Что его лучшие вожди… и пан профессор, и другие, – окружат знамя свободы и борьбы, поднятое нами!..
Высоцкий умолк, выжидая ответа. Лелевель тоже молчал, погруженный в думы, словно стараясь проверить их и себя раньше, чем дать прямой ответ на такой жгучий вопрос.
Дать прямой, немедленный ответ особенно трудно было ученому профессору, вождю молодежи, убежденному революционеру в речах и в мыслях, потому что дело касалось не звуков, не речей, не отвлеченных представлений и понятий, – а жгучей насущной действительности… Оценить достоинства и промахи любой революции прошлых и настоящих времен – это одно. А когда придут и спросят: "Начинать ли грозный переворот во имя высшей Справедливости? Примешь ли ты сам, ученый теоретик и проповедник народоправства, участие в народном движении, в кровавой свалке?" Дать здесь прямой ответ было бы тяжелой задачей и для человека с более ярким, решительным характером, чем у профессора, республиканца в душе, отважного в мыслях и крайне робкого в житейских отношениях и делах.
Профессор понимал, что ответить отрицательно нельзя. Это значило бы свести на нет все, о чем он так красиво и горячо говорил своим слушателям уже много лет… За что терпел кару, был выслан из Вильны, преследуем в Варшаве… Что создало ему ореол патриота-мученика за правду и отчизну.
Но сказать прямо: да!.. Толкнуть людей на пролитие своей и чужой крови… И самому как бы обязаться, стать участником переворота?.. Против этого восставал и ясный ум, и мягкое сердце профессора… А ответ дать надо…
Вдруг новое соображение прорезало в его мозгу клубящийся рой смятенных мыслей и неясных впечатлений.
То, что говорит сейчас Высоцкий, в действительности может быть и не совсем так, как оно кажется энтузиасту… Тогда иное дело! Можно найти ответ достаточно приличный, ни к чему не обязывающий и в то же время именно такой, какого ждет собеседник… По существу тоже будет правдив данный ответ… Если верно все, что говорит Высоцкий, тогда двух мнений быть не может… Без колебания придется и ему, и Лелевелю идти за всем народом… Даже против воли!








