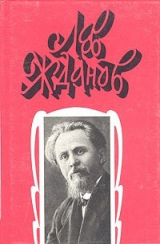
Текст книги "Том 3. Во дни смуты. Былые дни Сибири"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Ого! – вырвалось у Гагарина.
Судя по оценке, шкурки были редкой доброты, потому что цена лучшего соболя или бобра тогда не превышала трех, шести рублей. А деньги по их покупной силе ценились раз в десять выше, чем теперь.
Есаул продолжал перечислять все, что послал будто бы с Клычом к Гагарину, а на деле – продавать китайцу-торгашу.
Кончил Василий длинный перечень, не назвав рубина. Замолчал.
– Все ли, детинушка!? – уже суровей повторил вопрос Гагарин.
Келецкий, подробно записавший товары, помянутые есаулом, тоже теперь глядит на него как-то особенно, с затаенной насмешкой и злобой.
– Все, што тебе, господине, с Клычом было послано…
– А еще не было ль чево, что и дружку не поверил, что и мне послать не удосужился?.. Ну-ка, сказывай!
Явной угрозой уже звучит хриповатый, жирный голос Гагарина.
Замялся Многогрешный. Видит, запираться дольше нельзя. Хоть наполовину, а правду сказать надобно.
– Уж не взыщи… помилуй, государь!.. Ошшо одна штуковина была… Больно занятная, мудреная… Царево достояние… Смекал я долго, как быть… Тебе ли оказать находку али прямо государю представить?.. Да и…
– И?!
– И не посмел держать при себе. Думаю: хворый, помру… Попадет вещь заветная, царская, в руки негожие… И на том свету покою мне не будет!.. Я и послал с ею брата двоюродного прямо к государю, к царю-батюшке… Уж ден с десять, как поехал братан. Гляди, Верхотурье миновал и Ростес, к Соликамску ноне близко… Уж не посетуй, твое светлое сиятельство, на холопа своего неразумного, коли што не так содеяно! Не казни безвинно… Уж каюсь, уж послал!..
– Ой ли… так ли?..
– Хоть помереть тут на месте!.. Ошшо при том и чужие глаза были… На их сошлюся. Приказный один с апонцами к государю ж едет… При ем и послано! Коли не выехал он из Тоболеска, за им пошли, ево опроси… Послано… да разрази меня гром Господен… Да провалиться мне в преисподню, во бездны адовы! И кости штобы мои и родителев из земли были извержены… и…
– Так ли?.. Ой ли, детинушка? – уж зашипел Гагарин, теряя самообладание. – А при тебе нет ли вещи той?.. Да и что за вещь? И не назвал досель…
– Камешек-самоцвет! – торопливо отозвался Василий, бледнея от опасности, которая подступала все ближе и ближе, страшная, неотразимая. – Красный кровавик – самоцвет хинский с ихними знаками. Заклятой, сказывали… Казистый такой… будет с орешек с лесной, с хороший… Я и думал: царю прямо пошлю, не пожалует ли милостью?! И вот…
– Отослал?.. С лесной орешек добрый?.. А не поболе ли!.. А?!
– Может, и поболе малость…
– И отослал? Вверил клад цены безмерной братану?.. Одинокого гонца послал с царским достоянием?.. А!..
– Уж лукавый попутал… Виноват! – бормочет помертвелыми губами есаул.
И чувствует, что от страха, от потери крови, от телесных и душевных мук сознание мутится у него, зеленые и красные огоньки и круги заплясали в глазах.
А Гагарин, словно видит все, тешится мукой жертвы своей и вонзает в нее новые иглы своими вопросами.
– А не облыжно ль толкуешь, парень? Не сохранил ли для себя царев клад?.. А!.. Молчишь… Ну, отвечай, собака! – вдруг прикрикнул князь, и лицо его побагровело, жилы вздулись на лбу.
Холодеет отважный, много испытавший на веку грабитель не столько от грозного окрика, сколько от взгляда этих колючих глаз с покрасневшими от ярости белками, от сдержанной пока ярости, которая наполняет этого властного, толстого, несуразного на вид, человека, имеющего власть над жизнью и смертью миллиона людей, населяющих простор Сибири.
Теперь все равно, правду ли сказать, дальше ли изворачиваться… Только бы отсрочить последнюю страшную минуту обыска, пытки… разлуки с заветным сокровищем и с жизнью, которая еще так манит сильного, нестарого есаула.
– Твоя воля, господине… А я всю правду-истину сказал!.. Твой меч, моя голова с плеч… Весь я тута… Искали, поди, люди твои… Все мое хоботье забрали…
– Искали… забрали… не нашли! Твоя правда, Васенька! – уже совсем ожесточаясь, говорит Гагарин. – Тамо нету… А вот мы еще на тебе пощупаем… А не найдем, так сам, поди, знаешь, для чего тут это все понавешано да понаставлено? Допрос учиним с пристрастием, как водится… Скажешь, собака, куды царское достояние укрыл, коли и на тебе его не окажется!.. А покуда…
Он дал знак Келецкому. Тот пошел отворять двери, звать Нестерова и палачей. Гагарин тоже отошел от стола, стал ходить по узкой комнате, обуреваемый нетерпением и гневом, судорожно сжимая в руке пистолет, взятый безотчетно со стола. Он на мгновение тоже обратился к раскрываемой двери, где первою обозначилась поджарая фигура Нестерова, еще стоящего за порогом, в коридоре.
Выхода не было. Всюду залезет проныра и отыщет самоцвет. А потом – пытка, мучения!.. И неожиданная мысль пронизала мозг Василия. Он вспомнил, как глотал большие стаканы водки одним залпом либо огромные куски хлеба и мяса под голодную руку… И сразу решился… Если сейчас на нем камня не найдут, еще есть возможность отсрочить муку и гибель… Он пообещает указать, где спрятано сокровище… Все потянется… А там, кто знает: товарищи придут на выручку, помогут убежать!..
Самые несбыточные, странные и хаотические мысли, надежды молнией пронеслись в смятенном уме… Обдумывать некогда… Быстро добыл он рукой в волосах под повязкою тряпицу с рубином, достал его судорожным движением пальцев, незаметно поднес ко рту, сделал отчаянное глотательное движение и вдруг, захрипев, посинев, повалился навзничь, царапая скрюченными пальцами своими лицо, губы, шею, вздувшуюся и посинелую. Повязка, сорванная с головы этими судорожными движениями, обнажила еще незатянувшиеся раны, где новая ткань алела, словно пурпурный студень, источая крупные капли и струйки свежей крови из прорванных наново отверстий.
Сначала легко скользнул по пищеводу тяжелый, холодный самоцвет, но он был слишком тверд и велик. Мгновенная спазма сжала горло… Камень застрял там в глубине, прервав дыхание, и Василий, без того обессиленный ранами и душевной бурей, сразу лишился сознания, багровея и темнея все больше с каждой минутою.
Гагарин и Келецкий кинулись к нему при первом хрипе и сразу поняли, что тут случилось. А Нестеров, оставленный на пороге, вытянул по-щучьи свою голову и впился глазами во все, что происходило перед ним на другом конце мрачного застенка.
– Зигмунд… смотри… умирает… Помоги ему! – крикнул было Гагарин.
Но Келецкий по-французски негромко и решительно проговорил:
– Молчите!.. Слушайте, что я буду говорить…
Затем обратился к Нестерову, вид которого все объяснил без слов умному ксендзу. Это был опасный свидетель, и его следовало сбить с толку.
– Ты цо ж там стоишь? Сюды иди. Поможи мне…
Нестеров так и подлетел к скамье, на которой есаул лежал, вытянувшись и вздрагивая в последней агонии, пока Келецкий трогал его пульс, слушал затихающие удары сердца. Затем почтительно стал объяснять Гагарину:
– От страху и жаху глова у злодзея не сдержала. Апоплексия, то есть мозговый и в грудях удар!.. Кревь разлилася… Помирать должен тен вор. Надо, жебы споведал его ваш пан поп… Жебы не казали, цо без споведи умар хлоп. Тоже не есть ладно…
– Правда твоя! – сообразив, чего опасается Келецкий, подтвердил Гагарин. – Вот ты, Петрович, сбегай тут рядом к попу… При церкви при ближней… Теперь скоро и заутреню начнут. Пусть идет с дарами. Я, мол, зову!.. Поживее, слышь…
– Лётом лечу! – встрепыхнулся сразу Нестеров, но на полуобороте так и застыл, не выдержав напора своих мыслей, обратился к Келецкому и униженно, и с каким-то затаенным вызовом в одно и то же время:
– А, слышь, пан секретариуш… Нешто при кондрашке так бывает язык прикушен, вон как у Васьки?.. Гляди, ровно бы он задавленный…
И приказный даже ткнул пальцем туда, где на скамье синело лицо есаула и темнел наполовину высунутый наружу язык, разбухший и сжатый судорожно-стиснутыми зубами.
– Так то и есть, ежеле в грудях удар кревный… Духу не стает у человека… От он и делается, як удавленный!..
– А… Глянь, благодетель… Внизу, под кадыком, ровно што выперло у нево… Не глотнул ли часом чево? – не унимался Нестеров, не владея собой, хотя и видел, как не нравится такая назойливость самому Гагарину, как хмурит тот брови и стучит прикладом пистоли по столу.
Вне себя Нестеров. Он догадался сразу, в чем дело. Понял и то, что его провести хотят… Нестерпимо это для злой и жадной души приказного. Так бы он и кинулся на есаула, зубами разгрыз ему горло, вынул то, что там схоронено сейчас, и доказал обоим, что не дурак Нестеров. Но слишком много и так дозволил он себе…
– Гугля в гардле?.. – спокойно на вид поясняет ему Келецкий, делая знаки Гагарину сдержать свой явный гнев и нетерпение. – То часто бывает… Там от сердца жила розервалась… И крев тут стоит в гардле… Но, потшебно за паном попом, же бы не скончался так человек… Идзь, идзь, пан Ян… Я вшистко повем тебе, як повруцишь до дому от попа…
– Да… Али оглох? Часу терять неможно! – топнув ногой, прикрикнул Гагарин. – Иди, зови…
– Мигом! – уже на бегу отозвался Нестеров, и его не стало.
– Что же будет теперь?.. – негромко по-французски обратился Гагарин к своему секретарю и врачу. – Нельзя ли еще?
– Что?.. Достать камень, спасти разбойника, негодяя?.. К чему?.. У вашего сиятельства теперь только руки чище останутся. Сам он покарал себя. Бог к тому привел подлого раба. Идите к себе, отдохните, пока тут его исповедовать станут… Я посторожу. А там, когда надо будет, все сделаем, достанем, уладим на ваших очах! Идите!..
Почтительно, но настойчиво проводил князя из застенка Келецкий, позвал людей, стоящих за дверьми, и велел перенести еще не затихшего есаула в людскую комнату, на половине самого князя.
Туда же явился священник, глухую исповедь дал умирающему и причастил в знак отпущения грехов…
Затем все ушли из покоя, где на конике лежало вытянутое, уже начинающее холодеть тело Василия.
Утро холодное и бледное сквозь занесенное снегом окно глядело на это страшное синее лицо, на распухшую шею трупа… Заперев двери, ведущие в общий коридор, Келецкий вышел через другую дверь в соседнюю комнату, миновал ее и ряд других покоев, занятых Гагариным, снова очутился в длинном внутреннем коридоре и стукнул в дверь Анельци, которая еще крепко спала в такой ранний час.
Обрадовалась «экономка», увидя его, полагая, что на свидание является ее кумир, но тот сухо приказал:
– Старуху, людскую стряпку побуди. Теплой воды надо мертвеца обмыть… Пусть нагреет. А сама принеси мне таз, кувшин с водою и губку в первую людскую, да тихо чтобы все делалось. И не слышал бы в доме никто ничего! Ну!..
Не успел он дойти до своей спальни, служившей и кабинетом, как уже преданная Анельця была одета, разбудила старуху, приказала греть воду, а сама побежала с кувшином и тазом куда указал ей Келецкий.
Оба они сошлись в людской, обращенной теперь в покойницкую.
– Тут лежит один казак… Помер скоропостижно! – предупредил женщину иезуит, чтобы та не испугалась от неожиданности. – Вот он…
Ахнула Анельця, и даже вода пролилась из кувшина, который заплясал в трепещущих руках.
– Ах, Матерь Божия! Удавленник!..
– Ну что тут распускаться!.. Ставь воду, ступай, принеси иголку покрепче и шелку красного или розового… Какой у тебя найдется…
Еле нашла дверь испуганная женщина. А Келецкий обратился к Гагарину, который в соседнем покое выжидал, пока уйдет экономка.
– Входите, ваше сиятельство. Теперь можно…
И, введя Гагарина, продолжал:
– Все готово, ваше сиятельство… Я прикрою только двери… Пожалуйте поближе…
Повернув ключ, Келецкий вернулся к конику, положил рядом на табурет свою ночную рубаху, принесенную им вместе с поношенным костюмом. Потом раскрыл небольшой футляр, оклеенный кожей, в котором оказался набор хирургических инструментов.
Светлый острый скальпель блеснул в руках Келецкого. Грудь и шея совсем были обнажены у трупа, каким казался Василий.
Но он еще был жив. Только летаргическое оцепенение овладело им в тот миг, когда рубин остановился у него в горле, мешая дышать.
Есаул слышал все, что творилось кругом, сознавал, что говорил священник, чувствовал как-то слабо своим охладелым телом прикосновение рук, когда его понесли из застенка в людскую. Слышал он, как все ушли, как снова появился Келецкий, голос которого он узнал, вместе с какой-то женщиной, вскрикнувшей и назвавшей его удавленником. Сквозь полураскрытые веки даже мог различить очертания людей, вошедших в комнату, Василий. И только двинуться, заговорить или хотя бы простонать он не имел сил, как ни хотелось ему этого.
И вдруг еще человек вошел… Тяжелые шаги и голос Гагарина тоже сразу узнал есаул… К нему близко подошли оба. Стоят над ним. Вот что-то светлое сверкнуло в руке у поляка… Эта рука, такая огромная, заслонила последние проблески света, какие проникали в тусклые очи мнимого мертвеца… Что-то надавило на горло под самым кадыком Василию… Обожгло мучительно… Воздух сразу ворвался в широкий прорез горла, в стесненные легкие… И кровь темной струей хлынула навстречу волне воздуха, обагряя пальцы Келецкого, погруженные в разрез, откуда он вынул роковой рубин…
Вместе с кровью и с остатками жизни невнятный крик вырвался из груди у Василия; захлебываясь собственной кровью, он пытался что-то выкрикнуть, вздрогнул несколько раз, вытянулся и затих.
– Он еще жив! – в ужасе прошептал Гагарин, пятясь от Келецкого к дверям.
– Был жив, каналья… Теперь капут!.. А вот и наша находка! – опуская окровавленные пальцы в кувшин, ополоскав там их и рубин, спокойно закончил Келецкий и подал камень Гагарину.
Схватив талисман, все остальное забыл князь. Чудно горели грани огромного самоцвета… А таинственные знаки на одной из них, казалось, дышали темным, пурпурным пламенем еще сильнее, чем весь рубин.
Бледный, охваченный легкой дрожью, любовался Гагарин несколько мгновений камнем, потом, словно против воли, кинул взгляд на залитый кровью труп есаула, поморщился и быстро пошел из людской, на ходу бросив секретарю своему:
– Ну, благодарю за услугу! Не забуду… Устрой тут… А я видеть не могу…
И скрылся за дверьми.
Анельця постучала как раз в это время в другую дверь, куда ушла за иглою и шелком.
– Подожди минутку! – крикнул Келецкий. Взял губку, лежащую в тазу, обмыл кровь с лица и шеи трупа, снял с него рубаху и полосатые порты, в которых был взят Василий, вытер этим лужу крови на конике, на полу, свернул окровавленные вещи и кинул в угол. Затем пошел, впустил Анельцю.
– Иди сюда. Видишь, я пробовал, не оживет ли он… Сделал ему операцию… Ничего не помогло. Зашей рану. А то эти ослы московиты подумают такое, что и беды не оберешься… Зашивай!.. Потом зови старуху. Она не разглядит ничего своими бельмами… Обмойте, оденьте мертвеца… Вот, я свою рубаху принес и платье старое. Рост у нас одинаковый почти… Надо похоронить по-христиански. Хоть и вор был, и схизматик… А все же мертвых надо чтить… Ну, не стой деревом… Делай что сказано… Половчее… Чтобы незаметно было… А я пойду…
И ушел.
Вечностью показались Анельце те мгновенья, пока она десятком-другим стежков зашила края разреза, зияющего на шее трупа… Шатаясь, отошла она потом от коника, опустилась на табурет, стоящий поодаль, зажмурив глаза, в которых так и стояло лицо мертвого, эта страшная рана на шее… Явилась старуха-стряпка. Быстро омыла она труп, одела и уложила на том же конике, с руками, скрещенными на груди.
Бескровный, бледный, словно просветленный, лежал Василий в тонкой рубахе, небольшое жабо которой скрывало шею и зашитый разрез. Поношенное, но господское платье придало совсем иной вид этому разбойнику-головорезу, и он казался воином, павшим на поле чести, а не вором, который случайно только избежал пытки и топора. К вечеру и похоронили его незаметно, тихо.
Но еще перед обедом призвал к себе снова Нестерова Гагарин.
– Одного Господь покарал!.. – сказал он строго, важно приказному. – Еще раз спасибо тебе, что ты старался царское добро разыскать. Не удалось. Что поделать? Может, и вправду самоцвет у тех обоих, что сюды приехали. Или у брата у Васькиного?
– Нету, милостивец, не… – начал было Нестеров, пожелтелый от неудачи своих блестящих планов.
– Молчи! – сердито крикнул князь. – Бог ты, что ли, на самом деле, что все ведаешь? Видел: и в бане сам искал, и тут! Не оказалось камня. Будем еще искать. Пока возьми человека четыре, отыщи тех двоих – как ты звал?
– Клыча да Сысойку…
– Вот-вот, сюда их приведи. Потолкуем с ними.
– Светлейший господин, мало четырех. Сысойку брать, роту целую надоть!..
– С ума ты спятил!
– И ни нишеньки, государь мой милостивый!.. И здоров сам аспид, за десятерых. Да акромя тово, он и здеся, в Тобольске, и по всей округе, на сто верст почитай кругом, у всех бродяг да беглых, у всех воров и вольницы кабацкой словно ватажка почитается. Он им много помогает, и советы дает, и выручает в беде!.. Не то, што он к народу кличь кликнет, завидя нас, – сами людишки черные отобьют ево. Не дадут взять, ежели не поведу я роту целую алибо и две!.. С им ухо востро держать надобе.
– Вот он какой! – протянул князь, взглянув на Келецкого. – Добро. Роту с тобою пошлю. А ты уж заодно и никанца того захвати, китайца-торгаша, которому сбывать парни хотели воровское добро. И все, что найдется у вора в дому, все обшарь, сюды неси. Только гляди, чего дорогою не оборонил бы ты. Понял? – погрозил ищейке Гагарин. – Все донеси мне целиком. А я уж сам награжу тебя, по делу глядя. Не обижу. Слышал?
– Ни синь пороха не утаю! Да можно ли?.. Никанец, чай, скажет, все ли я нашарил да принес, што в дому у нево найдем. Привезу и сдам!.. Разрази меня Господь, коли я!.. Вот, на икону Спаса Милосердного присягу даю.
– Ну-ну, ладно, верю. Меня обмануть нельзя. А если увижу, что верный ты слуга, счастье тебя ждет большое! – посулил снова милостиво князь и отпустил Нестерова, приказав Келецкому нарядить роту для поимки обоих друзей покойного есаула.
Китайца, пожилого степенного купца, и Фомку Клыча вечером привел только к Гагарину Нестеров, да целые тюки всякого добра привез на двух подводах, обшарил все жилище китайца сыщик, ничего не просмотрел, ничего не оставил мало-мальски ценного в опустошенных низеньких покоях. Сысойки не нашли. По словам Клыча, он назад, в слободу свою, укатил рано утром еще.
Допрос был короткий. Клыч сознался во всем, указал среди общей груды сокровищ те самоцветы, какие утром продал китайцу. И тот отпереться не мог от покупки запретных, заведомо награбленных товаров.
Имущества лишился торгаш, за лишним барышом, за большой наживой приехавший в холодную Сибирь из своих далеких краев.
Клыча на другой же день с другими еще колодниками прогнали на край света, в далекую Якутскую область, где скоро и след его погиб.
А ларцы Гагарина обогатились грудой чудных самоцветов со сказочным рубином на челе. Любуясь своими богатствами, князь все-таки не испытывал полного удовлетворения.
Тревожила его мысль о батраке салдинского попа, так удачно избежавшем ареста. И еще больше волновала мысль о дочке попа Семена, образ которой не выходил из памяти сластолюбца Гагарина.
Глава IIIОХОТА
Зима быстро установилась на всем просторе Сибири.
Реки стали, окованные морозами; толстый снеговой наст окреп, зимние пути пролегли во все концы, во все углы, куда и заглянуть нельзя летом, не только осенью или весною, в распутицу либо в ростепель.
Снегами, недавними вьюгами наполовину занесены крайние избы богатой Салдинской слободы, по длинной улице наречной сугробы высокие намело. В снегу тонет и усадьба попа Семена, его показной, на городской лад строенный домик со светелкой и кирпичным низком.
Морозная ночь на дворе. Чистое, темное небо усеяно яркими звездами и слабо озаряет тонким серпом убывающей луны.
Все спят в усадьбе отца Семена: усталая челядь, сам он, осушивший чуть не полчетверти зелена вина на сон грядущий… Пофыркивая, дремлют сытые кони в теплых стойлах; коровы в коровнике, лежа, пережевывают свою жвачку во сне… Псы и те забились от холода в снеговые логовища и спят, благо тихо все кругом, ни чужого человека, ни зверя и духом не пахнет, и слухом не слыхать…
Только через сени от черной половины, в небольшой боковушке, в задней комнатке, где зимою живет Агаша, дочь попа, – там не спят сама девушка-красавица и гость ее тайный, батрак Сысойка Задор, как его кличут, а по крещеному имени Сергей Пучин, дальний родич отца Семена.
Лампада, как обычно здесь, горит неугасимо, красноватым сиянием слабо наполняя горницу, озаряя скамьи у стен, табуреты, столик у окна, другой в углу и постель высокую, белоснежную, на которой раскинулась сама Агаша, дав место с краю и гостю своему.
Чуть все спать залегли, прокрался он к ней, как это делает уж больше года, то чаще, то реже, то раз в два месяца, то каждый день подряд… Теперь первые пылкие ласки затихли, горячая кровь успокоена. И полулежит красавица на своих белоснежных подушках, прислонясь головкой к стене, слушает, что говорит ей этот не молодой, не красивый, но такой могучий, огненный, порывистый человек, который чуть ли не в первый день своего появления захватил ее каким-то странным обаянием, вселяя и страх, и непонятную, жгучую истому…
Помнит она его приход… Года три назад это было.
Оборвыш какой-то, бродяга появился в осеннюю пору у них во дворе. Отец на крыльце стоял, смотрел, как недавно купленного жеребца в бричку закладывали, в Тобольск собирался ехать.
Как раз на другой день было рождение Агаши, восемнадцать лет ей исполниться должно было, и отец хотел закупить кое-что для предстоящего семейного праздника, тем более что и гостей они ждали на этот день.
А оборвыш прямо подошел, шапку снял, поклонился, как свой, и по-украински, забытым говором, родной речью попа Семена заговорил:
– Здоровеньки булы, батько Семене! Бог на помочь! Чи приймаете гостей? Титка Дария кланяться наказывала…
И снова отдал поклон.
Вслушивается, вглядывается отец… Вдруг и глаза выпучил.
– Ты!.. Ты как сюды?.. Да разве?..
Не дал договорить отцу бродяга.
– Я, я самый! Сысойко Задор!.. Из вашего села… Из Украины… из-под Киева… Да оттуда уж давно… И в Питербурхе побывал, и на Москве… И здесь побродил, пока не сведал, что вас, батько Семене, тоже Бог в эти края занес. Вот я и пришел…
Ничего не сказал отец, увел в дом бродягу. Сидели долго вдвоем, о чем-то толковали… Потом позвали старого батрака Юхима, который с отцом и матерью из-под Киева сюда приехал, лет двадцать тому назад… Потом батрак вышел с бродягой, к себе его повел, там ему одежду дал получше…
А на другое утро этот бродяга очутился между челядью на поповском дворе. Работает весело, один за пятерых легко справляется, песни такие лихие, чудные поет… И на баб поглядывает своими зоркими, липкими глазами, от взгляда которых словно жаром в голову ударяет, сердце в груди тише бьется и замирает или так колотится, что выскочить готово…
Боялась его сначала красавица. А он словно и не замечал ее. Так года два прошло. Узнала она, что это – дальний родич отца… Был духовным, расстрижен, в солдатах служил, бежал… Из тюрьмы бежал, чуть ли не клеймо каторжное носит на плечах… И теперь решил искать приюта и отдыха у отца Семена… Трезвый – неутомим в труде был Сысойко… Но случалось, что запивал он. И тогда распутнее, бесшабашнее человека не было на много, верст кругом. Драки затевал, один на целую стену парней выходил и разбивал их… Девок силой брал, где ни застанет. Ни одна смазливая баба от него не могла увернуться… И никто по-настоящему не сердился на Сысойку за беспутство и разгул – столько силы и шири, такую незаурядную ясность мыслей даже пьяный проявлял этот загадочный человек…
Года два сторонилась его Агаша, а самое так и тянуло поближе подойти, заглянуть в его глаза, прозрачные и бездонные, в его душу, такую извилистую, на другие души непохожую…
Заметил ли он или просто по своей привычке решил сорвать и это запретное яблочко… Но помнит Агаша жаркий летний день… Она стояла в огороде, у реки, где густо заплетались плети хмеля на тычинах. Обрывая хмель, собирала она легкие пахучие шишечки его в решето. Вдруг зашуршали плети, сквозь которые пробирался кто-то быстро и порывисто.
Сысойко встал перед нею, бледный, напряженный. Ни слова не говоря, обнял ее и стал бешено целовать… Выронила девушка решето, крикнуть хотела.
– Попробуй! – зажимая ей рот, шепнул насильник. – Видишь!
Длинный острый нож, вынутый из-за голенища, сверкнул у него в руке.
– Лучше нишкни! Уж коли я не стерпел… Два года маюсь… И не стерпел! Так лучше не кличь никого! Каждого уложу… и тебя… и себя напоследок… Молчи!
Грозит… А сам так ее целует, что и без угроз умолкла, сомлела, как обожженная молнией, девушка…
А когда опомнилась, он еще в последний раз поцеловал ее и шепнул:
– Уж и как же ты люба мне, кралечка… горлинка моя… Ласточка сизокрылая… жди нынче… приду, как улягутся наши…
Обнял, долгим, жадным поцелуем впился снова в ее пылающие губы, в глаза, сразу окруженные темными кольцами, и исчез быстро, как пришел… А она, оправя свой сарафан, волосы, корсаж, разорванный на груди, села на землю и долго сидела так, ошеломленная, потрясенная, напуганная и счастливая…
Пришел он в ту ночь, как обещал… И потом приходить стал. И не знала девушка, что лучше, за что она больше привязалась к этому дикому человеку. За те взрывы чувственных восторгов, какие переживает она с ним, или за его речи смелые, складные, за те необычайные случаи из его бурной жизни, о которых так красиво и красочно говорит он ей в спокойные часы после жгучих ласк…
Одно только тревожило девушку. Живя близко к природе, к домашним животным и к челяди, которая так же мало стеснялась во всех своих проявлениях, как коровы и быки отца Семена, она знала все последствия сближения своего с мужчиной.
– А што, коли я… понесу от тебя, Сереженька! – спросила она однажды друга, вся рдея. – Знаешь, тогда я от стыда руки на себя наложу… В Тобол-реку кинусь! Видит Бог!
– Дура! – спокойно ответил тот. – Разве ж я попущу! Небось! У меня про вас, девок, снадобье припасено. Всегда при себе есть… Порошочек такой. Видала на ржи таки рожочки черны бывают? Я их сбираю, сушу, натолку и девкам, бабам даю пить, кому нужно… Поняла?.. Только гляди за собой, не пропусти дней-то… А там без заботы живи!..
Поверила Агаша другу, успокоилась, и еще горячее, беззаветнее стали их ласки…
Сейчас тоже, негромко, чтобы не услыхала стряпуха, спящая в кухне, ведет рассказы свои дружок Агафьи, а она затихла и слушает.
– Н-да… немало пришлось изведать мне… Знаешь… как сказывают: кулику на веку – не привыкать куликать!.. И кнутов, и батогов пробовал… Золото сеял, не потом, кровью его поливал… Все пустое, трын трава! Одного забыть не могу… За што и в солдаты попал. Женка была у нас во дворе… Так себе, не больно пригожа, только тихая… И свалялся я с нею… А отец мой – старик, прокурат, тоже зуб на нее наточил… И застал я их однова. Не помню, как и вышло… Ножом по брюху, по белому, по голому полосанул я Марию… Отец и с места двинуться боится: его ли не полосану… А я уж опамятовался, бросая нож, убежал… Ну, стонет баба негромко, жалится: «Ой матушки мои! За што помираю?..» Попа наутро позвали, пособоровали, причастили… К полудням и отошла… A тут и нагрянули, меня пытать стали: «Как да как бабу зарезал?» Суд был… засудили… Я бежал, в солдаты подался… Много потом всего было… И на войне врагов губил, и так народ хрещеный… А той бабенки и по сю пору забыть не могу… Вот ровно вижу ее брюхо белое, распоротое… слышу, как причитает тихо да жалостно: «Мамоньки, за што погубил он меня? Без времени жисти лишил!» И теперя она мне снится порою. Правда, нешто могла она отцу моему супротивничать, батрачка?.. Не ее вина была… А я…
Замолк Задор.
Просто рассказал он этот ужас.
Просто выслушала Агаша. Жаль ей бабу зарезанную. Но не противен, не страшен и тот, кто ее зарезал, кто часто людскою кровью обагрял свои руки, а теперь этими же руками обнимает ее так сильно, гладит ей плечи, лицо, упругую, атласную грудь…
И он не виноват, что убивал… Так выходило, так надо было… по крайней мере, по его словам это видно. А девушка верит словам этого человека, который перед нею ничего не скрывает о себе… Словно бездну черную, страшную, распахивает ей душу свою. Многие там гибель нашли… Но не она, Агаша, должна бояться этой бездны. Перед нею смиряется этот неукротимый человек. И ласки его, дикие, жадные, бурные, все-таки озарены каким-то огнем поклонения и восторга перед красотою тела и души гордой умной девушки.
Он не скрывает своего поклонения.
– Других я только так… словно петух курочек, топчу… А тебя всей душой люблю, моя горлинка! – часто шепчет он ей.
И верит девушка, нельзя не верить ему… И она счастлива… Хотя в то же время чего-то еще ждет ее душа… Сама не знает чего, но именно не хватает чего-то в отношениях Задора…
– Скажи, Сереженька, коли любишь по правде меня, как ты можешь еще и на иных баб да девок зариться?.. Знаю я, слышь… Да и сам ты не таишь…
– А чево мне таить?.. Боюсь я, што ли, тебя ай ково иного? Себя самово – и то не боюся!.. А почему я на девок, на баб такой лютый? Сама суди… Сердечная сухота – одно дело… А телесное озлобление – иное… Ты мне и по сердцу мила… И хочу я быть часто с тобою… Да не во всяку пору оно можно. Я и беру, хто под руки попал… Таков уж норов мой. Себя не перетешешь, как чеку неподхожую. Навек такой отесан, таким и помру… Смолоду у меня на вашу сестру охота неуемная!.. Да сама видала, каков я… Большой да дюжой!.. Работаю за семерых. Тягаться ль с парнями почну – дюжей меня и нету на полста верст кругом. Впятером одново меня не одолеют. Так и бабу мне не одну, десяток надобно их! И вина, и елею вволю!.. Сказывал я тебе, каки дела делывал, как из бурсы из Киевской утек. И бродяжил, и воином был, и требы справлял, попил у тутошних у хрестьян, кои священства не приемлют, и… Да што перебирать! И не вспомнишь тово, што творить-то ли доводилось. Только так скажу: с чертом не тягался да в петле не висел… Хоша и близко тово было… годков шесть тому назад. Как в Астрахани с казачками со тамошними бунт мы затеяли великой…
– Што за бунт, не сказывал ты мне, миленькой… Уж ли и вешать тебя сбиралися?
– Совсем уж было собрались. Да позамешкались. А я не будь глуп, дожидаться не стал… Придушил двоих сторожей, что меня да товарищев стерегли, да и гайда… Так и пропали два столба с перекладиной, што на нашу долю были налажены!
Смеется Задор. А девушка слушает, бледная, даже теперь напуганная при мысли о том, что грозило ее другу сердца!
– Што ж то за бунт был, миленькой?
– Дурацкой! Начали-то по-хорошему. Письма писали в ближние города, по всей Волге. Мол, «за веру поруганную, за брадобритие, за немецкое платье кургузое да за табак решили встать люди православные! Как пришла ноне пора последняя и на троне не царь христианский, а Антихрист ноне, немчинов сын… И удумал он Русь хрещеную на ересь повернуть…» Идолов сам завел и у всех воевод в городу из домов идолов же мы вынимали… поднялись казаки и горожане. Старый клич «Сарынь на кичку!» кликнули. Заперлися мы в кремле. Воевод побили, в в воде потопили… Да промеж себя разлады пошли. Иных закупили, другие так изменили от страху! И прахом дело пошло… А главно дело: царя у нас не было алибо царька бы, хоша какова, самого плохонького. Для закрасу. Тогда бы и другие за нами пошли. Да мы раней не изготовились… Так все и ряхнуло. Старшин наших вешали, четвертовали. Иные, как и я, уйти поспели… А жаль… Затея была басская. По-старому свои круги завести, без бояр, без воевод, без попов-хапунов. Без даней, без пошлины… Одно словом мужицкое царство наладить норовили!.. Сохе молитися, своему брюху есак нести. И боле ни-нишеньки!.. Мироедов: на кол да в воду. Вот басско бы! Потолстели б тогда, отвисли поджары брюха мужицкие, не плоше приказных да боярских, толстенных, уемистых!.. Эх, не задалось! Я и пошел по свету блукать… Года три маялся… А вот теперя: третий год и у батьки твоево пристал.








