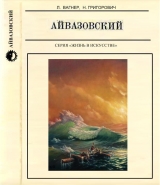
Текст книги "Айвазовский"
Автор книги: Лев Вагнер
Соавторы: Надежда Григорович
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Встреча с поэтом
27 сентября 1836 года в Академии художеств открылась выставка.
На открытие собрался весь Петербург – тот, который привык задавать тон в гостиных и на балах, и истинная слава и гордость столицы: поэты, ученые, музыканты, художники.
Внезапно пронесся легкий шепот. Инспектор Академии художеств Крутов поспешил к открытым дверям. В них показался Пушкин с женой. Поэт раскланивался с многочисленными знакомыми и медленно переходил от полотна к полотну. Крутов сопровождал гостей и вполголоса давал пояснения. Задержался Пушкин у статуй «Парень, играющий в бабки» Пименова и «Парень, играющий в свайку» Логановского.
– Наконец, и скульптура в России становится народною! – воскликнул поэт.
Но особенно долго Пушкин стоял перед картиной Лебедева «Аричча». Он восхищался могучим буком, образовавшим как бы живую арку, из которой открывался вид на круглый храм с куполом на вершине холма, а еще дальше был виден и самый городок Аричча. Все было мощно и звучно в этой картине: буйная южная растительность, крупные красные цветы, горевшие алым пламенем среди ярко-зеленой травы, и самый воздух, горячий, знойный, как бы осязаемый… Художник-северянин славил своей кистью представший перед ним новый яркий мир. Картина Лебедева поразила Пушкина. Даже у Сильвестра Щедрина природа не была такой пламенной, сочной.
– Как жаль, что Лебедева нет в Петербурге…
А из соседних зал уже бежали академисты, прослышавшие о приезде Пушкина.
Крутов вытащил за руку из окружившей их толпы Гайвазовского и подвел к Пушкину:
– Александр Сергеевич, с не меньшим удовольствием, чем Лебедева, представляю вам нашего лучшего ученика Академии Гайвазовского, уроженца воспетой вами Тавриды.
Пушкин крепко пожал руку молодому художнику и попросил его показать свои картины. Гайвазовский был ошеломлен неожиданным свершением своей самой заветной мечты – увидеть Пушкина. Он робко переводил взгляд с поэта на его жену. Наталья Николаевна была в черном бархатном платье и палевой шляпе с большим страусовым пером. Ее красота привлекала всеобщее внимание. Она ласково глядела на юношу, желая ободрить его и вывести из замешательства.
Гайвазовский подвел дорогих гостей к своим картинам. Пушкина особенно восхитили картины «Облака с Ораниенбаумского берега моря» и «Группа чухонцев на берегу Финского залива».
– Поразительно! – воскликнул Пушкин. – Вы южанин и так великолепно передаете краски Севера! Кстати, из какого места Тавриды вы, дорогой Гайвазовский?
Узнав, что Гайвазовский из Феодосии, Пушкин порывисто его обнял. Объятие длилось не более мгновения, но сердце у юноши затрепетало.
– Ах, как я вам признателен, Гайвазовский! Вы разбудили во мне воспоминания о счастливейших днях моей юности. В Феодосии я наблюдал закат солнца, а ночью на корабле, увозившем меня и семейство Раевских в Юрзуф, написал стихотворение «Погасло дневное светило»…
Пушкин задумался. Академисты благоговейно молчали.
Наталья Николаевна, не принимавшая участия в беседе, вдруг легко коснулась руки Пушкина.
Пушкин вздрогнул: «Нам пора…» – и заторопился к выходу.
Гайвазовский и другие молодые художники проводили поэта до подъезда.
На прощание Пушкин крепко сжал руку Гайвазовскому!
– Будете в Феодосии – поклонитесь от меня морю…
Он еще раз оглянулся, улыбнулся, но глаза его были печальны.
Гайвазовский стоял с непокрытой головой и смотрел вслед карете, увозившей поэта. Все давно вернулись в помещение, один Штернберг остался с ним. Они долго молчали. Наконец Штернберг взял под руку Гайвазовского.
– Пойдем. Ты можешь простыть на сырости… Редкое и великое счастье выпало тебе, друг: Пушкин обласкал тебя…
Карл Павлович Брюллов был в великой славе. Его навещали Пушкин, Глинка, Жуковский, Венецианов и многие другие петербургские литераторы, музыканты, художники и артисты. Карл Павлович знал и любил не только живопись. Его глубоко интересовали литература и музыка. Пушкина он боготворил, а с Глинкой, с которым познакомился еще в Италии, дружил и был в восторге от его музыки.
С приездом Брюллова Академия оживилась. Новый профессор учил в натурном классе быть ближе к природе. У Карла Павловича появилось множество учеников.
Брюллов преклонялся перед умением античных мастеров совершенно воплощать человека той эпохи, оставаясь верным натуре; но он отвергал стремление непременно придавать античные черты реальному человеку нового времени.
Ученикам он не уставал повторять:
– Рисуйте антику в античной галерее, это так же необходимо, как соль в пище. В натурном же классе старайтесь передавать живое тело, оно так прекрасно, что умейте только постичь его, да и не вам еще поправлять его; изучайте натуру, которая у вас перед глазами, и старайтесь понять и прочувствовать все ее оттенки и особенности.
Брюллов подолгу занимался с учениками. В Эрмитаже перед картинами великих мастеров он загорался и мог часами говорить о душе искусства и тайнах мастерства. Карл Павлович требовал от молодых художников виртуозности в технике живописи.
– Рисовать надобно уметь прежде, нежели быть художником, – говорил он, – потому что рисунок составляет основу искусства; механизм следует развивать от ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется, и карандаш должен повернуться… Уж некогда будет учиться, когда придет время создавать, – продолжал Брюллов, – не упускайте ни одного дня, не приучая руку к послушанию. Делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с голосом – тогда только можно сделаться вполне художником.
Любил он рассуждения о колорите:
– Не подчините ярких колеров общему тону – и будут они хлестать по глазам, как пестрые лоскутки на дверях у красильщика. Колер в картине силен не от яркости своей, а от согласия и подчинения общему тону. Понимаете? То-то же, помните, а то дай вам краски в руки – вы и обрадовались и станете красить ярче игрушек…
Брюллов начал колебать устои академической жизни. И вскоре у него появились недоброжелатели среди старых профессоров. Но открыто выступать против боялись. Новый профессор был знаменитый художник, его знала вся Европа.
Через несколько дней после открытия осенней художественной выставки Гайвазовский и Штернберг отправились к Брюллову.
У художника были гости. Слуга Лукьян задержал молодых людей в прихожей и пошел доложить Карлу Павловичу о приходе академистов. Через минуту радушный и веселый Брюллов сам вышел в красном парчовом халате.
Среди гостей Брюллова были художник Яков Яненко, известный певец Андрей Лоди, выступавший под фамилией Нестеров, литератор и издатель петербургской «Художественной газеты» Нестор Кукольник. Брюллов в то время писал его портрет, который и сейчас стоял неоконченный на мольберте.
Представив гостям академистов, Карл Павлович продолжил прерванный рассказ о своем друге Сильвестре Щедрине.
Когда Брюллов умолк, Яненко тихо заметил:
– Россия еще не имела подобного пейзажиста…
Брюллов повернулся к Гайвазовскому:
– Я видел ваши картины на выставке и вдруг ощутил на губах соленый вкус моря. Такое со мной случается лишь тогда, когда я гляжу на картины Щедрина. И я начинаю думать, что его место уже недолго будет пустовать…
Лицо Гайвазовского зарделось. Все теперь глядели на него.
Брюллов продолжал, обращаясь к юноше:
– Мне говорили, что вы рождены в Крыму, на берегах Черного моря. Я видел вашу Феодосию, написанную по памяти. Она – как сон детства. Видно, что вы одарены исключительной зрительной памятью. Это важно для истинного художника.
Кукольник, который как раз собирался писать в своей «Художественной газете» о последней выставке, стал внимательно прислушиваться. А когда гости начали расходиться, он нарочито замешкался. Его занимал академист Гайвазовский, вернее – слова Брюллова о нем.
– Так ли надо разуметь, маэстро Карл, – Кукольник любил высокопарные выражения, – что отечественное искусство обрело в юноше Гайвазовском нового гения? В его картинах на выставке одни лишь достоинства?
Последний вопрос был задан неспроста. Кукольнику важно было в статье о выставке блеснуть перед петербургскими знатоками откровениями и пророчествами.
Брюллов ответил, что у Гайвазовского редкое дарование, но что в его картинах есть и недостатки.
– Только я решил о них сегодня не говорить. Время и место для этого еще найдутся. А сейчас, в начале художественного поприща, важнее щедрая похвала другого художника. Пройдет год-два – и Гайвазовский затмит всех маринистов, – закончил разговор Карл Павлович.
Почти всю эту ночь Гайвазовский и Штернберг бродили по спящему городу. Они не замечали осенней непогоды. Юноши говорили о Брюллове, о его картинах, о его жизни, о собственных замыслах и надеждах.
Снова встреча с Пушкиным
В одно из воскресений Гайвазовский шел к Томилову, как вдруг из Летнего сада навстречу ему вышли две знакомые фигуры. Боже, да ведь это Пушкин и Жуковский, увлеченные беседой, шли, не замечая никого вокруг. Пушкин слушал своего друга, не поворачивая к нему головы, и нетерпеливо постукивал тростью.
Гайвазовский посторонился, он даже прижался к чугунной ограде, стараясь остаться незамеченным, лишь бы не помешать беседе двух поэтов. Но Пушкин его заметил и весело окликнул.
– А мы с Василием Андреевичем только что от Брюллова, – приветливо заговорил он. – Карл Павлович жаловался на отвратительную петербургскую зиму и вспоминал юг. Потом он просиял и сказал, что усадит вас, да-да, именно вас, писать по памяти Феодосию в летнюю пору. Полуденное солнце родины Гайвазовского заставит меня забыть зимний холод, – сказал Карл Павлович. Брюллов прав. Надо вам, Гайвазовский, согреть нас, жителей севера, роскошными картинами Тавриды.
Гайвазовский слушал Пушкина, и на душе у него становилось необыкновенно радостно.
– Это вы, Александр Сергеевич, согреваете меня здесь своими стихами о Тавриде. В петербургскую непогодь я без конца повторяю:
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный.
Это в ваших стихах, Александр Сергеевич, слышу я неумолчный голос моря. И тогда мечты уносят меня в город моего детства…
Голос Гайвазовского прерывался от волнения, в глазах его светилась такая любовь, что Пушкин забыл о разговоре с Жуковским, прервавшемся несколько минут назад. Он благодарно сжал руку Гайвазовского.
– А я, мой друг, – вступил в разговор Жуковский, – имею удовольствие порадовать вас – Наталья Николаевна нашла в вас сходство в портретами Александра Сергеевича в молодости. Я также присоединяюсь к ее мнению.
Пушкин вдруг весело рассмеялся и притянул Гайвазовского к себе.
Пошел густой снег. Жуковский увлек Пушкина к остановившемуся рядом экипажу. Уже из экипажа Пушкин протянул Гайвазовскому руку и сказал:
– Непременно приходите к нам. Наталья Николаевна и я будем очень рады…
Снег продолжал падать и вскоре натянул белое покрывало на крыши домов, мостовые, тротуары. Гайвазовский медленно шел, счастливо улыбаясь, и не замечал, что его шинель стала совершенно белой. Снежинки кружились перед глазами, повисали на ресницах, а ему они казались лепестками цветущих черешен в далеком, теплом Крыму.
Смерть поэта
Никогда еще снег не вызывал у Гайвазовского такого ощущения бесприютности. Ветер воет, наметает снежные сугробы. Нестерпимее всего вой ветра здесь, у дома на Мойке, где умирает Пушкин. Стиснутый толпой, Гайвазовский чувствует, что нет спасения от стужи. И шинель не греет, а ноги уже ничего не чувствуют. Внезапно толпа зашевелилась – кто-то громко говорит, что Александру Сергеевичу будто легче стало. Все с надеждою шумно вздыхают, и холод как будто отступает, снег уже не кажется таким зловещим.
Рядом с Гайвазовским старик в поношенном партикулярном платье всхлипнул, забормотал:
– Бери, господи, мою жизнь, и детей моих и близких, только его сохрани, его…
Толпа молча переминается с ноги на ногу, и чудится, что люди прислушиваются к вою ветра. Когда он затихает, им кажется, что Пушкин будет жив. После возникшей надежды еще страшнее каждый новый порыв ветра.
…Двадцать девятого января в два часа сорок пять минут пополудни Пушкин умер…
Гайвазовский с трудом ходил: накануне у дома на Мойке он отморозил ноги. Сегодня Штернберг достал салазки и повез друга через Неву проститься с Пушкиным.
В гостиной, где стоял гроб с телом поэта, было тесно и душно. Бесконечной чередой шли люди. Тут же, у гроба, Аполлон Мокриций – товарищ Гайвазовского и Штернберга по Академии – на листе бумаги делал набросок с мертвого Пушкина.
На другой день Гайвазовский добрался на Мойку один – Штернберг пропал с самого утра. Народу на улицах и возле дома поэта стало еще больше. Всюду разъезжали конные жандармы. На двери, что вела в квартиру Пушкина, кто-то вывел углем: «Пушкин». Через эту дверь народ шел беспрерывно. Гроб пришлось перенести из гостиной в переднюю.
Гайвазовский пришел с альбомом. Но место у гроба было занято. Там рисовал известный художник, профессор Академии Федор Антонович Бруни. В это время из внутренних комнат вышел Жуковский. Он заметил Гайвазовского с альбомом в руках, беспомощно озиравшегося. Василий Андреевич молча взял его за руку и увел в гостиную.
– Посидите, – сказал Жуковский. – Федор Антонович уже давно здесь, он скоро кончит…
Через час Гайвазовский и Жуковский сидели рядом и рисовали Пушкина. В полдень Василий Андреевич повез юношу к себе. В кабинете Жуковского они рассматривали свои рисунки. На рисунке Жуковского лицо Пушкина было спокойное, с выражением неизъяснимой высокой думы.
Жуковский говорил:
– Это не то выражение, которое было у Александра Сергеевича в первую минуту смерти. Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой… Никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли… А теперь черты его изменились…
Гайвазовскому рисунок не удался.
– Как я ни бился, Василий Андреевич, а у меня ничего не вышло… – Гайвазовский зарыдал. – Никак не могу смириться с мыслью, что Александр Сергеевич умер, что никогда уже не увижу блеска его глаз, не услышу его голоса…
Юноша хотел уничтожить рисунок, но Жуковский схватил его руку.
– Не делайте этого… Пусть вас постигла неудача, но что-то от Пушкина в рисунке есть. Я оставлю его у себя.
В тот вечер сам инспектор Академии со своими помощниками проверял каждую спальню. Академисты притворялись спящими. Как только кончился обход, они повскакали с постелей и сгрудились вокруг Мокрицкого, продолжавшего начатый перед этим рассказ.
– Двадцать пятого, за два дня до дуэли, Пушкин с Жуковским навестили Брюллова. Я в это время был у него. Карл Павлович показывал Александру Сергеевичу и Василию Андреевичу свои акварельные рисунки. Показал и недавно оконченный рисунок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», на который нельзя смотреть без смеха. Там изображен смирненский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке; позади него видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок, и болтает босыми ногами, обнаженными выше колеи; эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигурке стража, еще более выделяют полноту и округлость форм спящего полицмейстера… Фигуры очень комические, и Пушкин хохотал до слез… Он никак не мог расстаться с этим рисунком и все просил Карла Павловича подарить ему это сокровище… Но Карл Павлович не мог, он обещал его уже княгине Салтыковой. Тогда – представьте себе только – Пушкин, продолжая умолять Брюллова, стал перед ним на колени и просит: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот». Не отдал Брюллов, обещал нарисовать другой… А сегодня я был у Карла Павловича – на себя не похож, плачет и не может простить себе, что отказал Пушкину в его последней просьбе…
Рассказ Мокрицкого был прерван появлением Штернберга. Товарищи обступили его. Во время инспекторского обхода им удалось скрыть его отсутствие – положили на его постель статую и укрыли с головой.
– Друзья! – Штернберг был в крайнем возбуждении. – В кондитерской Вольфа какой-то человек раздавал стихи на смерть Пушкина. Мне достался список…
Кто-то зажег огарок свечи, и Штернберг стал читать:
Погиб поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Долго в эту ночь не могли уснуть академисты, шепотом повторяя запомнившиеся сразу строки…
А Гайвазовский и Штернберг вовсе не ложились. Они стояли у окна и глядели в петербургскую ночь. На Неве выла вьюга. Под утро, когда забрезжил рассвет, Гайвазовский сказал другу:
– Отныне моей заветной мечтой станет непременно изобразить когда-нибудь Пушкина на берегу Черного моря. Он так любил его, так воспел…
Голос Гайвазовского дрожал…
Гайвазовский радовал и удивлял Карла Павловича. Его советы юноша слушал жадно и тут же применял их. Вскоре Брюллов перестал уже видеть в Гайвазовском ученика. Он начал обращаться с ним как с другом. Все сразу это заметили, кроме самого Гайвазовского. Юноша с прежним благоговением продолжал чтить учителя.
На Карла Павловича все чаще нападали приступы хандры. Началось все с осени 1836 года, когда в Петербург пришла весть из Рима о смерти Ореста Кипренского. Кипренский умер на чужбине, одинокий. А вот теперь погиб Пушкин.
От душевной муки Карл Павлович спасался у Кукольника. От нее же там спасался и Михаил Глинка. Нестор Кукольник любил, когда имена известных людей связывали с ним. Это тешило его тщеславие и привлекало к нему внимание. У себя на квартире, где Кукольник жил с братом Платоном, он устраивал вечера. Глинку и Брюллова братья Кукольники окружали вниманием. Композитор и художник приходили сюда потому, что среди «братии», как называли общество, собиравшееся у Кукольников, встречалось немало оригиналов и талантливых людей, до которых Глинка и Брюллов были большие охотники.
Брюллов начал брать с собой на сборища Гайвазовского. Молодого художника приняли радушно в этой компании. Кукольник напечатал в своей «Художественной газете» статью об осенней художественной выставке. В ней много места было уделено Гайвазовскому. Надо отдать справедливость Кукольнику: он метко и верно судил о картинах Гайвазовского. Статья заканчивалась надеждами на славное будущее юного живописца: «Дай нам господи многие лета, да узрим исполнение наших надежд, которыми не обинуясь делимся с читателями».
Статья наделала много шуму. Имя Гайвазовского, уже известное любителям живописи по прошлогодней выставке и истории с Филиппом Таннером, привлекло теперь всеобщее внимание.
«Братия» приветствовала удачное начинание юного художника. И после того как Брюллов однажды вечером уговорил юношу попотчевать веселое сборище игрой на скрипке, Гайвазовский стал совсем желанным гостем. Только все сожалели, что игру юноши еще не слышал Глинка. После смерти Пушкина композитор избегал общества и уже давно не появлялся здесь.
Как-то вечером в конце зимы «братия» была в полном сборе и шумно веселилась. Нестор Кукольник, высокий и нескладный, в длиннополом халате, стоял посреди комнаты и, протягивая стакан с содовой водой молодому, но уже известному тенору Лоди, упрашивал его спеть.
Лоди, облаченный ради шутовства в простыню, заменявшую ему римскую тогу, взял стакан и выпил до дна. Певец верил в благотворное влияние содовой на его голос и всегда требовал этот напиток. Сидевший на диване рядом с Брюлловым живописец Яненко громко поддерживал Кукольника:
– Арию, арию для друзей!
В это мгновение в комнату вошел Глинка. Композитор был бледен, он очень осунулся, в глазах у него появился тревожный лихорадочный блеск. Все радостно бросились к нему. Нестор Кукольник суетился больше всех, усаживая Глинку на его излюбленное место. При Глинке Лоди перестал капризничать и вместо одной арии спел несколько. Когда Лоди кончил петь, все окружили композитора и упросили его сесть за фортепиано. Впервые после смерти Пушкина Глинка согласился играть на людях. Несколько минут он сидел неподвижно, положив руки на клавиши. А потом начал импровизировать. То была величественная и скорбная песня. Строгая печаль заполнила комнату. Казалось, что сама Россия коленопреклоненно провожает в последний путь самого любимого своего сына. Так в тот вечер Глинка оплакивал Пушкина.
Веселая «братия» притихла. Гайвазовский, взволнованный, глядел на Глинку. От композитора не ускользнул этот взгляд незнакомого ему молодого человека с красивым лицом южанина. Он увидел его сегодня впервые и невольно ответил юноше приветливой улыбкой. Брюллов заметил эту немую сцену, продолжавшуюся всего несколько мгновений. Он встал и, взяв смущенного Гайвазовского за руку, подвел к Глинке:
– Михаил Иванович, рекомендую вашему вниманию талантливого художника и отличного музыканта Ивана Гайвазовского.
Глинка вскочил и протянул обе руки. Имя и картины Гайвазовского ему уже были известны.
– Весьма рад случаю познакомиться с вами…
– Гайвазовский давно собирался спеть нам несколько татарских песен, – заявил сразу очутившийся рядом Нестор Кукольник. – Он только ждал случая исполнить свое обещание в присутствии самого Глинки…
Кукольник принес из соседней комнаты скрипку и подал ее Гайвазовскому. Юноша опустился на ковер недалеко от Глинки. Постепенно все в комнате притихли и приготовились слушать молодого художника. Даже желчный и хмурый врач дирекции санкт-петербургских театров Гейденрейх, постоянно сидевший за шахматной доской, на этот раз изменил своей привычке и занял место на диване. Гайвазовский долго играл. Скрипка звучала то жалобно, то нежно, потом звуки закружились в неистовом вихре веселого танца. Продолжая играть, Гайвазовский запел. Он пел долго и вдохновенно. Мотив одной песни показался Глинке знакомым. Композитор порывисто поднялся, быстро перешел к фортепиано и заиграл, аккомпанируя Гайвазовскому. У Гайвазовского заблестели глаза. Он запел так, что даже у хмурого Гейденрейха морщины на лице разгладились и глаза перестали глядеть исподлобья. Долго длился этот необычный концерт. Одна песня сменяла другую. Когда Гайвазовский закончил и поднялся с ковра, собравшиеся бурно выразили свой восторг.
Михаил Иванович приступил к Гайвазовскому с подробными расспросами, от кого слышал он эти мелодии и какие еще крымские напевы помнит.
– Особенно примечательно в исполненных вами песнях, – ласково говорил Глинка, – то, что в них так причудливо и в то же время натурально сочетаются мелодии, свойственные малороссийским песням, с напевами восточной музыки.
– Мне тоже казалось, что в наших крымских песнях есть много от малороссийских, – горячо подхватил Гайвазовский. – Еще ребенком на базаре в Феодосии я часто слыхивал слепцов-бандуристов, которые поныне заходят в Крым из Малороссии. Мой батюшка, живший до переселения в Феодосию близ Львова и изрядно знающий малороссийский язык, всегда зазывал певцов-бандуристов к нам в дом.
– В бытность мою в Пятигорске, – опять заговорил Глинка, – во время летнего праздника байрама я прожил несколько дней в ауле, там мне довелось услышать подобные напевы, какие сегодня вы оживили в моей памяти. Но что поразительно, друзья мои, и меня особенно удивило, – продолжал Глинка, обращаясь к окружавшим его, – то, что в известной среди черкесов лезгинке есть мелодии малороссийского казачка и шуточной малороссийской песни «Кисель», которую я сам слышал от слепца-бандуриста в селе под Харьковом…
– Как же могли проникнуть малороссийские мелодии в черкесскую лезгинку? – недоумевая, спросил Лоди.
– Мне думается, что эти песни могли проникнуть к кавказцам лет пятьдесят назад, когда императрица Екатерина II переселяла казаков Запорожской Сечи на берега Кубани, – пояснил Глинка. – А малороссы – известные песельники. Вот они и одолжили своих соседей – горцев. Надо отметить, что и некоторые напевы горцев проникли к русским. Так песни сближают наши народы, – закончил Глинка.
Постепенно тесный круг гостей вокруг Глинки и Гайвазовского поредел и разомкнулся. Веселая «братия» села за стол.
Глинка сказал, что не будет пить, он отвел Гайвазовского в сторону и долго с ним разговаривал. Его взволновал рассказ молодого художника о встречах с Пушкиным. Глинке не терпелось подробно расспросить юношу. Но не в этой душной, прокуренной и шумной комнате хотелось продолжить разговор. Наскоро простившись, Глинка вышел, уводя с собой Гайвазовского.
Было уже около полуночи. Ветер, дувший с залива, вздымал из-под ног белые струйки поземки, и его свист смешивался с глухим шумом засыпающего города. Глинка взял Гайвазовского под руку. Так они шли, не думая о том, куда идут, наклонившись вперед и совместно преодолевая яростную силу ветра, то дувшего им в лицо так, что захватывало дыхание, то налетавшего на них сбоку. Гайвазовский продолжал рассказывать о встрече с поэтом незадолго до его смерти.
– Я мечтал когда-нибудь спеть эти крымские песни Пушкину, – сказал, замедлив шаги, Гайвазовский. – Ведь он так любил Крым, так восхитительно его воспел! Какое было бы счастье, если бы он был сейчас среди нас! Когда я сегодня пел, мне казалось, что он войдет в комнату. Мне иногда не верится, что он умер…
Глаза Гайвазовского блестели. Глинка не мог рассмотреть, были ли это слезы или отблеск фонаря, мимо которого они проходили.








