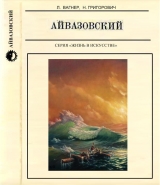
Текст книги "Айвазовский"
Автор книги: Лев Вагнер
Соавторы: Надежда Григорович
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Затмение солнца
В Петербурге много судачили о предстоящем солнечном затмении. Федор Петрович Литке при встрече с Айвазовским заговорил с ним о том же.
– В связи с затмением я вспомнил, Иван Константинович, о вашей картине «Хаос». Насколько мне помнится, ваша заморская слава началась с этой картины на космический сюжет. В Ватикане мне бывать не приходилось, и копий с нее я не видал. Что же вы на ней изобразили?
– Я показал мрачное смешение стихий над пустой, безводной, еще безжизненной землей. Все это озаряет своим светом большая комета. Когда папа Григорий XVI задумал приобрести мой «Хаос» для своей Ватиканской коллекции, ко мне в мастерскую предварительно явилась целая комиссия из кардиналов и прелатов, дабы определить – нет ли в картине чего-либо, противоречащего канонам католической религии. Но я, Федор Петрович, полагаю, что не один лишь «Хаос» относится к изображению космических явлений. Многие мои марины, изображающие морские бури и ураганы, говорят о мощи космических сил и первобытном хаосе…
– Именно поэтому хочу просить вас откликнуться на солнечное затмение. Кому, как не вам, это сделать. А для нашего Географического общества такая картина будет сущий клад.
– Почту за честь, Федор Петрович…
Вечером этого дня Айвазовский остался дома один. Юлия Яковлевна уехала в театр. Никто не мешал подумать о событиях только что минувшего года, о событиях, вдруг припомнившихся после разговора с Литке. «В этом году затмится на непродолжительное время солнце, источник жизни на земле… А в минувшем году навсегда погасли три русских солнца: Гоголь, Жуковский, Брюллов… Год оказался подобен страшному 1837-му, когда погибли Пушкин, Кипренский, Лебедев…». Он вспомнил конец января минувшего года, когда в Петербург стали доходить из Москвы слухи о том, что Гоголь совсем плох здоровьем и ведет себя все более странно. Говорили, что его постоянно видят в церквах распростертым перед иконами, что он раздает знакомым листки с переписанными его рукой молитвами. На церковных папертях он собирал вокруг себя странников и кликуш и произносил перед ними бессвязные покаянные речи…
Сердце Айвазовского сжалось. Он ясно увидел Гоголя дней своей юности – того веселого, милого, неистощимого на шутки собеседника, каким он был в Риме и во Флоренции двенадцать лет назад, – и вдохновенного Гоголя, читавшего главы из «Мертвых душ»… Сколько счастья принесло ему общение с Николаем Васильевичем! Потом, когда он вернулся в Россию, а Гоголь остался за границей, между ними возникла переписка. Но вскоре она заглохла. До него время от времени доходили слухи о болезни Гоголя, о его все усиливающемся мистицизме. Когда вышли «Выбранные места из переписки с друзьями», это его как громом поразило. Он ли, Николай Васильевич, мог написать такое!.. Острое чувство жалости к Гоголю переполняло его. После возвращения Гоголя из-за границы они виделись всего два раза: один раз в Киеве у Данилевского, второй раз в Петербурге у Одоевского. Как он переменился! Осунулся, в волосах появилось много седины, глаза, прежде такие искрометные, потускнели и ввалились… Прежних задушевных бесед не получилось. Воспоминания о прошлом, о счастливых днях в Венеции, во Флоренции, в Риме уже не волновали Гоголя и явно были тягостны ему. А говорить о «Переписке с друзьями» было просто бестактно после письма Белинского… И вот теперь – новые страшные вести о Гоголе, Гоголе агонизирующем, почти совсем задушенном страшной болезнью мистицизма… Айвазовский решил, не медля, ехать в Москву.
…В Страстном монастыре звонили к поздней обедне, когда Айвазовский подъезжал к Никитскому бульвару, где в доме Талызина, у своего друга графа Александра Петровича Толстого, жил Гоголь. Февральская метель намела большие сугробы, лошади выше колен тонули в снегу.
Лакей проводил Айвазовского в гостиную и просил обождать:
– Их сиятельства граф и графиня и господин Гоголь в молельной. Погода сегодня-с невозможная, в церковь не поехали-с, дома молятся. Вы обождите-с, скоро кончат, уже акафист читают-с…
Айвазовский сел на диван. На душе было смутно, тускло, как за окном, где крутились шальные снежные вихри. Издали доносилось монотонное чтение. Временами оно прерывалось тихим пением нескольких голосов.
Гоголь вышел в гостиную. Он даже не удивился и позвал Айвазовского в свою комнату. «Он ли это?! Даже ходит не так, как раньше!» – в ужасе думал Айвазовский, глядя на истощенного до предела, согбенного человека.
Гоголь вяло, явно только ради приличия, спросил гостя о его картинах. Глаза его смотрели подозрительно. На столе не было ничего, кроме Евангелия и житий святых. В углу у образа Николая Мирликийского, которого Гоголь считал своим заступником, теплилась лампада.
– А как «Мертвые души», Николай Васильевич? Когда порадуете нас второй частью? – решился наконец Айвазовский.
Гоголь взглянул еще острее, еще подозрительнее. Поморщился.
– Ах, вы все об этом… Гоголя-обличителя забыть не можете…
Вскочил, взмахнул руками, заходил по комнате.
– Воскресить!.. Воскресить всех мертвых душ надо!.. О живых душах нужно писать!.. Не о мошенниках, не о скудных сердцем помещиках и чиновниках, а о честных… Это Белинский считал, что не может быть добрых помещиков и честных чиновников… Книгу напишу, какой еще не было… Не обличать буду, а соединять всех во Христе! В религии, в церкви спасение России!.. Новые главы напишу… Покажу воскресение мертвых душ… Молитвой и постом готовлю себя. Ничего не вкушаю, кроме вина с водою и просфоры…
И вдруг упал в кресло, запрокинул голову, закрыл глаза. Тонкий, заострившийся нос страшно торчал на желтом исхудалом лице.
Айвазовский кинулся к Гоголю, схватил его руки, худые, как лед холодные.
– Николай Васильевич, всем святым вас заклинаю, поберегите себя! Что вы с собой делаете?! Я буду спорить с вами, обращаясь к Евангелию, которое вы так чтите. Вспомните: «И бысть брак в Кане Галилейской и Иисус бе там…» Христос вовсе не требовал, чтобы люди истязали себя постами, отказывались от радостей жизни. Он любил простые радости, любил детей, которые постоянно окружали его. Он пришел на свадьбу в бедную семью в Кане Галилейской и вместе со всеми веселился, вкушал вино и свадебные яства. Он не считал обязательными посты, говоря, что грех не та пища, которую вкушают наши уста, а то, что исходит из наших уст: ложь, клевета, любые человеконенавистнические слова… Вы сами только что сказали, что хотите написать новую книгу. Но для этого физические силы нужны… Молю вас!..

Гоголь открыл глаза, устремил на Айвазовского пристальный, испытующий взгляд. Но в нем уже не было подозрительности, настороженности.
– А ты, Ваня, веришь, что я еще смогу написать книгу?..
– Конечно, верю! Только перестаньте убивать себя постами и мыслями о каких-то своих грехах. Если и были у вас грехи, то трудами своими вы их давно искупили. Поверьте!..
– Ты так думаешь, Ваня? Кое в чем ты, возможно, и прав…
Отблеск прежней гоголевской улыбки озарил худое, изможденное лицо.
Скрипнула дверь, казачок просунул голову:
– К вам, Николай Васильевич, отец Матвей пришли. Уже давно дожидаются. Одного вас желают видеть…
Айвазовский поспешил откланяться. В дверях он столкнулся с плотным, небольшого роста священником в лиловой рясе, окинувшим его внимательным, недружелюбным взглядом.
На другой день он уехал в Петербург. А через две недели пришла весть о смерти Гоголя.
Спустя полтора месяца, в апреле, накануне отъезда в Феодосию, он узнал, что в Баден-Бадене умер Жуковский. Один за другим сошли в могилу два близких человека.
Но самый страшный удар принес ему минувший год уже на своем исходе – весть о кончине любимого учителя Карла Павловича Брюллова, умершего в Риме. С грустью и благодарностью думал Айвазовский о Брюллове, который не только обучал его мастерству художника, но развил его ум, учил понимать характеры человеческие, события, ввел его в круг образованнейших людей России… Навеки скрылось солнце русской живописи…
Долго не мог успокоиться Айвазовский, растревоженный воспоминаниями, вызванными разговором с Литке.
День, на который приходилось солнечное затмение, в Феодосии встречали по-разному: в доме Ивана Константиновича заранее приготовили закопченные стекла. Готовились смотреть затмение и в других просвещенных домах, но были семьи, преимущественно на окраинах города, где предстоящее событие считали небесным знамением, предвещающим всякие беды. Старики и старухи пророчествовали, что в этот день наступит конец света.
– Что ж это будет, Анастасий? Пустое болтают или в самом деле солнцу затмение наступит? Поедем завтра на базар с овощами или нет? – спросил старого грека-огородника Анастасия его давний приятель огородник Александр.
– Какое там пустое? Вчера сам на базаре слышал, старые люди говорили, что, по Священному писанию, на этот год последние времена приходятся, – вмешался в разговор Константин, старший сын Анастасия. – Сказано: солнце затмится и звезды попадают на землю… И будет трясение земли и конец света…
– А я вчера мимо дома Ивана Константиновича вечером проходила, – вмешалась в разговор Анна, жена младшего сына Анастасия, – у него пели и на скрипке играли… Я еще остановилась послушать: слышу, смеются… Если бы что-то страшное ожидалось, не стали бы веселиться…
– Сама слышала, что смеялись? – нахмурил седые кустистые брови старый Анастасий.
– Вот те крест святой! – Анна три раза перекрестилась.
– А я тоже вчера днем видел, как к дому Айвазовского подъехали какие-то господа, веселые такие, и трубу привезли… Я кучера потом спросил, что за труба такая? А он мне сказал, что в эту трубу будут на солнце смотреть. Потом, вижу, вышел на балкон Иван Константинович с гостями и стали они трубу устанавливать. И жена его вышла. Смеялись, веселые были… – подтвердил муж Анны.
– Пойду сейчас к Ивану Константиновичу, сам у него все узнаю! – решил, надевая шапку, Анастасий.
Айвазовский выходил из дому на прогулку, когда к нему подошел огородник.
– Вы уж извините меня, Иван Константинович, – огородник снял шапку, – от вас хотим объяснение получить. Простые люди боятся, что завтра конец свету наступит…
– Что вы, Анастасий Филиппович. Ничего такого быть не может. Вы уж мне поверьте. Сколько раз бывало затмение солнца, а земля и люди от этого ничуть не пострадали, – попытался успокоить старика Айвазовский. – Просто между землей и солнцем будет проходить луна и на короткое время закроет от нас солнце. Вот и все…
– Спасибо, Иван Константинович! Сейчас на базар пойду и всем буду рассказывать… И у нас на Карантине всем ваши слова передам… – обрадованный огородник попрощался и заторопился к базару.
…На балконе дома Айвазовского было много друзей и знакомых. Все толпились вокруг телескопа. Когда началось затмение, Иван Константинович только на короткое время приник к телескопу, а потом покинул гостей, сел в заранее приготовленный ему экипаж и велел кучеру поскорее ехать на Карантин. Солнце было уже заметно ущербленным, когда Иван Константинович подъехал к Карантину. У домика Анастасия стояла толпа, но было так тихо, как будто здесь никого не было. Все напряженно смотрели на солнце, так ясно очерченное среди проплывающих легких, прозрачных облаков. С одной стороны от него как бы была отрезана небольшая краюшка.
– Иван Константинович к нам пожаловал! – громко сказал старый Анастасий, когда экипаж остановился.
– Здравствуйте, добрые люди! – весело поздоровался Айвазовский. – Хочу от вас наблюдать затмение. Мне в Петербурге заказали написать картину о солнечном затмении, так что я теперь у вас при исполнении служебных обязанностей… Кто хочет закопченные стекла? В них очень хорошо видно…
Знакомый приветливый голос как бы стряхнул с толпы охватившее ее оцепенение. Люди зашевелились, заговорили, потянулись к экипажу за стеклами. И снова наступила тишина, но более спокойная, как бы деловая… Время от времени люди оборачивались к экипажу, где сидел внимательно вглядывающийся в город, море, небо художник.
– Вот как смотрит! Запоминает, значит, а потом сядет и картину писать будет, – возбужденно объясняла в толпе Анна.
А художник старался ничего не упустить. Вот уже не диск, а серп плывет в странно темнеющем небе. День все больше гаснет. Тени на земле от деревьев, людей, лошадей, экипажа становятся все бледнее. Плывущий вдали корабль похож на призрак. Знакомый город и пейзаж словно расплываются в этих странных зловещих сумерках. Деревья теряют свою зеленую окраску, становятся пепельными. Лысая Гора как бы лишилась своей объемной плотности. Тревожно переступают с ноги на ногу и фыркают лошади, прядут ушами и оглядываются на успокаивающего их кучера. Какое-то чудовище медленно заглатывает солнце, и с севера надвигается зловещая ночь, непохожая на обычную. Люди незаметно для себя приближаются к экипажу, некоторые жмутся к нему, стараются прикоснуться рукой… Общий вздох облегчения пронесся над толпой, когда стало побеждать солнце. Предметы из призрачных опять становились привычно материальными. Небо, море, земля, деревья стали приобретать свой обычный цвет. На лицах появились счастливые улыбки…
«Солнце!.. В душе каждого человека живет древний солнцепоклонник…» – думал художник, прощаясь с жителями Карантина. Лошади весело мчали экипаж по залитым солнцем улицам Феодосии.
Через несколько дней Айвазовский написал «Затмение солнца в Феодосии». На большом холсте изображен город со стороны Карантина с перспективой на Лысую Гору. Художник передал все особенности освещения и необычный вид родного города в момент затмения, состояние трепещущей в страхе природы и встревоженной человеческой души. В самом воздухе как бы разлита тревога, протест против исчезновения солнца…
Картина была подарена Российскому географическому обществу.
Живописец главного морского штаба
Так же радостно, как и обычно, начался этот осенний день, когда Айвазовский вошел в свою мастерскую. Работа шла легко и быстро. Он сегодня писал с таким увлечением еще и потому, что на картине изображал пустынное волнующееся море и такой дорогой его сердцу городок Феодосию, приютившуюся у пологих, слегка припорошенных снегом холмов.
Однако долго работать не пришлось. Служитель, единственный человек, который мог входить к Ивану Константиновичу в часы работы, доложил, что внизу его дожидается старый рыбак Назарет и говорит, что дело у него неотложное.
Айвазовский хорошо знал, что старик не станет по пустякам его тревожить. Вымыв руки, он быстро спустился вниз.
– Что случилось, Назарет? – Вид широкоплечего, смуглого старика был явно встревоженный. Таким Айвазовский его еще никогда не видел, хотя знал рыбака с детских лет.
– Беда стряслась, Иван Константинович. Архип, кажись, помирает… – глухо произнес старик, и слеза покатилась по загорелой морщинистой щеке. – С тобой проститься желает…
При этом известии у Айвазовского защемило сердце. Старый Архип был ветераном-черноморцем. Он встретился с ним во время десанта в Субаши. В первый же день командование приставило к Айвазовскому бывалого пожилого матроса Архипа. Матрос был горд этим: он понимал, как важно сохранить жизнь художника, прибывшего запечатлеть для потомков на века подвиги русского флота. За время, что провел тогда Айвазовский у берегов Кавказа, он сблизился с Архипом. Матрос был при нем неотлучно. Тут-то Айвазовский оценил всю душевную красоту и привязанность старого моряка. Расставаясь с Архипом, он звал его по окончании срока службы приехать на жительство в Феодосию. Матрос был бобылем, близкой родни у него не было. Архип не забыл приглашения и спустя десять лет на деревяшке, с костылем неожиданно явился в Феодосию, в дом Ивана Константиновича. Айвазовский оставил его у себя. Но моряк вскоре сдружился с рыбаками и перебрался к старому Назарету.
Айвазовский, любивший выходить в море с рыбаками, часто бывал в домике Назарета на Карантине. Туда по воскресеньям сходились рыбаки, чтобы выпить вина из погребка Назарета и послушать рассказы Архипа о морских баталиях, особенно о Наваринском сражении, в котором он отличился.
Рассказывая, Архип любил упоминать:
– Вот когда мы с Павлом Степановичем Нахимовым служили на «Азове»…
О Нахимове Архип всегда говорил в приподнятом, торжественном тоне, не стыдясь слез.
– Павел Степанович, милостивец, смотрит на нас, матросов, как на родных детей. Своей семьей не обзавелся и всю душу отдает матросам, их вдовам да детям… Незадолго до того, как мне уйти с флота, довелось мне своими глазами на Графской пристани в Севастополе увидеть такое, что до самой смерти забыть невозможно… Вышел, значит, он, милостивец наш, на Графскую пристань. Был он тогда уже произведен в контр-адмиралы. А там народ собрался из Севастопольской матросской слободки – наш брат отставной матрос, матросские вдовы и сироты. Страху у них перед Павлом Степановичем никогда не было, хотя почитали они его, может, чуть поменьше господа бога… Только его увидели, так и кинулись всей ватагой к нему, и каждый норовит, чтобы Павел Степанович его первого выслушал. Понятное дело, шум тут поднялся невообразимый и разобрать ничего невозможно… А Павел Степанович на них ничуть не рассердился и говорит: «Постойте, постойте, всем разом можно только ура кричать, а не просьбы высказывать. Я ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо». А старик, матрос, вроде меня, на деревянной ноге, с костылями, стоял ближе всех к контр-адмиралу с двумя своими внучками-малолетками. Обрадовался он, что ему первый черед выпал говорить и зашамкал, что сын-матрос погиб и живет он, старый, с невесткой и внучками. Хата ихняя давно покосилась, крыша продырявилась, а починить некому… Павел Степанович выслушал старика и приказывает адъютанту: «Прислать к Позднякову двух плотников». Старик рот от удивления раскрыл, а потом спрашивает: «Да как же вы, милостивец наш, фамилие мое запомнили?» А Павел Степанович засмеялся и в ответ: «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле „Три святителя“»? Не успел он закончить разговор со стариком, как уже обратился к старушке: «А тебе, бабушка, что надо?» А она, сердешная, так оголодала, что еле голос подает… Кто-то растолковал, что она вдова мастера из рабочего экипажа и живет в большой бедности. Тут снова контр-адмирал приказывает адъютанту: «Дать ей пять рублей!» В народе ахнули: на такие деньги в тех местах можно целым хозяйством обзавестись. Но адъютант смутился и докладывает: «Денег нет, Павел Степанович…» «Как денег нет? Отчего нет-с?» – сердится контр-адмирал. «Да все уже прожиты и розданы!» – «Ну дайте пока из своих». И у адъютанта нет денег. А в это время подошли офицеры и мичманы. Павел Степанович к ним: «Господа, дайте мне кто-нибудь взаймы пять рублей!» И старуха тут же деньги получила… Вот каков наш Павел Степанович! Пока ему жалованье получать, так он его все вперед заберет и раздаст… Ничего ему для себя не надо. Ест не лучше любого боцмана…
…Последнее время Архип начал хворать. Рыбаки выходили в море уже без него. Но когда они возвращались, он требовал, чтобы ему все подробно рассказывали: какой был улов и какие происшествия случились в море. Рыбаки старались скрасить последние дни старика; всем было видно, что близится его конец. Айвазовский знал об этом лучше других. Присланный им доктор осмотрел больного и сказал Айвазовскому, что старик долго не протянет. Айвазовский с грустью в душе смотрел, как угасала жизнь в этом недавно еще богатырском теле. Но он все время старался поддержать бодрость в Архипе и чаще прежнего навещал его. Иван Константинович привозил ему лекарства и фрукты из своего сада. Архип ему на это заметил:
– Самая плохая примета, раз за мной, как за барином, ходят, значит, конец скоро…
Айвазовский старался его разубедить, что, мол, ему хочется похвастаться перед ним, какие фруктовые деревья он вырастил. Архип усмехался и говорил:
– Самый лучший для меня подарок, когда вы, Иван Константинович, во время прогулки навестите меня.
Айвазовский был у него несколько дней назад и обрадовался заметному улучшению в его самочувствии. Архип попросил Назарета помочь ему, поднялся с постели и даже вышел во дворик. Там они и сидели втроем, и Айвазовский читал вслух газету о последних событиях. А события вызывали тревогу: в октябре началась война с Турцией. В газетах сообщали о падении крепости святого Николая на восточном побережье Черного моря у турецкой границы. Айвазовский рассказал старикам, что он получил сведения, которых нет в газетах, о страшных зверствах башибузуков при взятии крепости: они перерезали всех женщин и детей и священнику отпилили голову; запытали лекаря; распяли таможенного чиновника и потом стреляли в него как в цель…
И еще сообщил Иван Константинович своим друзьям, что адмирал Нахимов вышел с эскадрой в Черное море на поиски турецкой эскадры.
– Ну, коли Павел Степанович взялся за дело, то быть победе! Отольется им кровь замученных! – воскликнул Архип. – Эх, где моя силушка прежняя!.. Показал бы я этим башибузукам…
Старик приободрился и долго еще оживленно толковал, что скоро надо ждать реляций о победах наших на море.
У Айвазовского появилась надежда, что старый матрос сможет преодолеть свой недуг. Вот почему так поразила его весть, что Архип умирает.
Иван Константинович приказал служителю взять экипаж и мчаться за доктором, а сам отправился вместе с Назаретом. Говорить было тяжело: каждый из них привязался к Архипу. Почти у дома Назарета их догнал экипаж с доктором.
Во дворе было много народа – рыбаки, старики-инвалиды с медалями на груди. В комнате на высоких подушках лежал Архип. Лицо его пожелтело, дышал он трудно, прерывисто. Вокруг стояли его ближайшие друзья. Лица их были сосредоточенны и строги. Они присутствовали при великом акте прощания человека с жизнью и молча одобряли мужество и достоинство, с каким тот переносил свои страдания.
Айвазовский тихо подошел к изголовью. В потускневших глазах Архипа вспыхнул слабый свет. Он шевельнул пальцами. Айвазовский, с трудом сдерживая слезы, взял его за руку.
Тем временем доктор поспешно достал из саквояжа пузырек, отлил из него немного в стакан и влил в рот Архипу.
– Ты что же это, братец, решил концы отдать? Неподходящее время выбрал… У нас такая блистательная виктория!.. – тут доктор обратился к Айвазовскому: – Я вам, Иван Константинович, не успел сообщить радостную весть: по пути сюда меня остановил почтмейстер с газетами в руках, бежал вам первому сказать, что адмирал Нахимов разгромил турецкий флот у Синопа…
То ли от лекарства, то ли от радостной вести, а вернее – от того и другого, но глаза у Архипа оживились, лицо порозовело.
– Ура!.. – слабо произнес он. – Павлу Степановичу ура!..
А через несколько дней пришли подробности о событиях у Синопа.
Нахимов искал встречи с турецким флотом. Узнав, что на Синопском рейде стоит большая турецкая эскадра, Нахимов подошел к Синопу 11 ноября, блокировал гавань и стал ждать подкреплений из Севастополя.
К 17 ноября эскадра Нахимова имела шесть больших кораблей и два фрегата. У турок было семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп.
Восемнадцатого ноября произошло сражение. Впереди шел флагманский корабль «Мария». Турки встретили русскую эскадру мощным артиллерийским огнем. Бой продолжался четыре часа. Турецкий флот погиб полностью, у русских ни один корабль не вышел из строя.
В этом бою сказалось преимущество нахимовской тактики взаимной поддержки, унаследованной от Лазарева. Когда корабль «Константин» был окружен турецкими судами, русский корабль «Чесма» перестал отстреливаться от направленного на него огня противника и обрушил весь свой артиллерийский огонь на фрегат «Навек-Бахра», который яростнее других громил «Константина». Объединенные усилия «Константина» и «Чесмы» вскоре вывели турецкий фрегат из строя: он взлетел на воздух и вся груда его обломков упала на береговую батарею, так что и та вынуждена была умолкнуть на время.
Через полчаса после этой победы в опасности оказался корабль «Три святителя». Он попал под обстрел одной из сильнейших береговых батарей. Тогда корабль «Ростислав», как раньше «Чесма», перестал отстреливаться от направленного на него огня и обрушил свой огонь на батарею, расстреливающую «Три святителя».
Наставление Нахимова, как держаться во время боя, и тут принесло блестящие результаты: батарея вся уничтожена, а русские корабли, хотя и сильно поврежденные, были спасены. В Синопском бою погибло более трех тысяч турок; среди русских было тридцать восемь убитых и двести сорок раненых.
Двадцать третьего ноября вся эскадра Нахимова вернулась в Севастополь. Россия восторженно приветствовала героя Синопа. Корнилов, поздравляя друга, воскликнул:
– Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура, Нахимов!
На все выражения восторга Нахимов отвечал:
– Михаил Петрович Лазарев, вот кто сделал все-с!
Подобно тысячам русских, писавших в эти дни Нахимову, послал взволнованное письмо герою Синопа и Айвазовский. Но художник знал, что для адмирала дороже любых проявлений восторга и дружеских чувств будет, если он кистью запечатлеет подвиг русских моряков при Синопе.
И вот Айвазовский у себя в мастерской. Кругом на столиках, стульях, просто на полу – чертежи, эскизы, наброски, рисунки, модели кораблей. Айвазовский не раз бывал на кораблях, участвовавших в Синопском бою, – на «Марии», «Париже», «Трех святителях», «Константине», «Ростиславе», «Чесме», «Кагуле», «Кулевчи». Редкая зрительная память помогла воссоздать картину героической морской битвы.
Кое-что подсказал и Архип. Вот уже несколько дней, как старик чувствовал себя лучше, и Айвазовский перевез его к себе. Иван Константинович уговорил старого матроса окончательно поселиться у него.
Теперь по утрам Архип сидит в углу мастерской в глубоком кресле и вспоминает корабль «Марию», на котором служил долгое время. В Синопском бою «Мария» была головным кораблем в русской эскадре. Он принял на себя главный огонь турок. После сражения корабль был весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты. На «Марии» оказалось больше убитых и раненых, чем на других кораблях.
В капитанской рубке «Марии» находился Нахимов. Отсюда руководил он сражением… Адмирал стоял со сдвинутой на затылок фуражкой, черный от порохового дыма, в мундире, забрызганном кровью…
Айвазовскому страстно захотелось написать портрет Нахимова. Он оставил работу над картиной о Синопском бое и отправился в Севастополь. Там царил такой же восторг, как в первые дни после победы. Воодушевление жителей черноморской столицы укрепило Айвазовского в намерении скорее приступить к портрету Нахимова. Но как только Иван Константинович заговорил об этом с Павлом Степановичем, адмирал наотрез отказался позировать. И как ни упрашивал художник, Нахимов оставался непреклонен в своем решении. Зато адмирал охотно возил художника по кораблям и рассказывал подробности Синопского сражения.
Художник подробно расспрашивал о сражении офицеров и матросов. Он даже посетил раненых героев Синопа, лежавших в севастопольском госпитале. Когда Айвазовского подвели к изувеченному взрывом матросу Антону Майстренко и стали рассказывать о его смелости, матрос, забыв о своих страданиях, восторженно заговорил:
– Нахимов – вот кто смелый!.. Ходит себе по юту, да как свистнет ядро, только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога…
В Севастополе Айвазовский встретился и долго беседовал еще с одним героем тех дней – командиром парохода-фрегата «Владимир» капитан-лейтенантом Бутаковым. За тринадцать дней до Синопской битвы «Владимир» у анатолийского побережья одержал победу над турецким пароходом-фрегатом «Первас-Бахри» и привел его на буксире в Севастополь.
1854 год. Шла Крымская война. В марте Англия и Франция официально объявили войну России.
В конце мая в Севастополе, столице Черноморского флота, Иван Константинович Айвазовский открыл выставку своих картин о великих победах черноморцев. Художник привез пять новых работ: «Синопский бой днем», «Синопский бой ночью», «Начало боя парохода „Владимир“ с турецким пароходом „Первас-Бахри“, „Конец боя тех же пароходов“, „Привод „Первас-Бахри“ на буксире в Севастополь“».
Эти картины должны были воодушевить моряков на новые славные подвиги. Так понимал цель выставки художник-патриот. Он не ошибся: в зал Благородного собрания, где были развешаны картины, невозможно было пробиться – столько оказалось желающих посмотреть. Многие зрители приходили на выставку по нескольку раз. Пришел на выставку и Павел Степанович Нахимов. Он долго стоял перед картинами о Синопе.
На первой было изображено начало сражения, когда некоторые неприятельские корабли только начали гореть, а один фрегат был взорван. Вторая картина изображала ночь после боя: город в пламени и отблеск пожара освещает русскую эскадру, стоящую на месте недавнего сражения.
Пожимая Айвазовскому руку, Нахимов произнес:
– Картины чрезвычайно верно сделаны. Удивляюсь, Иван Константинович, вашему гению… Столько лет знаю вас, но не могу постичь, как можно, не будучи на месте, так верно все изобразить… Непостижимо!..
Айвазовский уезжал из Севастополя в воскресный день. Казалось, весь город высыпал на Приморский бульвар, так было много там гуляющих. Играли военные оркестры. Художник долго глядел на памятник капитан-лейтенанту Казарскому. На нем была надпись: «Казарскому. Потомству в пример».
Начиналось лето 1854 года. Кто мог бы подумать, что этому городу предстоят тяжкие испытания.
Последнее, что запомнил Айвазовский в Севастополе, – парусные корабли в Южной бухте.
…Все лето Айвазовский жил в беспокойстве. Англичане после победы русского флота в Синопском заливе не скрывали своих намерений. Они открыто заявили, что надо уничтожить Севастополь.
К началу Крымской войны Севастополь совершенно не был защищен со стороны суши. Все требования Нахимова и Корнилова укрепить город командующий Крымской армией князь Меншиков постоянно отклонял. Противник решил этим воспользоваться. В начале сентября 1854 года неприятель высадил десант в районе Евпатории. Англичане и французы надеялись берегом моря быстро добраться до Севастополя и без труда овладеть им. Но 8 сентября произошло кровопролитное сражение на реке Альме. В этом бою у врага был перевес в технике и в людях. Русские часто переходили в штыковой бой и уничтожили немалое число врагов. И хотя англичане и французы победили, но идти прямо на Севастополь опасались. Они обошли его с южной стороны и окружили. Началась осада. Укрепление и оборону Севастополя взяли на себя Нахимов и Корнилов.
Одиннадцатого сентября моряки и севастопольские жители оплакивали гибель славных парусных кораблей Черноморского флота: их затопили, чтобы закрыть вход в бухту неприятельскому флоту.








