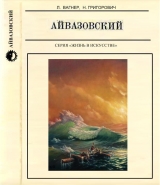
Текст книги "Айвазовский"
Автор книги: Лев Вагнер
Соавторы: Надежда Григорович
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Часть пятая
«Радуга»
Сегодня Иван Константинович проснулся раньше обычного. В доме царила тишина. Тихо было и за открытыми окнами. Город спал, даже дворники еще не вышли подметать улицы. Только прибой чуть шуршал по песку. Айвазовский лежал, прислушиваясь к предутренней тишине родного дома. Еще с детских лет он любил эти часы, когда рождался новый день и душа предвкушала, что он сулит новые впечатления, еще неизведанные радости. Почему он так жаден, так ненасытен? Разве жизнь не одарила его всеми возможными радостями? Ведь уже давно все у него есть: всемирная слава, богатство, любовь сограждан, распространившаяся до того, что даже в Петербурге его дорогую Феодосию именуют страной Айвазовского… Как же его сердцу не возликовать и не успокоиться на достигнутом?!..
Но нет, всегда он просыпается с таким ощущением, что вот сегодня придет долгожданная неизведанная радость – и все преобразит вокруг. Ах, как душа жаждет преображения! Все должно быть ново каждый раз – и небо, и море, и воздух… Тогда он напишет картину, ту самую, единственную, образ которой неуловимо носится перед его глазами десятки лет. Каждый раз, приступая к новому полотну, он уверен, что запечатлеет вечно ускользающую красоту мира. Проходит день, другой, и он больше не видит в картине того прекрасного видения, которое рисовалось ему в воображении… Но сегодня – он это чувствует – прекрасное видение явится ему в своем истинном облике, и ничто суетное не помешает воплотить его…
Айвазовский начинает торопливо одеваться, ему надо спешить к морю, которое наконец распахнет перед ним свои последние тайные врата. Да, да, нынче оно проявит свою великую милость за то, что долгие годы верно служит ему. Всю жизнь он наблюдает море, немало дней и ночей провел он на морском берегу. Как никто, он умеет слушать море. Его слух с годами все больше обостряется. Он улавливает в шорохе волны радость или печаль… Когда тучи заволакивают небо и приближается буря, воображение уносит его в открытый океан. Ему видятся отважные корабли среди волн и у скалистых берегов. Все его думы тогда с неведомыми моряками, и он часто вслух ободряет их… Да, каждый день море открывает ему свои тайны, являет новые грани своей красоты. Но сегодня – он уверен – явится та красота, которую не знал еще ни один художник.
И вот Айвазовский на берегу… Начало дня не предвещало ничего необыкновенного: такое серо-голубое море с розоватым отблеском на горизонте художник наблюдал тысячи раз. Но он не отступится; он знает, что нынче увидит еще не виданное им. Сегодня нельзя пропустить ни одного мгновения, нельзя отлучаться. Если он как обычно уйдет в мастерскую, где ждет картина «Переход израильтян через Чермное море», и приступит к работе, судьба обойдет его…
Все началось перед полуднем. Внезапно поднялся ветер и небо затянули тучи. На мгновение все стихло, а потом уже не ветер, а ураган яростно закрутил тысячами воронок пыль на городских улицах; вскипело море, еще недавно такое спокойное, ласковое…
Художник перебрался на балкон дома. Потоки воды заливали балкон, служитель несколько раз прибегал сменить плащ на нем, но он упорно не уходил в дом. Море, будто разъяренный зверь, с глухим ворчанием кидается на берег, брызжет белой пеной и с каждым наскоком все ближе подступает к древним генуэзским башням.
Узкими бойницами глядят башни на жуткий хаос вод, оттуда доносятся крики, кто-то зовет на помощь. Мелькает мысль, что, если рассказать об этом, пойдет молва, что Айвазовский бредит… Он усмехается над теми, кто прячется от стихии и боится полета фантазии. Он-то знает – то перекликаются с бурей тени генуэзских завоевателей…
Оглушительные громовые удары начинают стихать, все реже сверкают молнии, гроза уходит за море. Идет дождь, равномерный крупный дождь… Бурные потоки устремились с гор на город.
Но вот свежее дыхание проносится над землей. Темные грозные тучи тяжело уходят, будто с поля боя; за ними торопливо плывут облака, их края позолочены еще невидимым солнцем. Словно небесные витязи, они преследуют черную громаду туч… И вот тут-то свершилось: над морем, на темном фоне туч засияла многоцветная радуга… И в это мгновение в памяти художника возникла виденная им когда-то иная радуга… Он вспомнил еще более неистовые, чем сегодня, потоки воды, но тогда под ногами был не прочный, неподвижный пол балкона, а бешено раскачивающаяся палуба захваченного бурей корабля. Когда это было? Где, на каком море? Не все ли равно… Нужно вспомнить не время и место, а то, какой была та радуга, такая отличная от этой. Да, да, она была лучезарнее, нежнее всех виденных им радуг… Закрыв глаза, художник требовательно вопрошал свою память. Та радуга не была вестницей конца бури. Она возникла на мгновение в ее апогее. Айвазовский снова видит себя среди бушующей стихии. Его слепит водяная пыль, которую ветер яростно срывает с гребней огромных волн. Все в этой влажной пелене потеряло свои очертания: и снасти корабля, и палуба с матросами, противящимися натиску бури, и тучи, нависшие над морем. Пенистая, слепящая мгла, беспредельный, все в себе растворяющий хаос воды и ветра… И вдруг поток солнечного света, словно меч, пронзил эту мглу, и она перестала быть мглою и вся заиграла тончайшими оттенками голубых, зеленых, розовых, желтых, лиловых тонов. На несколько коротких мгновений разъяренную стихию обволокло кроткое мягкое сияние…
Значит, все это уже когда-то было, ускользающее все эти годы видение однажды уже являлось ему, а он прошел мимо, не узнал, не запомнил его… Выходит, что возбужденное ожидание, владевшее им сегодня с утра, было голосом памяти, взывавшим к нему. Должна была родиться эта новая радуга, чтобы в воображении вновь возникла та – далекая – среди моря. Да, да, именно тогда он увидел истинную свежесть и чистоту цвета. Но когда это было, в каких морях? Не во время ли первых странствий в далекой юности? А может быть, это было во сне? Он ведь не раз переносил на полотно свои сновидения. А может, смешались дивные сны с действительностью? Что бы то ни было, будьте благословенны и сегодняшняя буря, и радуга, и волшебные сны, и странствия по морям – все будь благословенно! Красота, так долго таившаяся в заколдованном ларце, отныне поселилась в его душе, и он перенесет ее на полотно.
Как когда-то, в дни работы над «Девятым валом», такое же радостное возбуждение владело им, когда Айвазовский натянул новый холст и приступил к картине «Радуга».
19 июля 1873 года в Феодосию по пути из Керчи в Ялту заехал Владимир Васильевич Стасов. Он возвращался из Керчи, где собирал материалы для своего нового труда о древних фресках, открытых в одной керченской катакомбе. В Феодосии пароход стоял несколько часов, и Стасов решил этим воспользоваться, чтобы навестить Айвазовского.
Странные отношения сложились у знаменитого критика и всемирно известного художника. Стасов то хвалил, то порицал Айвазовского. Зачастую нельзя было отличить хвалу от хулы. Десять лет назад в статье об академической выставке 1863 года Стасов писал: «Новые художники написали вдруг такие картины, что, посмотревши на них, пришлось разве только что крякнуть и стиснуть губы. Да, нечего сказать, угостили! Что это за Италия, что это за Малороссии, что это за Кавказ они пишут? Да это больше мухоморы, а не пинны итальянские; да это шафранные пятна, а не жатва малороссийская; да это зеленые и серые фальши нового рода, а не долины и горы Кавказа с натуры. Мне возразят: а Айвазовский, не точно ли до такой же рутины дописался и он, со своими вечно одинокими голубыми морями, лиловыми горами, розовыми и красными закатами, со своим вечно дрожащим лунным светом и прочею своею застарелою и застывшею неправдою и преувеличением? Да, отвечу я: у Айвазовского есть, несмотря на это, своя действительная поэтическая жила, есть порывы к истинной красоте и правде; притом он свое дело сделал: он двинул других по новому пути…» А вот год назад, рассказывая об участии русских художников на Всемирной выставке в Лондоне, Стасов про него, Айвазовского, напечатал в «С.-Петербургских ведомостях»: «Русские ландшафты заслуживают более места, чем мы можем отвести им. Здесь есть блестящие сцены знаменитого Айвазовского, иногда называемого русским Тёрнером. Впрочем, „Вид на южном берегу Крыма“ и другие подобные же этюды – если только их можно называть этюдами – неопределенны, словно какие-то видения, бестелесны, словно тени; живописец никогда не снисходил до подробностей, он высоко парит над буквальной правдой. Но у картин или, лучше сказать, сцен Айвазовского есть одна красота, довольно редкая у русской школы, – колорит их прелестен. …Призраки моря, неба, обелисков, воздушных паров, написанные этим художником, многочисленны во дворцах; употребленный труд ничтожен, вытребованная цена – громадна. Само собою разумеется, художник накопил большое состояние; он комфортабельно живет в том самом крае, который любит изображать; воображение у него восточное: романтичное, горячечное; его гнездо свито в саду России, Крыму».

…И хотя прошел немалый срок, как напечатана была статья Стасова, Ивану Константиновичу до сих пор больно про нее вспоминать. Он допускал право критики на разбор его картин, на любую оценку, но зачем же умалять его труд и называть его ничтожным – даже если речь идет о затраченном времени? (Хотя что знает Стасов о его ежедневной работе в феодосийской мастерской?) И уж вовсе неприличным Иван Константинович считал разговор о его состоянии, образе жизни…
И все же Айвазовский радушно принял петербургского гостя. Иван Константинович водил Стасова по своему огромному дому, показывал картины, редкости, привезенные из-за границы. Стасов был пленен домом художника, наполовину восточным по своему убранству. В гостиной он внимательно рассматривал последнюю картину Айвазовского – «Переход израильтян через Чермное море». Потом художник и критик перешли к беседе о раскопках на горе Митридат близ Керчи. Стасов вспомнил, что директор керченского музея Люценко и рисовальщик Гросс многое рассказывали ему о Музее древностей в Феодосии. Стасову захотелось там побывать. Пока закладывали коляску, Айвазовский повел гостя в мастерскую, где стояла только что оконченная «Радуга». И хотя наступил конец дня и освещение было неблагоприятное, Стасов так и замер. Он даже не обратил внимания на примелькавшийся в полотнах Айвазовского сюжет: гибнущие корабли и шлюпки со спасающимися людьми. Стасова поразил колорит картины.
Сколько «радуг» видел на своем веку Владимир Васильевич на картинах отечественных и иностранных художников! И все они мало чем отличались одна от другой. Как правило, художники изображали радугу на темном, зловещем фоне. От этого колорит становился особенно ярким. Айвазовский написал радугу по-другому: он не выделил ни одного цвета. Оттенки голубых, зеленых, розовых, лиловых и желтых тонов не заглушали друг друга, а сливались в единой цветовой гармонии. Стасов был покорен мягким светом, который излучала картина. Свет ее как бы распространялся вокруг, озаряя окружающие предметы, и Стасов, так любивший и понимавший музыку, услышал отдаленные переливы арф…
Обычно шумный и многоречивый в проявлении своих чувств, Владимир Васильевич хранил молчание. И даже потом, когда они сели в коляску, Стасов ни словом не обмолвился о картине. Айвазовский был вознагражден: значит, «Радуга» удалась, если даже Стасов, громоподобный, постоянно оглушающий каскадами то похвал, то хулы, признающий только живопись реальных предметов, покорен и сидит, странно молчаливый, ушедший в себя. Только подъезжая к музею, Стасов заговорил об археологических раскопках Айвазовского. Летом, накануне Крымской войны, художник занимался раскопками курганов.
– Вначале мы ничего не находили, – рассказывал Айвазовский, – кроме разбитых кувшинов с углями и золой. Зато в пятом кургане обнаружили золотую женскую голову самой изящной работы и несколько золотых украшений с женского наряда, три головы Пана, а также куски прекрасной этрусской вазы. Эти находки дали мне надежду, что не напрасны наши труды.
– Перед выездом из Петербурга в Керчь я видел найденные вами золотые ювелирные украшения. Их можно отнести к IV веку до рождества Христова. В Эрмитаже считают ваши находки наиболее ценными из того, что найдено в Крыму. Счастливец вы!..
В Музее древностей Стасов заинтересовался картиной Айвазовского, изображающей огромный айсберг. Ледяная громада своей причудливой формой напоминала какой-то волшебный замок. В опасной близости от айсберга находился корабль под русским флагом. Суровый серый тон картины местами переходил в синий и зеленоватый. Только один айсберг был эффектно освещен заходящим солнцем. Его ледяные башенки, зубцы, грани играли в солнечных лучах теплыми нежно-розовыми тонами, тени же на айсберге – холодного сине-зеленого цвета…
– «Ледяные горы», – прочел Стасов надпись. – Не помнится мне, Иван Константинович, чтобы я видел на выставках эту картину…
– Вы и не могли ее видеть, Владимир Васильевич, потому что я ее ни разу не выставлял. А написал я ее специально для музея.
– Насколько я знаю, вы, Иван Константинович, никогда в Антарктиде не бывали. Как же вам удалось так изобразить айсберг без наблюдения натуры?
– Да уж так удалось. В 1870 году отмечалось пятидесятилетие открытия Беллинсгаузеном и Лазаревым Антарктиды. Не мог я, живописец Главного морского штаба, не откликнуться на славную дату беспримерного подвига русских мореплавателей. Наблюдений натуры, увы, не было. Можете бранить меня за это, Владимир Васильевич. Когда приступал к работе, я припомнил все, что рассказывал мне Михаил Петрович Лазарев о плавании шлюпов «Восток» и «Мирный», об их встречах с огромными плавучими глыбами льда. Пригодились во время работы и рисунки художника Павла Михайлова, принимавшего участие в той экспедиции, их мне довелось видеть в Адмиралтействе. А воображение дорисовало остальное…
– Второй раз сегодня приводите вы меня в изумление, Иван Константинович. И нет даже запалу для брани… Штудировал я внимательно двухтомное сочинение Беллинсгаузена, рассматривал не раз все сорок шесть рисунков Михайлова и вижу, что изобразили вы это грандиозное явление природы так жизненно, так натурально, будто сами совершали плавание на шлюпе «Восток» или «Мирный»…
…Долго не уходил в ту ночь с палубы Стасов. Он все думал о встрече с Айвазовским, о его большом, щедром сердце. Шутка ли, два года назад на собственные средства построил здание для музея, который раньше помещался в какой-то ветхой мечети. И ни словом сегодня об этом не обмолвился. Се человек! И какой художник! Надо же так написать радугу!..
Запоздалое признание
Иван Константинович снова отправился в странствия. На этот раз в Европу. Пробыв недолго в Ницце, он поехал во Флоренцию.
Много лет не был Айвазовский в Италии. Юношей приехал он сюда из России. Здесь странствовал со своим другом Штернбергом, здесь встретился и сблизился с Гоголем. В Италии к нему пришла мировая слава.
Флоренция встретила Айвазовского, как встречают дорогого гостя после долгих лет разлуки.
Для выставки он отобрал лучшие из своих последних картин: были здесь виды Черного моря, кораблекрушения и большая картина «Неаполитанский залив в туманное утро». Выставка открылась в здании Флорентийской Академии изящных искусств. Тысячи флорентийцев горели желанием посмотреть картины великого мастера морской живописи. Еще были люди, помнившие о первых успехах Айвазовского в Италии.
Айвазовскому поднесли прекрасный альбом со множеством подписей флорентийских граждан. Газеты печатали о нем хвалебные статьи. В городе начались торжества в честь Айвазовского. Академия изящных искусств избрала его своим почетным членом. Профессора Академии предложили Айвазовскому написать автопортрет для галереи дворца Питти. Это была редкая честь.
Айвазовский мысленно перенесся в дни своей юности, когда в обществе Гоголя и Иванова он восхищался в галереях Уффици и Питти бессмертными произведениями искусства. Он вспомнил, как перед отъездом из Флоренции Гоголь, Иванов и он провели целый день в зале галереи Питти, где находятся портреты величайших художников мира. Мог ли он тогда думать, что спустя много лет ему будет предложено написать автопортрет для этой всемирно известной галереи!
Автопортрет Айвазовского поместили рядом с портретами Леонардо да Винчи и Микеланджело. Теперь в галерее Питти были автопортреты двух русских художников – Ореста Адамовича Кипренского и Ивана Константиновича Айвазовского.
Кончилось время пребывания во Флоренции. И тут Айвазовский почувствовал, как тянет его в Венецию. Давно не живет в монастыре святого Лазаря брат Гавриил, но его влечет посетить этот город своей юности. Там теперь Тальони…
Из заветной шкатулки достал он ее единственное письмо: сложенный вдвое голубоватый вылинявший от времени листок бумаги с почти стершейся золотой монограммой «М. Т.».
«Господину Айвазовскому.
В воспоминании, которое я храню о Венеции, заключено для меня тем более очарования, что в этом городе я познакомилась с Вами. Не забудьте же о своем обещании отыскать меня в том укромном уголке, где я поселюсь, когда настанет для меня пора отдохновения. Я говорю Вам о своем восхищении Вашим прекрасным талантом и горжусь сама быть актрисой, ибо это звание дает мне право дружески протянуть Вам руку.
Мария Тальони.
30 сентября 1842 года».
С той поры пролетел тридцать один год. Уже четверть века она не танцует. Из газет и от знакомых, приезжавших из Италии, он узнавал о ней. Последнее время, перед концом своей сценической жизни, Тальони выступала только в Лондоне. С парижской публикой она простилась летом 1844 года в балете «Сильфида». К этому времени «Сильфиду» уже пытались танцевать другие – красавица-венка Фанни Эльслер и изящная танцовщица-итальянка Флора Фабри. Но зрители говорили: «Не то!..» В 50-х годах газеты писали о трагической гибели Эммы Ливри, любимой ученицы Тальони. Ливри получила смертельные ожоги на репетиции нового балета. Газеты сообщали о тяжелом потрясении Тальони. После ухода со сцены она ведет затворническую жизнь в своем палаццо в Венеции или на вилле у озера Комо. Теперь ей шестьдесят девять лет… И он давно не юноша – пятьдесят седьмой год…
Айвазовский стоит с письмом в руке и видит тонкую девическую фигурку в волнах белого газа на сцене петербургского Большого театра, счастливую тень, парящую в голубоватом луче…
Слуга ввел его в ту же «русскую» комнату. Все так же висели на стенах портреты Пушкина, Жуковского, Лермонтова, пейзажи Воробьева, Щедрина, Лебедева. А его маринами увешаны все стены. Айвазовский не слышал ее шагов, когда она вошла. Она двигалась так же легко, как в былые годы, и была, по обыкновению, в белом. Только сетка мелких морщинок на лице и седина в белокурых волосах говорили о ее возрасте.
– Спасибо, что сдержали свое обещание!.. Я всегда верила в то, что мы еще встретимся. Все эти годы я не теряла вас из виду. Пресса и князь Трубецкой в письмах из Петербурга сообщали мне о вас…
Айвазовский поцеловал протянутую ему тонкую руку. Повеяло забытыми духами…
– Меня радует нескудеющая сила вашего таланта, молодость вашей души. Одно печалило меня – что вас постигло такое же горе, как и меня… Но и в этой печали утешением мне было, что одиночество не наложило отпечатка на ваше искусство. Ваш гений создал новые творения, еще более прекрасные… Я надеюсь, вы опять остановитесь в моем доме… А вечером мы поедем к Тинторетто?..
– Да, друг мой Marie, поедем…
Опять по утрам его взгляд прежде всего падал на белый расписанный цветами потолок, и он сразу же вставал и шел к мольберту. И так же сверху из зала доносились приглушенные звуки рояля: это она занималась с ученицами. А в полдень они встречались за завтраком, и потом он играл ей на скрипке. А после старый Энрико подавал гондолу и они странствовали по Венеции. Айвазовский пристально вглядывался в лицо Тальони, и ему казалось, что на нем играют не только цветные блики от пронизанного солнцем пестрого шелкового зонтика, а тени тех давних счастливых дней…
– Вы помните, Marie, что вы сказали тогда об этом крылатом льве?
– Помню… – Тальони подняла голову, взглянула на крылатого льва и стала, щурясь от солнца, смотреть в высокое с золотистыми облачками небо. – Я люблю небо на ваших картинах! Вы понимаете и любите его так же, как море. Мне близки у вас и бескрайняя высота радужного весеннего неба, и желто-красные бурные облака, несущиеся, как вестники бури, над вспененным морем, и сизо-черный мрак грозовых туч, еще более страшный от вспышки озарившей их молнии, и глубокая синева тихого ночного неба… Мне кажется, друг мой, что вы протягиваете какие-то родственные нити и связываете ими нетленную красоту неба с красотой моря… А сейчас я хочу с вами взглянуть на небо, созданное нашим Тинторетто. Энрико, отвези нас в церковь Сан Кассиано…
И вот они стоят перед ее самым любимым творением Тинторетто. «Распятие» в Сан Кассиано еще более величественное, грандиозное, чем «Распятие» в Скуола ди Сан Рокко. Трагическое событие, совершающееся на земле, воплощено в нескольких больших фигурах, поднятых к небу над узкой полосой земли, и множеством взметнувшихся копий. А над ужасом происходящего на земле – небо, беспредельное, как океан, зеленое с золотистыми и розоватыми облаками…
– Разве эта живописная магия не превосходит все, что было написано даже Веронезе?
– Да, Marie, превосходит… Какая композиция!..
…В этот вечер они никуда не вышли из дому. Айвазовский на другой день уезжал. Тальони сидела в его комнате и смотрела, как он разбирает и укладывает в саквояж свои альбомы и листки с записями.
– Когда же мы теперь снова увидимся, Marie?
– Возможно, я будущим летом приеду в Петербург к дочери… У меня ведь теперь там много родных: не только дочь с мужем, но и внуки… Моя двоюродная сестра, вышедшая замуж тоже за русского, имеет уже правнуков. И все они в Петербурге…
– Почему же, Marie, вы не приезжали в Петербург столько лет?
– На этот вопрос я могу теперь ответить вам правдиво, мой друг. Я боялась встречи с вами… Теперь я стара и могу приезжать в Россию без страха увидеть там вас…
Айвазовский побледнел и уронил хрустальный бокал для кистей, который собирался положить в саквояж. Осколки со звоном разлетелись по комнате.
– Так, значит…
– Да, мой друг, я любила вас, но подавила в себе это чувство. Большая разница лет помешала мне стать вашей женой: вам было всего двадцать пять, а мне – тридцать восемь… А я так хотела этого, так тосковала, когда вы уехали из Венеции… Иногда мне кажется, что я сделала непоправимую ошибку…
– Marie, это была страшная ошибка!.. Если бы я тогда мог знать!..








