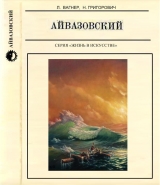
Текст книги "Айвазовский"
Автор книги: Лев Вагнер
Соавторы: Надежда Григорович
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Свадьба на Украине
Поездки на Украину всегда волновали Ивана Константиновича. Вот и теперь, увидев из вагона первые пирамидальные тополя, первые белые хатки-мазанки среди вишневых садов, он опустил раму и уже не закрывал окно. В Петербурге даже сквозь шубу пробирал сырой, пронизывающий холод, а здесь апрельский ветер наполнял купе приятной прохладой и запахом распускающихся тополиных почек. Айвазовский высунулся в окно, подставил теплому ветру уже совсем седую голову.
Как быстро идет поезд! Теперь, в 1891 году, легко и удобно совершать переезды из Крыма в Петербург. А в годы его молодости этот путь на перекладных был долгим и утомительным. Впрочем, его не тяготило время, проведенное в почтовом дилижансе. Чего только не увидишь в дальней дороге, каких только зарисовок не сделаешь в дорожном альбоме!.. Хорошо, что радость, охватывавшая тогда при виде безбрежной степной шири, осталась все та же, не потускнела с годами… Степные ковыльные просторы всегда напоминали простор родного моря. И, как вестники Крыма, тянулись в те давние годы чумацкие обозы по широким украинским степным трактам. За окном уже настоящая степная Украина. В стороне отара овец испуганно смотрит на мчащийся поезд. Пастух-подросток и лохматая собака стоят на кургане неподвижно, как изваяния… Эти отары всегда напоминали ему степные равнины Крыма возле родной Феодосии, где бродят такие же овечьи стада. Однажды вблизи его имения Шейх-Мамай отара овец, испугавшись налетевшей внезапно бури, устремилась прямо в море. Страшное это было зрелище!.. Он тогда написал картину «Овцы, загнанные бурей в море»: обезумевшие от ужаса животные бросаются с крутого обрыва к морю; тщетно пытаются преградить им путь чабан и его сторожевая собака – овцы неудержимым потоком катятся с обрыва, чтобы погибнуть в кипящих волнах… Любит он этих пугливых обитателей украинских и крымских степей. Без них кажется ему степной пейзаж незаконченным. Столько раз писал он их, то сбившихся в кучу, истомленных жарой степного жгучего полдня, то идущих, как поток, вечером по мглистой, освещенной косыми закатными лучами степи… Привет вам, первые степные вестники!..
И вам привет, украинские хлопотливые ветряки! За окном вагона то и дело взлетают кверху их крылья. Сколько ветряков в этом хлебном краю!.. Если смотреть на них издали, то движения их крыльев в степном мареве напоминают трепет далекого паруса в туманной морской дали…
В молодости он часто прерывал свое путешествие, оставляя вещи на почтовой станции, а сам с альбомом, этюдником и ящиком для красок шел пешком по степи до какого-нибудь пленившего его тихого городка или хутора и оставался там на несколько дней…
С детских лет, еще с той поры, когда часами слушал пение слепцов-бандуристов на базаре в Феодосии, полюбил он Украину. Дружба с Вилей Штернбергом, влюбленным в Украину, близость с Гоголем, так дивно изобразившим ее, укрепили его любовь. Еще юношей он обратился к изображению украинской степи то в сиянии жаркого дня, то в тихий вечерний час, украинских нив, покрытых золотом пшеничных колосьев. Всех, любящих Украину, покорила его картина «Камыши на Днепре близ местечка Алешки», которую он выставил на академической выставке 1858 года. Она ясно возникает в его памяти: вечер, предзакатный час поджег небо; золотистая вечерняя дымка окутала камыши и большую парусную лодку среди камышей; ее коричневый силуэт вырисовывается на пламенеющем небе…
С той поры он не перестает изображать Украину. Вот проходят перед ним его украинские пейзажи. Медленно тащат волы тяжело груженные мажары. Солнце собирается на покой. Ветряки широко раскинули крылья. На одной из мажар стоит девушка и, заслонясь рукой от солнца, смотрит туда, где далеко-далеко чуть виднеется море… А на картине «Мельница на берегу реки» – крутой косогор, и на нем ветряк. Медленно поднимаются в гору две арбы, запряженные волами. Солнце ярко отражается в широкой реке, заливает праздничным светом далекие берега. Вдали все в садах большое село… Радость и покой ясного летнего дня…
Потухли краски заката, уже луна смотрит в окно вагона. Двадцать лет назад он написал лунную ночь на Украине: в саду прячется хата под соломенной крышей. На высоком светлом небе царственно плывет волшебница луна, только что показавшаяся из гряды облаков. Чумацкий обоз тянется по тракту. Усталые волы вошли в воду поросшей камышом речушки. Мягкий лунный свет заливает тополя, степь, неясные в ночной мгле хутора и мельницу…
На другое утро Айвазовский вышел из вагона на небольшом полустанке. Поезд стоял, ожидая запаздывающий встречный. Мимо с песнями шла веселая гурьба разряженных девушек в лентах и монистах. Парубок в лихо заломленной шапке подыгрывал на скрипке.
– Здравствуйте! Куда идете? – приветливо обратился с ним Айвазовский.
– На весилля! Ходимтэ з намы, панэ! – задорно крикнула черноглазая девушка.
– А далеко это?
– Ни, недалечко, он у тому хутори!.. – она указала на хутор в степи.
– Тогда вот что: помогите мне вынести вещи из вагона… Я пойду с вами…
– Оцэ гарнэ дило! Оцэ гарный пан! – Парубок отдал черноглазой девушке свою скрипку и поспешил в вагон за Айвазовским.
Под удивленными взглядами проводника и пассажиров он вынес два чемодана; Айвазовский отдал их на попечение подбежавшего путевого обходчика и, взяв с собой только альбом, пошел с пришедшей в восторг молодежью.
– Оцэ гарно, оцэ дывно! Якого гостя на весилля прывэдэмо!.. – не мог успокоиться парубок и тут же начал под пение девчат кружиться в танце вокруг смеющегося старого художника…
…Появление Айвазовского в доме невесты вызвало переполох. Но все успокоились и заулыбались, когда парубок Васыль, оказавшийся братом жениха, рассказал, что пан художник сошел с поезда, чтобы присутствовать на деревенской свадьбе. Возле хаты стояли телеги, запряженные разномастными лошадьми; их гривы были разукрашены лентами и бумажными цветами. Уже все готово, чтобы ехать в церковь, ждали только Васыля. А вот и он, и с каким гостем!..
Красивая синеглазая невеста застыдилась и прикрыло лицо пышным вышитым рукавом, когда Айвазовский стал перед ней и поклонился.
– Ну, Хрыстя, желаю тебе счастья в замужестве! А это тебе подарок, носи на здоровье… – Айвазовский подал девушке бархатную коробочку.
Любопытство пересилило застенчивость, девушка робко открыла коробочку и вскрикнула: на зеленом бархате переливались оправленные в золото крупные сапфиры… Таких она и во сне не видела…
– Хрыстя, венчайся в них! – закричали подружки, и тут же одна подскочила, вынула из ушей невесты серебряные с розовыми стекляшками серьги и вдела сапфировые. Голубые камни оттенили синеву глаз, они стали еще глубже, еще прекраснее…
«Ничего, – подумал художник, – у красавицы Вареньки[17]17
Варенька Мазирова – дочь племянника Айвазовского.
[Закрыть] и так уже несколько пар сережек. Пусть эти сапфиры сделают сказочным свадебный день Хрысти…»
…Заливались бубенцы свадебного поезда, во весь опор мчавшегося к большому селу, где была церковь. Пыльная степная дорога петляла теперь среди полей, зеленеющих всходами озимой пшеницы. Далеко виднелась белая колокольня, к которой держали путь.
Айвазовский сидел в телеге, где ехали родители жениха, его дядья и дед, на самом удобном месте. Сено, которого не пожалел отец жениха, его жена Горпына покрыла сверху широким цветным рядном.
– Красивую дивчину выбрал ваш сын, – обратился Иван Константинович к отцу жениха – плотному крестьянину лет пятидесяти с длинными соломенного цвета усами. – Да и он сам красивый парень.
– Это вы правду сказали, господин хороший, да плохо только то, что одной красотой на свете не проживешь…
– Ну помовчи, старый, назад вже не повернешь!.. – с досадой заметила Горпына, поправляя под свой очинок выбившуюся темную прядь. Хотя ей было тоже под пятьдесят, вся она была горделивая и стройная, так что со спины каждый принял бы ее за молодую женщину.
– А в чем дело? Расскажите…
– А в том дело, господин хороший, что мы сами хоть и не богатые, но и бедности большой не испытали. А мой сынок берет теперь себе в жены дивчину из самой бедной семьи. И что хуже всего, не хочет с нами и с братом в одной хате одним хозяйством жить. Выдели и выдели его… Боится, верно, что будем Хрыстю ее бедностью попрекать…
– Ага! Вин же не дурэнь, чув сам, як малэнький був, як мэнэ твоя маты бидностью докоряла, – опять вмешалась Горпына.
– Значит, и вы по любви на бедной женились, так должны теперь и сына своего понимать и не укорять его… – сказал Айвазовский и перехватил быстрый благодарный взгляд матери жениха.
– Да я и так, господин хороший, хочу поделиться с ним, чем могу. Земли ему две десятины даю, корову, хату поставить помогу… А чем пахать будут? Одна лошадь у меня, пополам не разрежешь ее… Жили бы в одной семье, так нет, выдели его…
Иван Тарасович замолчал, потому что свадебный поезд остановился возле церкви, где стояли такие же украшенные лентами и цветами лошади.
– Эх, опоздали!.. Другие раньше нас приехали… – с досадой сказал один из дядьев.
В церкви, где после обедни должны были венчаться три пары, остались многие прихожане. Все, особенно женщины, с жадным любопытством смотрели на Айвазовского, который вошел в храм, опираясь на руку Горпыны, ступавшей горделивее обычного. Васыль уже успел, приехав с женихом на несколько минут раньше, рассказать об их необыкновенном госте и о его дорогом подарке невесте. Блестящие женские глаза без устали перебегали с лица старого пана на серьги в ушах сияющей от счастья Хрысти. Пожилой священник, отдыхавший после обедни в алтаре, с удивлением слушал рассказ псаломщика о знаменитом художнике, имя которого часто упоминалось в газетах. Неужели это он приехал на венчание бесприданницы Хрысти, вдовый отец которой не имел ничего, кроме старой, покосившейся хаты и кучи голодных ребят…
Священник осторожно отодвинул завесу, задернутую со стороны алтаря на узорных вырезных царских вратах, и стал шарить любопытным взглядом по церкви. Возле Ивана Тарасовича и Горпыны действительно стоял, опираясь на трость, по-столичному одетый старик с пышными седыми бакенбардами и густой седой шевелюрой; высокий лоб, живой, добродушный взгляд из-под густых, еще темных бровей… Ну да, совсем такой, как на портрете, что был в газетах, когда отмечалось пятидесятилетие его художественной деятельности… Отец Петр ахнул и заторопил дьякона и псаломщика:
– Быстрее!.. Что стоите, рты разинули?! Давайте мне праздничное облачение!.. Не эту ризу, а пасхальную! И вы все пасхальное оденьте… Перед лицом таким будем обряд совершать!.. Ведь это не просто знаменитый художник, а действительный тайный советник, персона, которая в царский дворец допускается!.. Паникадило зажгите! Хору сказать, чтобы не расходились и так пели, будто к нам сам митрополит пожаловал… Ох, да быстрее вы шевелитесь!..
Не прошло и десяти минут с момента, когда Айвазовский переступил порог церкви, как запылали свечи в паникадиле и перед образами, зажженные церковным сторожем, синий дымок ладана поплыл от кадила, раздутого прислуживающим в алтаре стариком, на клиросе тихонько закашляли, прочищая горло, певчие, и задал тон на камертоне, строгим взглядом обрывая это покашливание, регент хора – учитель церковно-приходской школы. В светлом пасхальном облачении величаво выплыл из алтаря отец Петр в сопровождении тоже преобразившихся дьякона и псаломщика и голосом доброго пастыря возгласил:
– Брачащиеся рабы божии Филипп и Хрыстина, подойдите к аналою… Да будет милость господня на вас!..
«Гряди, голубице!» – грянул хор.
– Ты розумий, Горпына, по нотам поют в честь Хрысти!.. – толкнул локтем жену Иван Тарасович. – Это только тогда такое пели, когда венчался пять годов назад сын пана Горенка… А ризы яки понадивалы..
– Того и заспивалы, що генерал в церкву прийшов. Дьякон сказав, що пан – генерал и колы захоче, тоди и идэ до царя… – шепнула сзади Ивану Тарасовичу и Горпыне черноглазая дивчина, которая позвала Айвазовского «на весилля».
Все жители соседних хуторов собрались возле хаты Ивана Тарасовича к тому времени, когда должны были вернуться из церкви молодые. И вот заклубилась далеко пыль на дороге, залились бубенцы, загремела песня: вскачь несется свадебный поезд, развеваются лошадиные гривы с яркими цветами и лентами, и бегут уже к воротам бабы, чтобы обсыпать молодых овсом и сухим хмелем…
В красном углу, под образами, среди самых почетных гостей усадили Айвазовского. С интересом следит художник за всеми подробностями украинского свадебного обряда. Но вот молодая выходит из-за стола. Ей подают поднос. Она должна потчевать вином самых важных гостей. С низким поклоном Хрыстя подходит к художнику и протягивает ему поднос с чаркой сладкого красного вина. Пока шло венчание, Василь на коне поскакал в усадьбу пана Горенка и выпросил у дворецкого бутылку господского вина. Не совсем поверил его рассказу дворецкий, но вино все-таки дал.
Айвазовский поднялся, с поклоном взял чарку, выпил, поставил на поднос и достал бумажник из бокового кармана сюртука. Все, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Иван Константинович вынул пачку крупных ассигнаций и положил на поднос…
Хрыстя побледнела и чуть не упустила все, что было в руках, Филипп наклонил голову и закрыл лицо руками, ему казалось, что он теряет рассудок. Гости, тесно набившиеся в хату, стояли так тихо, словно тут никого не было. Первый опомнился сват:
– Эгэ!.. Тут нэ на одну коняку, а на десять!.. Богату невистку ты соби узяв, кум Иван!..
Грянули величальную песню. Полилась рекой горилка, дробно застучали чоботы, выбивая гопака. Из хаты выбрались на улицу, на простор, и веселились до глубокой ночи. И всех, кто шел или ехал через хутор, Иван Тарасович и Горпына останавливали и звали на свадьбу. Приехал и дворецкий пана Горенка и привез еще бутылку панского вина…
…Через несколько дней после возвращения в Феодосию Айвазовский написал картину «Свадьба на Украине». Она полна движения. В тени больших деревьев у хаты пляшут гости. Деревенские музыканты самозабвенно играют на скрипках и контрабасах. Тут же и счастливые молодые. Привлеченные весельем, остановились у хаты проезжие крестьяне. Сварливая жена тумаками гонит домой опьяневшего мужа. Только волы, впряженные в мажару, равнодушны к веселью деревенской свадьбы и меланхолично жуют свою жвачку… Вся эта веселая жанровая сценка вписана в степной украинский пейзаж.
Малахов курган
Долгие годы думал Айвазовский о картине «Малахов курган». Но пришло время и этому замыслу осуществиться.
Настал 1892 год. Художнику перевалило за семьдесят. В начале зимы Иван Константинович уехал из Феодосии в Петербург. В этот приезд кто-то из друзей посоветовал ему снять небольшой скромный особняк в одном из переулков Коломны. Комнаты были просторные, светлые, обставленные со вкусом, и там стояла тишина, чем-то напоминавшая феодосийский дом.
Айвазовский, привыкший вставать рано, подолгу стоял у окна, глядел на чистый снег, на голые беззащитные березы. Он любил утренние раздумья до работы. Перед мысленным взором явственнее возникали картины юга. Тогда он работал с упоением, забывая выходить к завтраку. Хозяйка не смела его беспокоить. Только Пантелей – старый дворник – топтался у дверей и кашлем напоминал, что пора, мол, и подкрепиться.
В первые дни Айвазовский притворялся, будто он ничего не слышит. Но перехитрить Пантелея было не так-то легко: тот кашлял все настойчивее. Однажды Айвазовский выбежал с кистью в руке, разгневанный, готовый накричать, но, увидев старика, которого на этот раз не на шутку душил кашель, его побагровевшее лицо и слезящиеся глаза, кинулся ему на помощь. После этого случая Иван Константинович старался больше не опаздывать к завтраку. Первые дни хозяйка сама прислуживала за столом, но, заметив, что ему приятнее общество старика, поручила все заботы Пантелею. Нашлись у них и общие знакомые. Пантелей служил в Севастополе. Во время обороны ему оторвало ногу. Сам Корнилов знал храброго матроса. Айвазовский любил подолгу слушать рассказы Пантелея о Корнилове и Нахимове. И охотно вспоминал о встречах с ними. Пантелей подробно расспрашивал Айвазовского о его севастопольских картинах.
– Вот вы, Иван Константинович, много картин написали о морских битвах славного Черноморского флота. Особливо ваша картина «Осада Севастополя» запала мне в душу. Я ее здесь в Питере на выставке видел. Как узнал я, что о Севастополе картина, так и зашкандыбал туда на своей деревяшке. Долго не хотели меня пустить в зал, где одни господа были. Спасибо знакомому студенту – провел меня. Смотрел, смотрел на эту картину, и слеза прошибла… Не думал тогда, что художника, который написал ее, увижу да еще буду разговаривать с ним… А вот привелось. Только вы скажите мне, Иван Константинович, отчего бы вам не написать такую картину, чтоб русский матрос был виден, душу его богатую и сердце отважное раскрыть перед всеми.
– А как это сделать, Пантелей? Подскажи, друг!
– Да вот хотя бы такой случай: мне о нем рассказывал один мой земляк, тоже служивый, вместе со мною в Севастополе оборону держал. Так вот – в прошедшем году мой земляк решил побывать в Севастополе. Целое лето шел туда. По дороге встретился ему такой же старик, как и он, туда же держал путь. В оборону он на четвертом бастионе у графа Толстого денщиком был. Вот они пришли в Севастополь под вечер, уже солнышко закатывалось. Добрались до Малахова кургана, до того самого места, где смертельно был ранен адмирал Корнилов. Долго там стояли, пока солнце совсем не зашло и темнеть начало. Вернулся мой земляк домой и говорит: «Теперь-то и умереть не страшно. Выполнил свой долг». Вот, Иван Константинович, какая душа у русского воина…
Айвазовский молчал. Только по глазам было видно, как глубоко тронул его рассказ Пантелея.
…Художник задержался в Петербурге до самой весны.
Айвазовский уже несколько дней как выходил в весеннем пальто. Шубу он велел Пантелею уложить в дорожный сундук. В день отъезда было совсем тепло, солнце по-весеннему заглядывало в комнаты. На душе было легко, как будто она умылась весенней водой. Перед тем как поехать на вокзал, Айвазовский заперся в своих комнатах и вышел оттуда только тогда, когда прибыл экипаж.
Прощание с Пантелеем было трогательным. Оба прослезились и обнялись. Долго глядел Пантелей вслед экипажу, а затем медленно пошел в комнаты художника. В светлой, просторной прихожей, между спальней и кабинетом, он от неожиданности вскрикнул: на вешалке висела шуба Айвазовского. Он вскрикнул так громко, что хозяйка услышала из гостиной и прибежала.
– Что приключилось, Пантелей?
– Шубу Иван Константинович забыл… Да как это могло случиться? Ведь я сам намедни в дорожный сундук ее уложил… Не иначе как наваждение какое. Надо скорее на вокзал отвезти ее, может, еще успею…
– Ты прав, Пантелей, – сказала хозяйка, – только в ум никак не возьму, как же это оплошал ты. Всегда аккуратный и рассеянностью не страдал до сих пор.
Пантелей двинулся к вешалке и вовсе опешил. Даже руками развел от неожиданности.
– Что там опять случилось? – заволновалась хозяйка.
– Уж поглядите сами, Лидия Ивановна. Подойдите сюда поближе…
Хозяйка робко подошла к вешалке и ахнула: то, что они с Пантелеем приняли за шубу Ивана Константиновича, была действительно его шуба., только написанная на стене.
– Вот проказник! – первая отозвалась, приходя в себя от удивления, хозяйка.
– Большая честь и память для дома, – строго заметил Пантелей.
…На следующую зиму Айвазовский опять приехал. Он дал знать о своем приезде накануне. Хозяйка уехала куда-то к родственникам, оставив дом на Пантелея. Старик тщательно убирал комнаты, готовясь встретить дорогого гостя, и без конца выбегал на крыльцо, выглядывал, не едет ли. Приехал Иван Константинович рано утром, когда Пантелей во дворе расчищал дорожку к сараю – ночью выпал обильный снег. Так что и не встретил, как хотелось ему. Извозчику пришлось долго стучаться в парадную дверь. Ужасно расстроился Пантелей. Иван Константинович успокаивал его и даже слово давал, что так лучше вышло; пока извозчик его дозвался, он успел, глядя на знакомый дом, вспомнить прошедшую зиму.
Снимая в прихожей шубу, Айвазовский вдруг оглянулся на Пантелея и глазами выразительно показал на белую чистую поверхность стены. Старик опустил голову, руки у него задрожали, и он, вконец расстроенный, выбежал во двор. Только за завтраком рассказал Ивану Константиновичу, что летом у них останавливался богатый купец-армянин из Тифлиса. Хозяйка показала ему на стене шубу, написанную Айвазовским. Перед отъездом купец выторговал ее за большие деньги.
– Купец привел сюда мастеров, – продолжал Пантелей, – они осторожно зубилом пробили штукатурку, а потом стамеской снимали ее вместе с дранью. Когда увозили вашу шубу, я ушел на целый день из дома. С хозяйкой я после этого поссорился… Она и уехала потому, что неловко ей перед вами.
Айвазовскому стало жаль старика, и он решил его успокоить:
– Мне к этому не привыкать, мой друг. Еще в молодые годы, когда я первый раз был за границей и много путешествовал, однажды в Бискайском заливе пароход наш выдержал жестокую бурю… Слух о шторме, которому подверглось наше судно, с необыкновенной быстротой и неизбежными прикрасами распространился по континенту: досужие вестовщики в список жертв, будто бы погибших в волнах, включили и мое имя. Этой напраслиной ловко воспользовался парижский продавец картин Дюран Рюэлль, у которого были две мои картины: он, поддерживая слух о моей гибели, продал их со значительным барышом. Через несколько времени после того, по прибытии моем в Париж, сам Дюран Рюэлль рассказывал мне об этом, смеясь своей находчивости… Твоя хозяйка такая же, как тот француз-коммерсант. Но ты-то Пантелей, ведь ни при чем. Мы с тобою по-прежнему друзья.
…Дни потекли счастливые, ровные. По утрам Айвазовский много работал, днем уезжал куда-то. А вечером Иван Константинович и Пантелей подолгу беседовали за чаем. Однажды утром Айвазовский проснулся раньше обычного. Он долго ходил по комнате, задерживался у окна и опять начинал ходить. Пантелей прислушивался к его шагам, и ему передавалось волнение художника.
Во время завтрака Иван Константинович глядел на Пантелея как-то особенно ласково и тепло. Старик предчувствовал что-то необычное сегодня, но и виду не подавал, что волнуется. Поднявшись из-за стола, Айвазовский спокойно сказал:
– Ты пойди соберись, Пантелей. Сегодня открывается выставка моих картин. Ты мне будешь нужен, поедешь со мною.
В выставочном зале, несмотря на ранний час, трудно было пробиться к картинам. Около каждой из них образовались тесные кружки знакомых и незнакомых людей. Каждый пытался доказать другому свое мнение, но все сходились на том, что рука старого художника с годами не слабеет. Появление Айвазовского сразу было замечено. Знакомые и друзья поздравляли его. Иван Константинович благодарил, отвечал на поклоны. Рядом с ним находился Пантелей. Посетители внимательно всматривались в его лицо. Старик был уверен, что этим вниманием он обязан Ивану Константиновичу, который, разговаривая с друзьями, все время держал его под руку.
Наконец Айвазовский направился к одной из картин. Все расступились, освобождая место художнику и его спутнику.
– А сейчас гляди, Пантелей, и суди, – сказал дрогнувшим голосом Айвазовский.
Старый Пантелей шагнул немного вперед и замер: прямо перед ним был Малахов курган. Два старых воина стояли, освещенные последними лучами заходящего солнца. Они пришли на этот священный для каждого русского курган. Во время обороны Севастополя здесь был смертельно ранен их любимый адмирал. Перед внутренним взором стариков-ветеранов опять воскресли те героические дни во всей славе и бессмертии. Пантелей еще приблизился и вдруг в одном из ветеранов узнал себя. Старик покачнулся и чуть не упал, но его подхватили стоявшие сзади люди.
Поддерживаемый с двух сторон посетителями, старик почти вплотную подошел к Айвазовскому и, с трудом сдерживая слезы, произнес:
– Спасибо, Иван Константинович… Не от себя только, а от всех ветеранов Севастополя, от всей России.
Старик хотел еще что-то сказать, но не смог, у него брызнули слезы, и он начал опускаться на колени.
– Что ты, Пантелей, разве так можно! – подхватил его Айвазовский.
Люди вокруг них хранили благоговейное молчание. А два старика – знаменитый художник и старый защитник Севастополя – стояли обнявшись.








