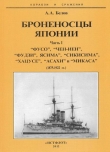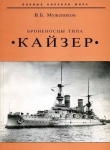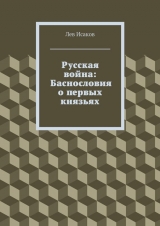
Текст книги "Русская война: Утерянные и Потаённые"
Автор книги: Лев Исаков
Жанры:
Cпецслужбы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Пушкин и сам понимает: надо мириться. Через пару недель после объявления помолвки, встретившись на вечере у общих знакомых с четой Дантесов-Геккерен, подошел в отсутствии жениха к Екатерине Николаевне и дважды предложил выпить шампанского за здоровье ее избранника – оскорбленная его отношением к суженому Екатерина Николаевна отказалась…
И по мнению г-жи Абрамович стала соучастницей умерщвления поэта…
Геккерен снимает и отделывает с неслыханной роскошью комфортабельные апартаменты для молодых. – Весь Петербург ахнул изяществу и вкусу обстановки, куда помещена молодая пара; вероятно, заставив прикусить губки Наталью Николаевну – Екатерина Николаевна стала баронессой, живет теперь значительно аристократичней, чем она. Геккерены устраиваются всерьез и надолго, и отнюдь не планируют покинуть Россию, один через 5 месяцев под конвоем; другой через год, ославленный и опозоренный.
Дантес восстанавливает пошатнувшиеся было отношения с общими знакомыми из пушкинского круга; сам по себе человек интересный, он дорожит и тянется в эту среду, лучшее что есть в Петербурге – и преуспевает в этом: Пушкин ни разу не переступил порог его дома, но его друзья бывают там все, единодушно отмечая изящную, приятную обстановку, царящую в нем.
Нет, если бы чувства и разум Александра Сергеевича – «самого умного человека России» – оказались не в разладе, он искал бы врага не там…
Враги свои и чужие
Профессиональная, а не интеллектуальная ограниченность литературоведов не позволяют им оценить политическую сторону 2 ноябрьских писем А. С. Пушкина (Геккерену-старшему и Бенкендорфу), и особенно 2-е, где А. С. фактически обращается к русскому обществу – но с чем? С обвинением некоторой политической силы, вторгающейся в его личную жизнь. Пушкин НЕ ВИДИТ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ – увидит его таковым общество; поэту приходится смириться – письмо не отправлено… Как показали последующие события, он был прав: и в оценке политического смысла вторжения в его семейную жизнь и в ожидаемой грядущей реакции на свое обращение – только после гибели поэта события 1836–1837 гг. начинают воспринимать возведением его на Голгофу; и лишь через несколько лет придут к осознанию национально-политического значения УМЕРЩВЛЕНИЯ ПОЭТА. Но политический характер интриги… он заявляется, декларируется, особенно в 1917–1980 гг., но не серьезно, плакатно, для мельтешни, т. е. без проработки, без установления интересов и мотивов лиц, смысла ходов – т. е. без осознания, единственно дабы пнуть во всем виноватое самодержавие; и мгновенно возвращает уровень исследований к исходному состоянию по миновании социально-политической конъюнктуры.
Николаевская Россия 1826–1840 гг. отнюдь не была тем застывшим комом, каким являло ее последнее десятилетие; она отнюдь не определилась, она еще рябила движением и в общественной практике и в умонастроениях императора: пока в армии и флоте наличествовали Дибич, Паскевич, Муравьевы (Кавказский и Сибирский), Грейг, Лазарев; в администрации Перовский, Воронцов, Киселев; в центральных ведомствах Канкрин, Мордвинов, Сперанский; пока жгли, не сгорали в феноменальной памяти Николая Павловича записки декабриста Корниловича, ему самолично заказанные, о полагаемых наиважнейших мерах государственного переустройства России, русское общество не было ни единым, ни каталепсированным. Борьба реакции с реформизмом? Азиатчины с Цивилизацией? Победителей с жертвами 14 декабря 1825 г.? Как это упрощенно.
Пушкина приглашали в Москву в 1826 году для того, чтобы установить определенный канал «влево» властью, понимающей, что из простого самосохранения нельзя воевать с 43 % полков армии (охваченных влиянием декабристов); он выполняет в отношении общества ту же роль, какую выполняет в армии Н. М. Муравьев (будущий Карский), создатель «Офицерской Артели» из которой вышли ВСЕ крупнейшие деятели декабризма; какую играет присутствие в службе Александра Тургеневы, брат которого Николай, приговоренный к отсечению головы, живет в Лондоне.
Но Пушкин в делах 1828–1829 гг. (Русско-Турецкая война), 1830–1831 (Польская кампания), 1833 года (Ункияр-Искелесский договор) выступает уже общественным рупором и иной, уже внутриправительственной партии.
Александр Федорович Орлов водил в кавалерийские атаки конногвардейцев на восставшее каре, но выходец из знаменитых Орловых, шеф ли он жандармов или цареубийца, как дяди или сподобилось брату Михаилу – весь природно-русский до кулаков, глотки, фанаберии, свилемысленности; и подпишет блистательный Ункияр-Искелесский протокол в 1833 году – а в 1856, в Париже, в труднейших условиях вырвет самые необременительные статьи итогового замирения.
Генерал-губернаторы Перовский, Муравьев-Амурский конечно загонят, упекут, засекут, но и в мыслях не допустят поступиться чем-либо из интересов Империи, Российской империи, России. Где-то на верхних пределах это чувство было общим и у солдафона Михаила Павловича, и у фрондирующего тигра Алексея Ермолова, и у литератора Александра Пушкина; и у полукарбонари Виссариона Белинского – пока он в осмыслении: без сильной России не будет вольного русского мужика, станет белым негром на плантациях м-ра Смита. Остальное уже частности: сильнее или слабее становится Россия от обладания Привислянскими губерниями; стоит ли воевать 25 лет за линию Кавказа, чтобы не стали там дивизии Клайвов и Регланов… – это метод.
И есть нечто принципиально другое: отрицание историчности и естественности России (Чаадаев); русской политической самодеятельности (Нессельроде); экономической и практической самобытности (А. Меншиков); своеобычая русской культуры и мысли (Печерин, Сенковский, Каченовский). Их значение и влияние, резко возросшее в последние годы царствования Александра I с его мистицизмом по англиканскому, сентиментализмом по немецкому, полонизмом по французскому, легетимизмом по австрийскому покрою обратило русскую политику в придаток Венской – теперь резко пошатнулось в активном начале николаевского царствования когда отставлен был Аракчеев; прекращена деятельность «Библейского общества» и иезуитов; Нессельроде обращен в род почтового ящика для дипломатических пересылок, не более. До петрашевского дела, оттолкнувшего императора к покою могилы, граница их падения не была означена…
Только одно ведомство Российской империи в эти годы источало мертвечину и гиль – Министерство Иностранных Дел, прямое выражение нарастающей евроманической амнезии Последних Романовых, после отставки Н. Панина всецело обратившееся в канцелярию дворца, государеву игрушку, возглавляемое непрерывной чередой исполнительных безгласных чиновников, каменных задниц, канцелярских регистраторов от Безбородко до Извольского, с замечательно дутой величиной канцлером А. Горчаковым посередине, паразитирующем во внешней политике на созиданиях О. Бисмарка, во внутренней на памяти А. С. Пушкина; закоснелое ведомство, когда требуется его поистине государственная работа, приходится выполнять ее человеку со стороны: Александру I на Венском конгрессе; А. Ф. Орлову на Парижском; С. Ю. Витте на Портсмутском; иначе, не приведи бог, дело кончится таким провалом, как оскандалился А. Горчаков на Берлинском, показав английскому уполномоченному список предельных русских уступок на Балканах – которые англичане и востребовали у русской стороны! Ведомство, в котором числится такое количество недоброжелателей Пушкина, и к которому тяготеют его самые опасные, уже политические, враги из т. н. «Кружка Нессельроде», т. е. политического салона графини Марии Дмитриевны, в одном пальце которой больше жизни, чем во всем ее стручке-муже. И в котором в чине титулярного советника числится и сам Пушкин, правда на особом положении, при Экспедиции бумаг, как прикомандированный к приисканию материалов для написания Истории Петра Великого.
Обратил ли кто внимание, как необычно много пребывает вокруг Пушкина иностранцев в 1834–1837 гг.: Блай (Английское посольство); Барант (Французское); Геккерен (Нидерландское); Фикельмон (Австрийской) – секретарь английского посольства Меджинис едва не стал секундантом Пушкина по последней дуэли. Отбрасывая детали, можно утверждать, что оформление этих связей свидетельствует о признании политического фактора «Пушкин» уже и внимательным дипломатическим корпусом; при этом если присмотреться, то заметно, что наиболее высокопоставленные знакомые Пушкина гнездятся в континентальных посольствах, но по числу знакомых, по методичности встреч определенно преобладает английское, ненавязчиво и плотно обложившее его своими секретарями, так что на спектаклях его визавирует Блай, а в книжной лавке Смирдина Меджинис – и судя по эпизоду с секундантством немало в том преуспело: сами понимает, на такое дело приглашают людей доверительных… Попутали Парламентарию с Богдыханией? Англичане, ведущие каждодневно дела в бесчисленных восхождениях обществ всех континентов, никогда ничего не путают!..
Вот изящная сценка, как Меджинис выпутался из щекотливого положения с секундантством: он не стал отказываться в тот же час, ссылаясь на свой дипломатический ранг, щекотливое по-ложение иностранца в таком глубоко-интимном и национально-чувствительном деле, все узнал и взвесил, и отказался через день, мотивируя тем, что убедившись в невозможности попыток примирения противников, не может и участвовать в дуэли, т. к. это именно и есть главная задача секундантов. – Ух ты, как закручено!..
Браво!
Но англичанин не может не знать, что дуэль все равно состоится; и тем более хорошо знают в английском посольстве, что практика русских дуэлей давно обратила их в узаконенное «убийство с самоубийством» – и привязывать гибель поэта к имени Англии уклонились; но не от умерщвления поэта… Т. к. Меджинис несомненно поставил английского посла в известность о необычайном предложении Пушкина, то ИМЕННО АНГЛИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО первым узнает, еще до 26 января, о грядущей дуэли и о весьма возможной гибели поэта; причем без примысливания, в разговоре с Меджинисом Пушкин сообщает ему и обговоренные условия дуэли: стреляться на 10 шагов до тех пор, пока противники в состоянии вести поединок, т. е. едва ли не до гибели одного или обоих.
Кстати, раз уж коснулись этой темы, а почему такие свирепые условия дуэли? Они не самые жестокие, в русской практике была страшная дуэль Чернова с Новосильцевым, когда стрелялись на 5 шагах и мгновенно пали оба – но это свои; западная практика исходила из 40—50-метровых дистанций, и Пушкин, а сейчас окончательно признано, что именно он диктовал условия поединка, мог подстроиться под нее и Дантеса – не стал… Любопытно, что тут обожатели-пушкинисты скромно потупляют глазки «страстно желал убить оскорбителя», что уж вовсе негуманно и не по христиански.
Скажите, кому была на руку оттяжка дистанции шагов этак до 20, превосходному стрелку Пушкину или посредственному стрелку Дантесу, старательно утаивавшему свою близорукость? При увеличении дистанции шансы Дантеса падают почти до нуля – Пушкин только увеличивает свою безопасность. Нет, Александр Сергеевич держал еще свой дуэльный кодекс; своим счетом отграничивал дуэль от убийства – но и повышал свой шанс гибели. Кстати, если бы так неудержимо, вырвавшимся из-под контроля дьяволом желал он убийства Дантеса, он обратился бы к другому оружию: Пушкин был замечательным фехтовальщиком, одним из лучших в России, упомянутым даже в изданном при его жизни во Франции 2-х томном руководстве по фехтовальному искусству; если на пистолетах были и лучшие стрелки, Липранди, Толстой-Американец, то в бою белым оружием соперников у него практически не было, и он мог навязать Дантесу любой исход поединка…
Русское светское общество относилось к Меджинису снисходительно, называло «больным попугаем» (по-французски); Пушкин ставил значительно выше, «уважал за честный нрав», в чем сходился во мнении с английским МИДом, удостоившим петербургского секретаря впоследствии звания посла (в Португалии) пост, который достигают менее 1,5 % профессиональных дипломатов – определение дипломата, данное англичанином лордом Темплом я уже приводил.
Нет пророка в своём отечестве?
Но сложные завуалированные поползновения на Пушкина из политической области начались значительно раньше. Очень знаменательно выглядят в этой связи обстоятельства получения А. С. камер-юнкерского звания. В книге С. Абрамович «Пушкин в 1833 г. Хроника» за пределами попыток выслуживающейся бабёнки отмыть поэта от юношеского карбонаризма и русского максимализма, есть примечательное совпадение, прошедшее мимо куриных мозгов сей дамы.
29 декабря. Бал в Аничковом дворце по приглашению императрицы; всего присутствует 111 человек, кроме лиц царствующей фамилии «присутствуют 4 иностранных принца…, граф Нессельроде с супругой…., гр. А. Ф. Орлов… Бал окончился в 35 минут 4-го часа».
30 декабря. [Суббота] Граф К. В. Нессельроде извещает письмом министра Двора князя П. М. Волконского о пожаловании титулярного советника Александра Пушкина в звание камерюнкера «О сей Высочайшей Воле сообщаю Вашему Сиятельству для зависящего от Вас, Милостивый Государь, во исполнение оной распоряжения».
Т. е. камер-юнкерство Пушкина было решено прямо на балу, тет-а-тет Николаем и Нессельроде; очевидно, кто «решал», но кто «представлял» и «редактировал»?
Красноречиво свидетельство Льва Сергеевича Пушкина о реакции брата:
30 декабря «Брат мой… впервые услышал о своем камер-юнкерстве на бале у гр. А. Ф. Орлова. Это сбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по по-воду его назначения». Получается, что назначение либо было совершенно неожиданно, либо не тем, что полагали… но кто спровоцировал этот внезапный курбет?
А как реагировал на это сам хозяин кабинета, только что летом подписавший блестящий Ункияр-Искелесский договор, который разом повернул к нему внимание всего русского общества – оказывается, граф силен не только пудовыми кулаками и не одним опричным рвением; один из тех темномысленных, дальностелющихся русских богатырей, генетическое продолжение дядюшки Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, львиноголового Алексея Петровича Ермолова и колеблющегося в бликах выше и далече всех Михаила Илларионовича Кутузова – выражение русскости души Николая Павловича, а вокруг, недалече и стайно: николаевский Аракчеев П. В. Голенищев-Кутузов; красиво-надменный В. С. Перовский; талантливо-честолюбивой А. М. Муравьев…Еще летом, в компании 3-х Языковых Пушкин обсуждал блистательное докончание с Портой о Черноморских проливах – 28 декабря на вечере у Салтыковых подойдет к красующемуся генералу и в отличнейших выражениях, с умом и тактом поздравит царского любимца с успехом, от души и сердца, безгрешно; человеку незаурядному, крупному такие признания от сильной натуры особенно приятны. А. Ф. Орлов, с другом которого Перовским А. С. несколько лет назад перешел на «ты», а в доме брата М. Ф. желанный гость перешел на доверительный тон, состоялся длительный разговор, следы которого, касавшиеся разных лиц отложились в записках Пушкина, что примечательно: А. С. писал их мало, по важным случаям и особым «тайноплетным» языком, упоминая детали для лучшего запоминания и опуская суть.
Ну и что, что бравый молодец в конногвардейских конюшнях подзабыл географию и называет Александрию Александриной, как злорадствует умник-Муравьев – через 20 лет, в труднейших условиях военного поражения, подкреплённый для «Александрин» терто-ученым Гирсом, в Париже он полностью переиграет английского кумира Пальмерстона, вырвет снисходительнейшие условия мира, и оставит потомкам идею франко-русского союза, как основу безопасности и стабильности Европы. Увы, Наполеон III, мелкий домушник, ее не понял, не оценил, и упустил единственный шанс сделать свою монархию-монстр в республиканской стране долговременной и национально значимой.
Как-то сами собой начинают роиться мысли о неких перемещениях, сравнивая молодого богатыря, только что делом доказавшего «слуга царю, отец солдатам» с тем окостенелым теловычитанием, прямым воплощением Параграфа, каким являл себя гр. К. В. Нессельроде, и только ли у толпы – а в глазах императора, который, в отличие от покойного брата, крупных мужчин не ревновал? Лишь убежденность Николая в собственном внешнеполитическом предначертании удерживает Нессельроде у руля МИД; императору, самовластно играющемуся в политику, сильный штурман не нужен, нужен такой безропотнопослушный почтовый ящик, куда можно спустить и письмо, и плевок. Но это неявно – очень многие летом 1833 года оценили миссию А. Ф. Орлова в Стамбул как прикидку нового главы МИДа – и восприняли долгий разговор графа с поэтом как очень многозначительный и обращенный в тот же МИД.
И молниеносная реакция – 30 декабря А. С. Пушкин узнает о своем камер-юнкерстве… Полученном от Николая? Или исхлопотанным графом Нессельроде? Можно ведь действовать намеками, упирая например на то, что 2-я красавица Петербурга (первой – «в классическом стиле» – называли… простите, подзабыл, не суть важно) немало бы способствовала блеску этих интимных «Аничковых вечеров» в своем «романтическом амплуа»; а чин – по регламенту… Ах, как нравится Николаю Павловичу действовать по уставу, в солидной справедливости параграфов – достаточно подкрепить его внутреннюю убежденность.
Вот любопытно, случайна ли такая, причем обоюднонаправленная бестактность: по доверию правительства писать Историю Петра Великого А. С. Пушкин историограф династии, т. е. камергер; и министры, да не шуточные, а военный А. Чернышев, иностранных дел К. Нессельроде, финансов Канкрин ведут себя на его запросы соответственно – а придворный чин присвоен по служебному званию в МИДе «камер-юнкер». Это и прямое нарушение практики и традиций: объявив Н. Карамзина историографом империи Александр I сразу, по примеру западных дворов, предложил ему камергерство; и дело стало за принципиальным отказом Николая Михайловича вступать в любую службу, как ограничивающую его творческую независимость. Это и неприлично: нарушение регламента, даже умаление чести династии: к династическим тайнам допускается лицо 9 класса… – да Николай Павлович тут сам на себя не похож! Грибоедову, вполне причастному и к декабристским и к ермоловским шашням, которого даже арестовывал – по заключению Туркманчайского мира вручил звезду, 20 тыс. червонцев (200 тыс. рублей), чин статского советника —…на, держи; не тебе, успехам империи даю…; здесь свели Историографа Империи до 18-летнего шалопая!
Кажется, не обращено должного внимания реакции властей на эпатажи Пушкиным придворного звания: и бешеными выходками у Орлова, и резкой тирадой Михаилу Павловичу, и прямым уклонением от исполнения придворных обязанностей; выговоры, внушения, пожелания, и не больше… Николай и сам чувствует, что попал впросак – но по своей ли прихоти? У Н. П., как администратора есть два хороших качества: он не имеет привычки прятаться за спины подчиненных, принимая все укоризны по своему ведомству-России на себя; он умеет переступить через себя и признать очевидную ошибку. Напомню его знаменитую реакцию на гоголевского «Ревизора»:
– Всем досталось, а мне больше всех!
И неслыханное растиражирование комедии по театральным подмосткам России с почина императорских казенных театров. Как и ясное, безоговорочное (в отличие от Николая II – в случае японской войны) признание своей вины в крымском поражении.
– Я хотел оставить тебе страну устроенной… [объяснение с Александром Николаевичем]
Не сумел.
Оставил Н. М. Муравьева-Карского, от Эрзерума шедшего на Стамбул и Смирну; оставил 200 канонерок Балтийского флота, вытеснивших англо-французов из шхер и от балтийского побережья; оставил Перовского, Муравьева-Амурского, Завойко, в Азии двигающих границу на Памир, Алтай, Корею; оставил А. Ф. Орлова, Г. Бутакова, А. Попова, Лесовского, Шестакова, Унковского, Шильдера, Бурачека, Амосова, Афонасьева, Мельникова, Якоби, Тотлебена…
Помните, как говорил другой Государь:
– Кадры решают все…
По месту вспоминается, как лично, пригласив во дворец Н. М. Муравьева, честно и прямо попросил его переступить через старинные и справедливые обиды, взять на себя Кавказ, приказав наследнику престола:
– Подай стул генералу.
(Александр Николаевич не простит Н. М. подобного «унижения» и в разгар русских успехов отзовет его с Анатолийского театра по смерти отца, чем немало ослабит русские позиции на переговорах в Париже).
Мало значит поэт на Руси!
Столь важные ноябрьские письма так и не были отправлены: кульминацией ноября стала личная встреча поэта с царем во 2-й половине дня 23-го числа, о чем в камер-фурьерском журнале по-явилась запись «аудиенция после прогулки» А. Х. Бенкендорфу и «КАМЕР-ЮНКЕРУ А. Пушкину». Из записи не ясно, была ли встреча общей или порознь; поэтому С. Л. Абрамович строит свою версию встречи на предположении простого совпадения перечисления имен, и что Бенкендорф был принят первым по своему ведомству, а уже после, приватно и Александр Сергеевич – тем самым утверждая «семейно-камерную» линию конфликта, конечно «социального», но не «узко-политического», тем более «злободневно-политического». Что ж, материал сам по себе допускает и такую трактовку событий, но система косвенных обстоятельств тому вполне противоречит. Прием Бенкендорфа выходил за практику обычных расписанных утренних приемов министров и ответственных за ведомства сановников империи; Бенкендорф прямо являлся «наставником» и «руководителем» Пушкина, его каналом к императору – и одновременно веревочкой, на которой его держали. Совершенно не выдерживает критики утверждение о «неприличности в сознании поэта» обсуждать его семейные дела «на троих» – ноябрьские письма прямо свидетельствуют, что Пушкин оценил нападение на себя как политическое, а не личное, первоначально довольно спокойно отнесясь к возникшим кривотолкам по поводу самих дипломов, и их содержанию. Император вполне осведомлен, и по перехваченному диплому и по обращению В. А. Жуковского, о чем будет идти речь; он тоже насторожился против политического подтекста дипломов и ничего «личного» во встрече не видит. Поэтому приглашение А. Х. Бенкендорфа и естественно и желательно, с тем, чтобы незамедлительно отдать распоряжения о потребных мерах.
О чем говорили поэт и император мы не знаем, и скорее всего не узнаем никогда; есть какие-то обрывки, например, что Николай Павлович взял с поэта слово ни в коем случае не участвовать в дуэли; обещал разобраться уже правительственными средствами. Вообще-то с момента официального обращения Пушкина он оказывался и некоторым его должником: получалось так, что поэт вступался не только за честь себя и жены, но и за государеву, – и можно полагать, этим Николай Павлович обосновывал необходимость не частных, а официальных действий, вроде следующего:
– Тебе, Пушкин, досталось, но мне-то еще больше!
Наконец, обращением к царю поэт демонстрировал и личную лояльность Николаю – это уже следовало вознаградить…
И наверно, прозвучали какие-то слова:
– Ты обижаешься на невысокий чин – это было твое испытание. Александр Христофорович еще не вполне уверенный в твоих действиях, хвалит преотлично твои побуждения и сердце. Я в этом удостоверился и откроюсь: производство твое решено, пусть только умолкнут кумушки, чтобы тебе и Наталье Николаевне оно было в честь, а не в укоризну.
И уже другим, деловым языком А. Х. Бенкендорфу по удалению поэта:
– Пушкина считать камергером с производством от сего числа, но не разглашать до особого распоряжения. По другим обстоятельствам учредить следующие меры…
История Пушкинского камер-юнкерства вполне подтверждает возможность подобного хода, ведь оно также было решено между императором и гр. Нессельроде, в отсутствие министра двора П.В. Волконского, которого только известили, при этом даже не император, обществу же могли и не оглашать… Последнее же вполне объясняет, почему для полиции, суда, гвардейских офицеров Пушкин «камергер», а для камер-фурьерских официальных журналов «камер-юнкер».
Вот любопытно, внимание и материальная помощь семье погибшего поэта почти всем показались «чрезмерными»[22]22
Мало значит поэт на Руси…
[Закрыть]; как выразился московский почт-директор А. Я. Булгаков «Пушкин, проживи 50 лет еще, не принес бы семейству своему той пользы, которую доставила оному смерть его».
Да, если это мерить «камер-юнкерской» колокольней, но отнюдь не «камергерской». Современники очень хорошо почувствовали, что проплачивалась «пушкинская линия», не прелести Н. Н. – позволю предположить, и пушкинский чин, материальное свидетельство вызревавших новых отношений, которых через несколько месяцев устрашились и убрали их следы…
Весь декабрь и оставшуюся ему часть января 1837 года А. Пушкин живет в предельном напряжении – и одновременно исключительный деловой подъем, встречи, комплектация 4 и 5 номеров «Современника», поиск и переговоры с массой авторов, перелом в прибыльности журнала… Почему-то никто не задает вопроса, что было источником такой необычной его душевной устойчивости, при обычных-то пушкинских метаниях между дружбой и дуэлью.
Не проще ли предположить, что Александр Сергеевич, за пределами поэзии нормальный русский дворянин, мужик и бабник, уже знает, успокоен, что и к нему пришел жизненный успех, что надо только переждать, пока утихнут склоки, сплетни; и новые, уже не только литературные, но и государственные поприща откроются перед ним, что скоро отпадет проклятая нужда, копеечные счеты – только перетерпеть… Осуществится то, о чем заявлял в 1830 году.
– Направление мое становится преимущественно политическое…
С. Абрамович целой главой описывает деловой подъем, охвативший Пушкина после 23 ноября и не прерывавшийся даже утром 27 января… И предполагает-декларирует, что именно в своей «предпринимательской самодеятельности» черпает Александр Сергеевич силы своим упованиям, на будущее – никак не творческой! Так сказать, «разумно перестроился»… Но это же совершенная чушь: даже после успеха 3-го номера «Современника» стало очевидным, что тираж более 1000 экз. непреодолим, т. е. при отпускной цене 2 руб. оборот не превосходит 2000 руб.
Согласие в убыток себе передать издание собрания сочинений с привилегией на 4 года в другие руки дало не более 11 тыс. рублей. Его жалование титулярного советника 5000 руб. уходит на платежи долга в казну. Доля в разоренных имениях Гончаровых, и Михайловском, обремененном совладением с сестрой и братом ничего не дают; точнее дают так нерегулярно и клочками 1000–2000 руб., что их в расчет даже нельзя принять. Кистенёвка в Нижегородской губернии дважды заложена и таком состоянии, что казна уклонилась ее остаточно купить: даже уважающий А. С. граф Канкрин счел это нарушением государственных интересов.
Между тем Пушкины проживаются на 20 тыс. руб. в год, при самом необременительном образе, в четыре руки пересчитывая месячные счеты и как особый случай отмечая покупку бутылки дорогого шампанского, столь воспетого «Клико», разливающегося по стихам поэта рекой… Было! Теперь особо отмечается покупка 1 бутылки «Клико» и 2-х бутылок хорошего вина на именины Натальи Николаевны. И эти счеты неуклонно растут по мере увеличения семьи…
Всех усилий А. С. покрыть эти минимально необходимые 20 тыс. рублей годового бюджета и 45 тыс. собравшегося долга совершенно недостаточно! А он напряжен, бодр, и почти весел – когда вырывается за пределы мучительной личной драмы… Вы его за идиота-оптимиста полагаете? Скорее он был нервносрывчатой натурой с перепадами настроения от черной меланхолии до неудержимого веселья, малостойкой при длительном внешнем давлении, что является отчетливой особенностью артистической натуры: качество стали – твердость и хрупкость… И если Пушкин, один из образованнейших политэкономов России («…читал Адама Смита…») энергично занимается этими делами, которые сами по себе банкротства никак не отдаляли, а по внешне-нетворческому характеру не поглощали тревоги в бушующем созидательном демоне – то полагал тревожное обстоятельство уже преодоленным, опосредованным иной коллизией. Какой?
Самоубийцы становятся в канун рокового акта спокойно расчетливы с друзьями и врагами, заботливыми в отношении близких – уже зная, что это их не касается… Этого не было, и не только потому что Александр Сергеевич оставлял по себе двуликую жену; но и 4-х детей, к которым пристрастился с жаром не знавшей детской ласки души. Вот крохотный, но очень важный штрих, направив утром 27 января писательнице (…«истористка» – черт бы ее побрал!..) О. Ишимовой записку с извинением о невозможности встречи, он обговаривает ее перенос на ближайшие дни… самоубийца ограничился бы единственно извинением – «из газет узнает». Дуэль была для него только разовым актом, только убийством Дантеса, ставшего непереносимым; он даже не берет в расчет, что дуэль двунаправлена, полагаясь на свое искусство стрелка, вгоняющего на 10 метрах пулю в бубновый туз.
Откуда, в условиях 1836 года могло прийти освобождение от безденежья? Только из дворца. Можно определенно утверждать, что если император поднял вопрос о камергерстве, то сразу же возникал вопрос о возросших представительских расходах, и дано было в какой-то форме его решение, например:
– Я не дал тебе того содержания, что мой покойный брат дал Николаю Николаевичу [Карамзину], у меня были сомнения: Николай Николаевич к пожалованию в историографы уже явил 5 томов «Истории Государства Российского» – у тебя того не было. Теперь они отпали, твое содержание будет не хуже чем у Николая Николаевича и Василия Андреевича [Жуковского, камергера и воспитателя наследника].
И не на знании ли того основаны декабрьские эскапады Дантеса – он как будто не боится повторения вызова; С. Абрамович утверждает, узнал о честном слове, данном императору – ну-ну… Ты прежде был камер-юнкер в 37 лет и так легко нападал на мою карьеру – попробуй-ка теперь, каково терять «камергерство», «ваше превосходительство»; ты меня хочешь УБИТЬ – я тебя ВЫСМЕЮ… Действительно, что смешнее, 38-летний ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Двора вызывает на дуэль 24-летнего ПОРУЧИКА Кавалергардского полка – животики надорвешь! А знаете, он ведь смелый парень, напускающийся, как-никак, на сановника империи…
А император?
– А ты постой вот так, навытяжку, перед собачонкой, попривыкай: любишь кататься – люби и саночки возить!
От водевильной склоки – к трагедии
Событие, сорвавшее эту «Комедию для всех – Трагедию для одного» было внутреннее, психологическое, непредсказуемое; обратившее мучение в невроз – «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Это все заметили; исследователи выделили, почти единодушно согласились, что оно оказалось неожиданным для всех: и друзей, и врагов, и зевак.