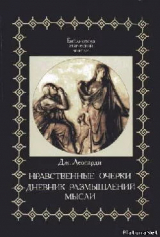
Текст книги "Разговоры"
Автор книги: Леопарди Джакомо
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
XI.
Фредерик Рюиш и его мумии.33
Фредерик Рюиш, знаменитый голландский анатом (1638—1731), прославился своими анатомическими консервами различных частей человеческого тела. Прим. пер.
[Закрыть]
Рюиш (стоит у дверей своей мастерской и смотрит в замочную скважину). Что за черт! Кто это научил музыке этих мертвецов, которые распевают, как петухи в полночь? Меня бьет лихорадка, и я чувствую, что скоро помертвею более их самих... Предохраняя их от разложения, мог-ли я предполагать, что они у меня воскреснут? Да, вот, – философствую, а у самого зуб на зуб не попадает. Черт побери того дьявола, который надоумил меня держать у себя в доме этот народ! Просто не знаю, что делать. Если запереть их, они, чего доброго, выломают дверь или проскользнут в замочную дыру, да и явятся к моей постели. Звать на помощь против мертвецов – статья не подходящая. Однако, попробуем ободриться и попугать их немножко... (входя). Детки, что это за игра? Что за шум? Разве вы забыли, что мертвы? Если вы воскресли, – очень рад; по предупреждаю, что у меня нет средств содержать вас живых, а потому прошу оставить мой дом. Если-же вы, как говорят, принадлежите к породе вампиров, то прошу вас покорнейше утолять свою жажду в другом месте, так как я нисколько не расположен дать вам высосать свою собственную кровь. Словом, если вы будете спокойны, как были до сих пор, – мы будем жить в ладу, и вам у меня ни в чем не будет недостатка; в противном случае, я сейчас-же беру дверной засов и убиваю вас всех!
Мертвец. Не сердись. Мы мертвы и останемся такими без твоей помощи.
Рюиш. Но откуда же у вас явилась эта фантазия петь?
Мертвец. Сегодня в полночь, в первый раз исполнился тот знаменитый математический год, о котором так много рассказывают древние писатели; мертвые говорят сегодня в первый раз; и не только здесь, но на всяком кладбище, в каждой могиле, на дне моря, под снегом, под песком, под открытым небом, – везде, все мертвые пропели в эту полночь песенку, которую ты слышал.
Рюиш. Сколько-же времени продолжается ваше пение и разговор?
Мертвец. Пение уже кончилось. Говорить мы можем четверть часа, а потом снова погружаемся в молчание до тех пор, пока опять не исполнится этот год.
Рюиш. Если это так, я полагаю, что вы уже не потревожите меня в другой раз. Болтайте-же свободно, а я постою здесь в стороне и с удовольствием послушаю вас.
Мертвец. Мы не можем говорить иначе, как отвечая кому нибудь из живых. Кому нечего отвечать, тот все кончает одной песенкой.
Рюиш. Это очень жаль, что вы не можете: любопытно было бы узнать, о чем-бы вы стали рассуждать между собою?
Мертвец. Если-бы мы и могли, ты ничего не услыхал-бы, потому что нам нечего сказать друг другу.
Рюиш. У меня в уме тысячи вопросов, но так как времени мало и выбирать нельзя, то – объясните мне вкратце, какие телесные и душевные ощущения вы испытывали в минуту смерти?
Мертвец. Что касается до самой минуты смерти, то я совсем не заметил ее.
Другие мертвецы. И мы также.
Рюиш. Как не заметили?
Мертвец. Так-же, как и ты не замечаешь того мгновения, когда погружаешься в сон.
Рюиш. Но сон – вещь естественная.
Мертвец. А смерть тебе кажется неестественной? Укажи мне человека, животное, растение, которые бы не умирали?
Рюиш. Ну, если вы даже не заметили, как умерли, я уж не удивляюсь тому, что вы распеваете песни. Я полагал, что об этом обстоятельстве ваш брат знает побольше нас, живых. Но, серьезно, вы не чувствовали никакого страдания в минуту смерти?
Мертвец. Какое-же страдание может чувствовать тот, который даже не замечает его?
Рюиш. Но все-же убеждены, что чувство смерти причиняет сильнейшее страдание.
Мертвец. Как будто смерть – чувство, а не что-нибудь противоположное ему?
Рюиш. Но как те, которые смотрят на душу с точки зрения эпикурейцев, так и те, которые держатся в этом отношении общего мнения, – все, или по крайней мере большинство, согласны со мною, т. е. думают, что смерть по самой природе своей есть живейшее страдание.
Мертвец. Спроси-же с нашей стороны тех и других: если человек не в силах заметить того момента, когда его жизненные процессы прерываются сном, летаргией, обмороком и т. п., как-же он может уследить тот миг, когда эти процессы прерываются уже не на время, а навсегда? Кроме того, каким образом смерть может дать место какому-нибудь живому чувству? Разве она сама живое чувство? Каким образом человек может быть способен к сильному чувству в то время, когда способность чувствовать не только ослабевает и уменьшается, но сводится к нулю? Или вы думаете, что самое замирание чувствительной способности должно давать сильное ощущение? Но ведь вам известно, что даже те, которые умирают от острых и жестоких страданий, при приближении минуты смерти, прежде последнего вздоха, успокаиваются и как-бы отдыхают; причем видно, что жизнь их, приведенная к едва заметной величине, уже неспособна ощущать страдания, так как это последнее кончается раньше ее?
Рюиш. Эпикурейцам, пожалуй, достаточно этих рассуждений, но ими не могут удовлетвориться те, которые судят о существе души иначе, как напр. судил и сужу я, в особенности теперь, когда своими ушами слышал, что мертвецы поют и говорят. Полагая, что смерть заключается в отделении души от тела, я не могу понять, каким образом эти две вещи, соединенные, почти слитые между собою в единую нераздельную личность, могут разделиться без особенных усилий и мучений?
Мертвец. Скажи мне: разве душа пришита к телу какими-нибудь нервами, мускулами или перепонками, которые должны разорваться при ее отделении? Или, может быть, душа – один из членов тела, и потому должна с болью оторваться от него? Разве ты не замечаешь, что она уходит из тела настолько, насколько ей препятствуют там оставаться, на сколько там для нее нет места? Скажи мне еще: разве в то время, когда вы получаете душу при рождении, вы живо чувствуете, как она входит в ваше тело или, как ты говоришь, сливается с ним? А если нет, почему-же она дает чувствовать себя при выходе? Будь уверен, что то и другое совершается одинаково спокойно и легко.
Рюиш. Но что-же такое смерть, если не страдание?
Мертвец. Скорее удовольствие, нежели что-нибудь другое. Смерть, как и сон, наступает не в одну минуту, но постепенно. Конечно, степени эти более или менее продолжительны, смотря по роду и причине смерти. В последнюю минуту смерть не приносит ни страдания, ни удовольствия, как и сон. В другие-же, предшествующие минуты, не может быть причин для страдания, потому что страдание есть чувство живое, а чувства умирающего человека умирают вместе с ним. Но для удовольствия есть причина, потому что оно не всегда бывает живо: большая часть человеческих удовольствий состоит в некотором томлении, так что они большею частью наступают в то время, когда самые чувства гаснут; кроме того, часто самое томление составляет удовольствие, особенно когда оно избавляет вас от страдания, потому что, как ты сам знаешь, прекращение какого-нибудь страдания есть уже само по себе удовольствие. Отсюда, – томление смерти должно быть приятно уже потому, что оно освобождает человека от страдания. Что до меня, то хотя я в час смерти и не обращал особенного внимания на свои ощущения, потому что доктора запретили мне утомлять мозг, однако я помню, что ощущения эти немного разнились от того удовольствия, которое человек обыкновенно чувствует, засыпая.
Другие мертвецы. И мы также помним это.
Рюиш. Пусть будет по-вашему, хотя все те, с которыми я рассуждал по этому поводу, утверждали совершенно противоположное: ведь они говорили не по опыту. Теперь скажите мне: чувствуя это странное удовольствие, сознавали-ли вы, что умираете и что это удовольствие есть не более, как любезность со стороны смерти, или воображали что-нибудь другое?
Мертвец. Пока я не умер, я был убежден, что избавлюсь от этой опасности, и до последней минуты думал и надеялся прожить еще час-другой.
Другие мертвецы. То-же самое было и с нами.
Рюиш. Так и Цицерон говорит, – что нет такого старика, который-бы не обещал прожить еще по крайней мере год, но как-же вы заметили, наконец, что душа ваша вышла из тела? Скажите: почему вы знаете, что действительно умерли? Не отвечают. Дети, вы не слышите меня? Должно быть, прошло уже четверть часа, и они снова умерли. Пощупаем их немножко. Совершенно умерли! В другой раз я уже не стану бояться... А теперь воротимся в постель.
XII.
Колумб и Гутьеррец.
Колумб. Чудная ночь, друг!
Гутьеррец. Действительно чудная; но она была-бы еще лучше, если-бы мы любовались ею с земли.
Колумб. Ага, и ты уже устал плавать!
Гутьеррец. Говоря вообще, я не устал; но наше настоящее плавание уж черезчур продолжительно и начинает мне немного надоедать. Однако, не думай, что я жалуюсь на тебя, как другие: будь уверен, что какое-бы ты ни принял решение касательно нашего путешествия, я буду следовать ему, как и прежде, от всего моего сердца. При всем том, я-бы очень желал, чтобы ты мне ответил точно и вполне искренно, уверен-ли ты попрежнему, что найдешь землю в этой части света, или-же время и опыт поколебали в тебе эту уверенность?
Колумб. Говоря откровенно и как другу, который умеет хранить тайны, признаюсь тебе, что немного поколебался, тем более, что с течением времени многие признаки, подававшие мне большие надежды, оказались пустыми, как напр. птицы, которые пролетали над нами с запада и которых я считал предвестниками недалекой земли. Кроме того, я ежедневно замечал, что предположения, которые я делал до путешествия, не оправдывались относительно многого; если-же эти предположения, которые казались мне почти достоверными, могли меня обмануть, то и самое главное из них, – что мы найдем землю по ту сторону океана, – также может не оправдаться. Правда, оно имеет такие основания, что если окажется ложным, то в таком случае нельзя уже доверять никаким человеческим суждениям, за исключением тех, которые основаны на очевидности. Но, с другой стороны, я знал, как часто теория расходится с практикой, и говорил самому себе: как можешь ты знать, что все части света походят друг на друга, и на том основании, что эмисфера востока занята землей и водой, утверждать, что и западное полушарие состоит из того-же? Разве оно не может быть единым безбрежным морем? Почем ты знаешь, что, вместо воды и земли, оно не занято каким-нибудь другим элементом? А если и так, – разве оно не может быть необитаемым и неспособным к обитанию? Но допустим и это, – почем ты знаешь, что его обитатели – разумные твари, что они именно люди, а не какие-нибудь другого рода разумные животные? Если-же они люди, разве они не могут в высшей степени отличаться от тех, которых ты знаешь? Может быть, они больше нас, живее, умнее, цивилизованнее, богаче наукою и искусством? Так я думал и думаю про себя. И действительно, природа так могущественна и явления ее так многочисленны и разнообразны, что не только нельзя делать заключений об ее деятельности в местах отдаленнейших и неизвестных нашему миру, но нельзя и отрицать того мнения, что вещи неизвестного нам мира более или менее чудны и странны на наш взгляд. Вот мы собственными глазами видим, что в этих морях магнитная стрелка значительно уклоняется от своего обычного направления, – вещь удивительная, неслыханная для мореплавателей и необъяснимая для меня. Я не хочу этим сказать, что можно верить басням древних о чудесах неизвестного мира и этого океана, как напр. басне о странах, описанных Анноном, где будто-бы по ночам происходят огненные ураганы, которые извергаются в море; конечно, все это бредни: мы сами видели, как была пуста боязнь наших людей, которые ожидали от путешествия всевозможных страхов и ужасов и думали, что уже достигли пределов доступного моря, видя, что густая сеть водорослей делает его похожим на зеленый луг и мешает кораблю двигаться. Отвечая на твой вопрос, я хочу только сказать, что хотя мое предположение основано на вероятнейших данных и подтверждено многими географами, астрономами и отличными мореходцами, с которыми, как тебе известно, я советовался в Испании, Италии и Португалии, но и оно может оказаться ложным, потому что, повторяю, многие гениальные заключения не выдерживали опыта, и это происходить почти всегда, когда они относятся к вещам мало известным.
Гутьеррец. Следовательно, ты в сущности и свою жизнь, и жизнь товарищей поставил в зависимость от простой гипотезы?
Колумб. Да; не могу отрицать этого. Но оставляя в стороне то, что люди ежедневно подвергают свою жизнь опасности из-за каких-нибудь мелочей и пустяков, – взгляни на дело без предрассудков. Если-бы теперь ты, я и все наши товарищи не были на этом корабле, среди моря, в этом никому неизвестном и в высшей степени рискованном положении, что было-бы с нами? Чем-бы мы были заняты? Как проводили-бы время? Может быть, веселее? Или, может быть, проводили-бы его в тяжких трудах и заботах, или, наконец, скучали-бы? Что такое положение, свободное от неизвестности и опасности? Если это положение счастливое, то конечно, его можно предпочесть всякому другому; но если оно полно скуки и мелких дрязг, то всякое другое лучше его. Я не буду говорить о славе и пользе, которые нас ожидают, если наше предприятие получит желанный успех; наше плавание имеет другие преимущества, которые, по моему мнению, делают его в высшей степени выгодным для нас: оно избавляет нас от скуки, заставляет нас любить жизнь и ценить многие вещи, о которых мы прежде и не думали. Древние пишут, что несчастные любовники, бросаясь с левкадийской скалы в море и случайно спасаясь от смерти, по милости Аполлона, исцелялись от любовной страсти. Не знаю правда-ли это, но знаю хорошо, что, избежав этой опасности, они даже и без милости Аполлона в течение известнрго времени дорожили-бы жизнью, которую прежде ненавидели. По моему мнению, каждое опасное морское путешествие почти то-же, что прыжок с левкадийской скалы, даже лучше, потому что полезные следствия его продолжительнее. Обыкновенно думают, что моряки и солдаты, постоянно подвергая свою жизнь опасности, очень мало ценят ее в сравнении с людьми других профессий. А я так думаю, что по той-же самой причине никто так не ценит и не любит жизни, как моряки и солдаты. Сколько вещей, которых вообще никто не думает называть благом, становятся для них драгоценными и милыми уже только потому, что они лишены их! Ну, скажи, кто-же причисляет к благам жизни грязную землю, которая тебя поддерживает? Никто, за исключением моряков и особенно нас, у которых, вследствие неизвестности положения, нет большего желания, как увидать клочок земли; ведь с этим желанием, просыпаемся каждое утро, с ним засыпаем, и если только нам придется когда-нибудь заметить издалека вершину какой-нибудь горы или верхушку леса, мы будем вне себя от радости и довольства, а высадившись, будем прыгать, как дети, получив возможность стоять на твердой земле или идти пешком, куда вздумается, – и много дней будем счастливы.
Гутьеррец. Все это истинная правда: если твое предположение окажется справедливым, мы будем вполне счастливы, по крайней мере на несколько дней.
Колумб. Хотя, с своей стороны, я не осмеливаюсь обещать верного успеха, но надеюсь, что мы скоро будем наслаждаться им. В последние дни лот касается дна, и качество земли, которая остается на нем, кажется мне добрым знаком. К вечеру облака вокруг солнца представляются иной формы и другого цвета, нежели как были прежде. Воздух, как ты сам чувствуешь, стал нежнее и теплее. Полного и постоянного ветра уже нет, – он сделался переменчив и неустойчив, как будто имеет какое-нибудь препятствие на своем пути. А тростниковая ветвь, которая недавно проплыла мимо нас и, как мне показалось, была немного разрезана? А другая древесная веточка с красными и свежими ягодами? Наконец, хотя полеты птиц не раз меня обманывали, но они с каждым днем становятся все чаще и многочисленнее; да кроме того, в стаях появляются птицы, которые по форме нисколько не походят на морских. Словом, все эти признаки, взятые вместе, внушают мне надежду на великое и доброе будущее!
Гутьеррец. Дай Бог, чтобы она на этот раз оправдалась!
XIII.
Коперник.
Сцена I.
Первый Час дня и Солнце.
Первый Час. Доброго утра, ваша светлость.
Солнце. Скорее – доброй ночи...
Первый Час. Лошади готовы;
Солнце. Хорошо.
Первый Час. Утренняя звезда уже давно показалась.
Солнце. Хорошо. Ступай себе.
Первый Час. Что желает сказать этим ваша светлость?
Солнце. Желаю сказать, чтоб ты оставил меня в покое.
Первый Час. Но, ваша светлость, ночь продолжалась столько времени, что уже не в состоянии более продолжаться. Если мы замешкаемся, может произойти беспорядок...
Солнце. Пусть происходит, что угодно, – я не двинусь с места.
Первый Час. О ваша светлость, что-же это? Вы чувствуете себя дурно?
Солнце. Я чувствую только то, что не двинусь с места, а потому ты можешь отправляться, куда тебе угодно.
Первый Час. Как-же я могу идти, когда вы изволите оставаться дома? Ведь я – Первый Час дня, а дня не может быть, если ваша светлость не удостоит выйти, по обыкновению.
Солнце. Если не будет дня – будет ночь; часы ночи отбудут двойную службу, а ты и твои товарищи будете гулять. По правде сказать, мне надоело постоянно кружиться и светить каким-нибудь четырем созданьицам, живущим на таком, крохотном клочке грязи, что я, при всей моей зоркости, не могу разглядеть. Сегодня ночью я решил не беспокоиться более, и если люди желают света, пусть они зажигают свои собственные огни или поступят, как им заблагорассудится.
Первый Час. Но, ваша светлость, что-же могут сделать эти бедняки? Содержание такого громадного количества ламп и свеч, которые-бы горели в течение целого дня, потребует невероятных издержек. Другое дело, если-бы им был уже известен способ освещения газом, которым они могли-бы иллюминовать свои улицы, дома, магазины и пр. без больших расходов. Но в действительности-то пройдет по крайней мере триста лет, прежде чем они изобретут этот способ; за это время они успеют истратить весь запас масла, воска, смолы и сала, – и наконец останутся впотьмах...
Солнце. Тогда пусть охотятся за светляками, светящимися жучками...
Первый Час. Но кто-же спасет их от холода? Без помощи вашей светлости они не в силах будут согреться даже и тогда, если употребят на дрова все свои леса. Мало того, – они умрут с голода, потому что земля уже не будет давать плодов. Таким образом, в короткое время погибнет вся раса этик бедных животных: сначала они будут бродить по земле ощупью, отыскивая, где бы поесть, чем-бы согреться, а потом, когда исчезнет все, что только можно проглотить, когда потухнет последняя искра тепла, они все перемрут во мраке, замороженные, как куски горного хрусталя.
Солнце. Да мне-то что за дело до всего этого? Что я, кормилица что-ли, для рода человеческого, или повар, обязанный поставлять и приготовлять ему провизию? Очень мне нужно заботиться о какой-то горсточке невидимых простым глазом твореньиц, которые живут за целые миллионы миль от меня и не могут ни видеть, ни сладить с холодом без моего света! Наконец, если бы моя особа действительно служила, так сказать, баней или печкой этому человеческому роду, то здравый смысл требует, чтобы сами люди ходили около печки, если хотят согреться, а не печка около них Если Земле действительно необходимо мое присутствие, пусть она сама отправляется искать его: я же, с своей стороны, не стану беспокоиться, потому что нисколько не нуждаюсь в ней.
Первый Час. Если я не ошибаюсь, вашей светлости угодно, чтобы теперь сама Земля исполняла то, о чем до сих пор заботилась ваша светлость?
Солнце. Именно: теперь и всегда.
Первый Час. Ваша светлость изволите рассуждать совершенно справедливо. Но да будет позволено мне напомнить вашей светлости о многих прекрасных вещах, которые необходимо придут в упадок при этом новом порядке. Самый день лишится своей блестящей колесницы, с ее чудными конями, которые каждое утро выходят из волн морских... Наконец, что будет с нами, бедными часовыми? Нам уже не будет места на небе, и мы из небесных детей превратимся в земных, если только, сверх чаяния, не рассеемся, как дым. Но пусть было бы так, – еслиб этим все и покончилось! Остается еще убедить Землю вертеться, а это должно показаться ей в высшей степени трудным и странным, потому что она до сих пор еще ни разу не пошевелилась на своем месте. И если ваша светлость, повидимому, только теперь начинает немножко лениться, то, смею уверить вас, Земля, в настоящее время, ленива попрежнему.
Солнце. Нужда столкнет ее с места и научит бегать и скакать. Но, во всяком случае, надо будет приискать какого-нибудь поэта или философа, который-бы убедил Землю двигаться, а если убедить нельзя, заставил-бы её силою; потому что здесь, собственно говоря, все дело во власти философов и поэтов, для которых почти нет ничего невозможного. Да, когда-то эти поэты (в то время я был еще молод и слушал ихъ) своими сладкими песенками заставили меня, порядочного толстяка, добровольно бегать, сломя голову, вокруг какого-нибудь комочка глины, как будто это было приятной прогулкой или благородным упражнением. Но с летами я стал практичнее, обратился к философии, и смотрю теперь на вещи с точки зрения пользы, а не красоты, и все поэтические чувства, если они не касаются моего желудка, возбуждают во мне смех. Теперь я философствую, и так как не нахожу никакого разумного основания противопоставить праздной и досужей жизни жизнь деятельную, которая, по моему мнению, совсем не оплачивает затраченного на неё труда, – то и порешил предоставить труды и заботы другим, а самому жить в приятном покое. Эту перемену произвели во мне главным образом философы, которые в настоящее время сильно пошли в гору. Таким образом, чтоб заставить Землю вертеться и двигаться вместо меня, с одной стороны, было-бы выгоднее употребить в дело поэта, нежели философа, потому что поэты, воспевая прелести и надежды жизни, побуждают людей к труду и деятельности, а философы, напротив, отнимают у них охоту к этому. Но, с другой стороны, философы теперь особенно в моде, и я сомневаюсь, что Земля, в настоящее время, станет слушать какого-нибудь поэта внимательнее, чем я; потому – лучше прибегнуть к философам, хотя этот народ не отличается ни деятельностью, ни способностью возбуждать ее в других; может быть, новизна и необыкновенность случая выведет их из обычной колеи... О так, сделай вот что: отправляйся на землю или пошли туда кого нибудь из товарищей, и если встретится на улице какой-нибудь философ, наблюдающий небо и звезды (что непременно должно быть в эту странную для людей ночь), – вскинь его на плечи и доставь немедленно ко мне; я увижу, годится-ли он для нашего дела. Слышал?
Первый Час. Слышал, ваша светлость, и спешу исполнить приказание.
Сцена II.
Коперник на террасе своего дома наблюдает восточную часть неба с помощью бумажной трубы: телескопы еще не были изобретены в то время.
Коперник. Непостижимая вещь! Или все часы врут, или солнце опоздало более, нежели на целый час: ни одного луча не видно на востоке, небо ясно и чисто, как зеркало; звезды блестят, как в полночь. Ну, достопочтенный Альмагеста {Альмагеста – древнейший из астрономических трактатов, написанный Клавдием Птолемеем во втором веке по P. X. Прим. пер.}, попробуй-ка объяснить этот случай! Правда, я не раз слыхал о ночи, которую провел Зевс с женою Амфитриона; помню также рассказы перувианцев, которые уверяют, что в их стране когда-то случилось необычайно длинная, почти бесконечная ночь, причем солнце, наконец, вышло из волн известного озера Титикаки. До сих пор, я, как и все благоразумные люди, полагал, что все это лишь пустые выдумки: но теперь, когда я вижу, что разум и наука не в силах возвыситься над ними, я готов верить подобным рассказам, готов даже отправиться по всем озерам и болотам и пробовать, не удастся-ли поймать на удочку дневное светило... Но это что такое?!..
Сцена III.
Последний Час и Коперник.
Последний Час. Коперник, я – Последний Час!
Коперник. Последний Час? Хорошо: против этого нечего сказать. Дай мне только, если можно, необходимое время, чтобы написать завещание и сделать распоряжение касательно похорон.
Последний Час. Каких похорон? Разве я Последний Час жизни?
Коперник. Да кто-же ты, наконец? Последний Час служебника, что-ли?
Последний Час. А признайся, этот час едва-ли не самый приятный для тебя, когда ты участвуешь в хоре?
Коперник. Но откуда ты узнал, что я каноник? Кто тебе сказал мое имя?
Последний Час. О тебе я справлялся здесь на улице... Я-же, с своей стороны, не более, как Последний Час дня.
Коперник. А, теперь понимаю: первый час болен, а потому и дня еще нет...
Последний Час. Погоди делать заключения: дня совсем не будет, ни сегодня, ни завтра, – никогда, если ты не позаботишься об этом.
Коперник. Вот прекрасно! Разве это моя обязанность, – делать день?
Последний Час. Я тебе все это объясню; но прежде всего тебе необходимо немедленно отправиться со мною во дворец Солнца, моего повелителя. Дорогою я сообщу тебе многое, а самое главное передаст тебе лично его светлость, когда мы прибудем на место.
Коперник. Очень хорошо. Но путь наш, если я не ошибаюсь, должен быть очень продолжителен. Как мне захватить с собою столько припасов, чтоб не умереть с голода в один из прекрасных... годов нашего путешествия? Кроме того, я не думаю, что во всех владениях его светлости найдется для меня провизии хотя на один завтрак...
Первый Час. Не заботься об этом. Ты не долго пробудешь во дворце Солнца, а путешествие наше совершится в один миг; ведь я – дух...
Коперник. Да, но я то – тело...
Последний Час. Ну вот! Ты ведь не метафизик, чтоб затрудняться такими пустяками. Влезай ко мне на плечи, а остальное предоставь мне.
Коперник. Ну, – влез. Посмотрим, что будет дальше.
Сцена IV.
Коперник и Солнце.
Коперник. Светлейший!
Солнце. Извини, Коперник, что я не приглашаю тебя садиться: стулья здесь не в употреблении; но я тебя не задержу. О проекте моем ты уже слышал от моего слуги; остается сказать. что я считаю тебя вполне способным осуществить его.
Коперник. Монсиньор, ваш проект представляет многочисленные затруднения.
Солнце. Но затруднения не должны устрашать людей, подобных тебе; говорят даже, что они придают отваги отважному. Да наконец, какие-же это затруднения?
Коперник. Прежде всего, как-бы ни была могущественна философия, но и она едва-ли будет в состоянии убедить Землю променять покой и приятный досуг на безустанное и утомительное движение, особенно в настоящее, далеко не героическое время...
Солнце. Но если не подействуют убеждения, – заставь её силою.
Коперник. Охотно-бы. светлейший, если-бы я был Геркулесом или, по крайней мере, Орландом, а не простым каноником из Вармии.
Солнце. Это не ответ. Разве неправду говорят, что один из ваших старых математиков брался перевернуть небо и землю, если только дадут ему точку опоры вне мира? Тебе вовсе не нужно двигать неба, а между тем ты имеешь здесь точку опоры вне Земли и таким образом можешь свободно сдвинуть её с места, не спрашивая даже ее согласия.
Коперник. Это еще, пожалуй, не трудно сделать, ваша светлость; но для этого потребуется рычаг такой длины, что не только я, но даже ваша светлость, при всем своем богатстве, не располагает и половиною тех средств, которые необходимы для его приготовления. Но я перехожу к другому самому главному затруднению. До сих пор, Земля занимала первое место в мире, так сказать: средоточие его и (как вам известно) стояла неподвижно, лишь любуясь тем, что совершалось вокруг нее; а вокруг нее, – над нею, под нею, пред нею и за нею, – кружились все прочие миры вселенной, как превосходящие её величиною, так и уступающие ей в этом, как светлые, так и темные, – кружились беспрерывно, с невероятною, головокружительною быстротою; так что, казалось, вся вселенная представляла собою один необъятный дворец, в котором на троне восседала Земля, а все другие миры, её окружающие, являлись как-бы ее придворными, телохранителями, слугами. Действительно, Земля всегда считала себя царицей мира и, принимая в соображение прежний порядок вещей, нельзя не призвать, что она рассуждала недурно, даже имела много оснований рассуждать так. Но что сказать вам о нас, людях? Каждый из нас считает себя более нежели первым между всеми земными существами. Последний лохмотник, не имеющий куска черствого хлеба, воображает себя императором, и не каким-нибудь константинопольским или германским, даже не повелителем полсвета, как были римские государи, но императором вселенной, царем солнца, планет, всех видимых и невидимых звезд и конечной причиной всех этих миров, включая сюда и вашу светлость. Теперь, если мы заставим Землю выйти из средоточия мира, заставим её бегать, вертеться, трудиться, – одним словом, запишем её в разряд обыкновенных планет, это поведет к тому, что ее величество Земля и их величества люди лишатся трона, лишатся своего величия и останутся при своих лохмотьях и других убожествах, которых у них немало.
Солнце. Что-же хочет этим сказать мой милый Коперник? Уж не боится-ли он, что это будет действительно преступлением против величества?
Коперник. О нет, ваша светлость: ни кодексы, ни пандекты, ни права, начиная с государственного и кончая естественным, сколько мне известно, не упоминают о таком преступлении. Я хочу только сказать, что наше предприятие касается не одной физики; не забудьте, что оно делает переворот в порядке и, так сказать, в иерархии всех вещей и существ, изменяет самую цель творения, а это, в свою очередь, произведет великий переворот в метафизике и во всех умозрительных науках; вообще в результате будет то, что люди (если только они сумеют и захотят рассудить здраво) окажутся в собственных глазах совсем другим товаром, нежели каким они воображали себя до сих пор.
Солнце. Сын мой, все это меня нисколько не беспокоит, потому что для меня ваша метафизика, физика, алхимия и даже, если хочешь, никромантия – почти одно и тоже. Люди-же удовольствуются тем, что они есть на самом деле; а если это им не понравится, – поверь мне, они примутся по обыкновению рассуждать наизнанку, даже пойдут против очевидности, что им чрезвычайно легко удается, и таким образом будут считать себя попрежнему баронами, князьями, императорами, – чем угодно; одним словом – утешатся, не причинив ни мне, ни миру никакой неприятности.
Коперник. Извольте, оставим в стороне людей и Землю. Теперь посмотрите, светлейший, что будет с другими планетами: узнав, что Земля делает с ними одно дело, вообще стала им ровней, они не захотят оставаться по-прежнему, без украшений, простыми, гладкими, пустынными и печальными, но пожелают иметь, подобно Земле, свои реки, моря, горы, растения, даже своих обитателей, – одним словом, ни в чем не уступать. Земле: вот вам еще громадный мировой переворот, следствием которого будет бесконечный наплыв новых существ, которые мгновенно, как грибы, повыростут со всех сторон.







