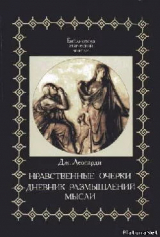
Текст книги "Разговоры"
Автор книги: Леопарди Джакомо
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Джакомо Леопарди
РАЗГОВОРЫ
Nostra vita a che val? Solo a spregiarla.
Leopardi (А un viacitore nell pallone).
От переводчика
В последнее время, когда мрачная философия Шопенгауэра и Гартмана, приобретя толпы последователей и противников во всех странах образованного мира, успела сделаться, так сказать, модной философией века, Леопарди невольно обращает на себя внимание и возбуждает особенный интерес. Действительно, в истории пессимизма, возведенного в философскую систему, знаменитый итальянский поэт занимает видное место. «Леопарди и Шопенгауэр, – говорит Каро („Пессимизм в XIX в.“), – развивали почти одновременно одни и те-же идеи, не оказывая прямого влияния друг на друга. Именно в 1818 году, когда Леопарди пережил в своем горьком и скучном уединении в Реканати тяжелый фазис, заставивший его перескочить почти прямо из христианства в философию отчаяния, именно в этом году Шопенгауэр уехал в Италию, оставивши у издателя свою рукопись: „Мир, как воля и представление“. Один, запершись в маленьком городке, служившем темницею его пылкому воображению; другой, страстно жаждавший славы, которой ему пришлось дожидаться более двадцати лет – оба были равно неизвестны. Они, конечно, не встречались, и более чем вероятно, что Леопарди никогда не читал книги Шопенгауэра, которая даже в Германии стала распространяться гораздо позднее. Но несомненно, что Шопенгауэр был знаком с поэзией Леопарди. Он упоминает о ней по крайней мере однажды, хотя и не оценил важности, которую она имеет в истории системы пессимизма».
Леопарди принадлежал к числу тех редких, избранных натур, в которых соединилось то, что на первый взгляд кажется несовместимым, именно – живая, поражающая своей силой фантазия поэта с глубоким дедуктивным умом философа, подкрепленным обширными научными познаниями. Этого рокового соединения не мог выдержать слабый человеческий организм, и потому в Леопарди к этим двум антагонистам присоединился третий элемент – болезнь и глубоко искреннее чувство человеческого несчастья, так называемая "мировая скорбь", которой он остался верен до конца своей жизни и которая выразилась в безотрадных словах: "nostra vita a che val? solo a spregiarla!" Эти слова поэт повторял с одинаковой искренностью и в первые годы юности, и на краю могилы.
Впрочем, следует заметить, что мрачное миросозерцание Леопарди не имело никакого благодетельного противовеса себе ни в обстоятельствах его личной, семейной жизни, ни в политической жизни его родины. Ему одинаково пришлось страдать и как частному человеку, и как патриоту. Он жил и писал в первой половине текущеего столетия, когда Италия представляла печальную картину политического и нравственного упадка; потому-то его знаменитые стихотворения "All'Italia", "Sopra il monumento di Dante", "Ad Angelo Mai", "Bruto minore", обнаруживая гениального поэта, являются в то-же время и потрясающими воплями отчаяния.
Граф Джакомо Леопарди родился в 1798 году, в маленьком городке Реканати, близ Анконы. Своим многосторонним развитием и необыкновенной эрудицией он был обязан почти исключительно себе одному. Уже в первой молодости он был замечательным знатоком латинского, греческого и еврейского языков. Кроме того, он прекрасно владел французским, английским и испанским. В 1822 году расстроенное здоровье, которому был вреден горный климат Реканати, заставило Леопарди расстаться с родиной и родными. С этого времени он проводил жизнь, переезжая с места на место и навещая Реканати изредка, как гость. Он жил в Болонье, Флоренции, Риме. Заботы о здоровье, которое все более и более расстраивалось, принудили его поселиться на юге, в Неаполе, где он оставался с 1833 г. до самой смерти. Там в 1836 г. появилась холера, которая я убила без того больного поэта. Он умер 1837 г., на 39 году жизни и погребен близ Пуццуоли, в церкви San Vitale. Русским читателям Леопарди почти совсем неизвестен, если не считать нескольких его стихотворений, переведенных на русский язык.
Предлагаемые читателю "Разговоры" (Dialogi) представляют одно из наиболее характеристичных и прочувствованных его произведений.
I.
Геркулес и Атлант.
Геркулес. Здорово, дядя Атлант. Зевс тебе кланяется и желает, чтоб я облегчил тебя на несколько часов от мировой тяжести, как это раз уже было, не помню сколько веков тому назад. Он полагает, что ты устал, и тебе не мешало-бы отдохнуть немного...
Атлант. Спасибо тебе, милый Геркулесик! Я премного обязан его величеству Зевсу; но видишь-ли, мир сделался теперь так легок, что даже этот плащ, который защищает меня от снега, тяжелее его. И если-бы Зевс не приказал мне стоять здесь и держать на плечах этот шарик, я преспокойно взял-бы его под мышку или в карман, да и пошел-бы себе, куда нужно.
Геркулес. Как-же это он так вдруг полегчал? Правда, я замечаю, что форма его несколько изменилась, и он походит теперь скорее на сайку, нежели на круглый хлеб, как это было, когда я еще учился космографии для участия в походе аргонавтов; но все-таки я не понимаю, почему он потерял свой прежний вес...
Атлант. Почему – я и сам не знаю. Но тебе легко убедиться в этом: попробуй подержать его немножко на руке...
Геркулес. Клянусь Геркулесом, я не поверил-бы этому, если бы сам не чувствовал! Но постой, я открываю еще кое-что новое... Помню очень хорошо, что в старину, когда я его держал, он бился о мою спину, как сердце о грудную клетку, и беспрерывно жужжал, как осиное гнездо. Теперь-же... теперь он стучит едва слышно, будто часы со сломанной пружиной, а шума и совсем не слыхать...
Атлант. Об этом я могу сообщить тебе только то, что уже давным давно в нем не заметно ни движениями чувствительного шума. Сначала я думал – уж не умер-ли он, и со дня на день ожидал, что вот-вот запахнет мертвечиной. Я уже беспокоился о том, где-бы похоронить его, даже придумывал ему приличную эпитафию; но, видя, что он не разлагается, я решил, что он из животного превратился в растение, как это было с Дафной и с другими, а потому не двигается и не дышит. Я еще и теперь побаиваюсь, как-бы он не пустил мне корней в спину...
Геркулес. Пустяки. Я думаю, что он просто спит и что сон его, как сон Эпименида, может продолжаться полвека и даже более. А может быть, с ним случилось то-же самое, что говорят о Гермотиме, душа которого могла оставлять тело, когда ей было угодно, путешествовала целые годы по разным странам и, нагулявшись досыта, снова возвращалась домой. Так было до тех пор, пока услужливые друзья не сожгли тела, и возвратившаяся душа, найдя свой дом уничтоженным, принуждена была искать себе новую квартиру или остановиться в гостинице. Боюсь, что с миром может случиться та-же история: пожалуй, какой-нибудь друг или благодетель, предположив, что он умер, предаст его огню. А потому, дядя, попробуем как-нибудь разбудить его...
Атлант. Хорошо, по каким образом?
Геркулес. Я был-бы не прочь стукнуть его моей дубинкой, да боюсь, что он превратится в вафлю или треснет, как яйцо, тем более, что теперь он сделался легче и скорлупка его должна быть очень тонка. Да и люди-то, которые в мое время сражались со львами, а теперь сражаются с блохами, пожалуй, все разом перемрут от моего удара. Давай лучше вот что: я уберу свою дубину, а ты снимай халат, и мы поиграем немножко... в лапту. Жаль, не захватил я нарукавников и отбойника, с которыми я и Меркурий играем в залах и садах Зевса... Впрочем, довольно будет и кулака.
Атлант. Так-то так. Но если твой родитель, увидя нашу игру, вздумает присоединиться к нам со своим огненным мячиком, и мы оба очутимся, как фаэтон, черт знает где?
Геркулес. Да, если-б я был, как фаэтон, сын поэта, а не его собственный! Большая разница, дядя. Поэты звуком своей лиры населяли города, а я звуком своей дубинки могу обезлюдить небо и землю; мячик-же родителя я могу одним ударом носка зашвырнуть на последний чердак неба. Но будь покоен, мне сходят с рук и не такие штуки. Если-б, например, мне вздумалось так, играючи, сорвать с петель пять-шесть звезд, или пострелять в цель кометой, схватив ее за хвост, папа по. казал-бы вид, что не замечает моих шалостей. К тому-же помни, что цель нашей игры сделать добро миру, а не похвастаться ловкостью перед какими-нибудь Орами, которые подсаживали бедняка фаэтона на колесницу, или прослыть у богов искусными кучерами... Одним словом, забудь, что папа может рассердиться: я все беру на себя. Ну, живей, посылай мне мячик!
Атлант. Делать нечего, быть по твоему... Смотри только, не урони его, а то – насажаем мы ему новых шишек или оторвем у него что-нибудь в роде того, как, помнишь, Сицилия оторвалась от Италии, и Африка от Испании...
Геркулес. Во мне не сомневайся...
Атлант. Ну, держи-же! Смотри, как он ковыляет в воздухе... Совсем испортился мячик...
Геркулес. Эх, поддавай хорошенько... не добрасываешь...
Атлант. Ничего не поделаешь... ветер относит... больно уж легок...
Геркулес. Ну, это его старый грех... куда ветер, туда и он...
Атлант. Не мешало-бы его немножко поднадуть, а то прыгает не лучше старой дыни...
Геркулес. Вот это уж новость! Прежде он прыгал козлом..
Атлант. Ах, беги, беги скорее... упадет, клянусь Зевсом упадет... Ну, так и есть! Черт-бы побрал тебя с твоей-игрой!
Геркулес... Ну, дядя, не сердись. Посмотрим, что с ним. Что, бедняжка? Больно ушибся? Что чувствуешь? Удивительное дело – хоть-бы шелохнулся, ничего не слышно... Спит, как прежде!
Атлант. Эх, оставь ты его, ради самого Стикса! Я снова взвалю его на плечи, а ты бери свою дубину, отправляйся скорее к папаше и извинись за меня перед ним в этой оплошности, которую я сделал по твоей милости.
Геркулес. Ладно, ладно. Но слушай, дядя: давным давно у нас в доме проживает известный поэт Гораций, которого папаша канонизировал. Он распевает славные песенки, и в одной из них говорит, что справедливый человек не двинется даже тогда, когда упадет мир. Я думаю, что сегодня все люди справедливы, потому что мир упал, и никто не пошевелился...
Атлант. Кто-же сомневается в справедливости людей? Но не теряй-же времени, беги к отцу: того и гляди, он бросит свою молнию и превратит меня из Атланта в какую-нибудь Этну!
II.
Мода и Смерть.
Мода. Госпожа Смерть! Госпожа Смерть!
Смерть. Пробьет час, я приду и без твоего приглашения.
Мода. Госпожа Смерть!
Смерть. Убирайся к черту! Говорят тебе – приду без приглашения.
Мода. Как будто я не бессмертна!
Смерть. Бессмертна?
"Прошло уж более тысячи лет
"С тех пор, как кончились времена бессмертных".
Мода. Госпожа Смерть подражает Петрарке, как итальянский лирик XV или XVIII века?
Смерть. Я люблю стихи Петрарки, потому что нахожу в них свое торжество: он почти везде говорит обо мне. Однако, убирайся!
Мода. Заклинаю тебя любовью, которую ты питаешь к семи смертным грехам – остановись и посмотри на меня!
Смерть. Смотрю.
Мода. Не узнаешь меня?
Смерть. Ты должна знать, что зрение мое очень плохо, а очков у меня нет, потому что англичане еще не изобрели таких, которые были-бы мне по глазам. Да впрочем, если-б и изобрели, мне не на что было-б их надеть.
Мода. Я Мода – сестра твоя.
Смерть. Сестра?
Мода. Да. Разве ты забыла, что мы обе родились от Дряхлости?
Смерть. Не мудрено: я смертельный враг памяти.
Мода. А я так помню это очень хорошо, и знаю, что обе мы стремимся к одной цели – беспрерывно переделывать и изменять все в подлунном мире, хотя идем к ней разными дорогами.
Смерть. Если ты хочешь, чтоб я тебя слышала, потрудись возвысить голос и получше выговаривай слова, а не бормочи сквозь зубы: слух у меня не лучше зрения.
Мода. Хотя это теперь не в моде, и во Франции вообще не принято говорить так, чтоб было слышно, но мы – сестры и нам нечего церемониться, а потому я буду говорить, как тебе угодно. Я говорю, что наше назначение и цель – постоянно подновлять мир. Но ты прежде всего бросаешься на тело и кровь, тогда как я довольствуюсь бородами, волосами, одеждой, домашней обстановкой и т. под. Правда, нередко и я проделываю штуки не хуже твоих: сверлю например уши, а иногда губы и носы, продевая в них различные безделушки; обжигаю человеческое тело горячими оттисками различных рисунков, чтоб сделать его красивее; формирую детские головки различными повязками, которые делают их похожими на головы американских и азиатских дикарей; уродую людей посредством усовершенствованной обуви, душу их корсетами и пр., и пр. Вообще я убеждаю и принуждаю всех порядочных людей ежедневно переносить тысячи неудобств и беспокойств, часто страдать, а иногда и умирать со славою из любви ко мне. Не стану распространяться о головных болях, флюсах, простудах и всевозможных лихорадках, которые переносят люди, чтоб повиноваться мне. По моей воле они готовы дрожать от холода, или задыхаться от жара, и вообще делать множество вредных для себя вещей.
Смерть. Теперь я вижу, что ты действительно сестра мне, и я готова считать тебя сестрою. Однако, стоя так, я могу упасть в обморок, а потому, если у тебя хватит духу бежать со мной рядом – смотри, не надорвись: я бегаю очень скоро – то на бегу ты можешь рассказать мне все, что нужно; если-же нет, я в силу нашего родства обещаю оставить тебе после смерти весь свой гардероб.
Мода. Ну, что касается до беготни, то трудно решить, кто из нас сильнее, потому что если ты бежишь рысью, я иду галопом, даже скорее; а от стоянки я не только падаю в обморок, но и совсем умираю. Побежим-же и потолкуем дорогой.
Смерть. В добрый час!.. И так, если мы действительно родились от одной матери, то с твоей стороны будет совсем не по-родственному, если ты откажешься немножко пособить мне в моих делах.
Мода. А разве я не делаю этого? Я даже предупреждаю твои желания: беспрерывно видоизменяя и уничтожая все другие привычки, я никогда не посягаю на привычку умирать, и потому, как видишь, смерть существует повсюду от начала мира до нынешнего дня.
Смерть. Удивительно, как это ты не сделала того, чего не могла сделать!
Мода. Как не могла сделать? Как видно, ты еще не имеешь понятия о могуществе Моды.
Смерть. Ну, хорошо, хорошо. Об этом мы успеем еще потолковать, когда умирать будет не в моде. Но было-бы хорошо, сестрица, если бы ты помогла мне достигнуть совершенно противоположных результатов – словом, чтоб мое дело пошло легче и успешнее, чем это было до сих пор...
Мода. Я уже говорила тебе о некоторых моих делишках, которые и для тебя не бесполезны; но это глупости в сравнении с тем, что я тебе скажу сейчас. В последнее время, единственно, чтоб услужить тебе, я вывела из употребления все виды занятий и упражнений, которые помогают телесному здоровью, и взамен их, частью ввела, а частью еще изобретаю в огромном количестве такие, которые убивают тело и сокращают жизнь. Кроме того, я пустила в мир такие порядки и обычаи, вследствие которых самая жизнь (как в физическом, так и в нравственном смысле) стала скорее мертвою, чем живою; так что настоящий век можно по справедливости назвать веком смерти.
Вспомни прежнее время, когда ты принуждена была гнездиться во рвах и пещерах и во мраке сеять кости и прах – семена, которые не приносили плодов. А теперь? Какая разница! Твои владения озарены светом солнца. Все эти живые люди становятся твоею неотъемлемою собственностью, твоими слугами, даже и в том случае, когда ты не берешь их тотчас после рождения. Но это еще не все. Прежде тебя ненавидели и поносили, теперь-же по моей милости все умные люди ценят и хвалят тебя, противопоставляя самой жизни. Тебя призывают тысячи голосов, тысячи взоров обращены на тебя, как на лучшую надежду. Наконец, замечая, как некоторые честолюбцы желали обессмертить себя, т. е. умереть не совсем, но избавить добрую часть своего существа от твоих когтей, я, хотя и знала, что все это лишь пустая болтовня, но услыхав, что эта басня о бессмертии тебе не нравится и подрывает твою репутацию – я уничтожила привычку искать бессмертия, уничтожила даже самую возможность заслужить его. И теперь, если уж человек умер, то будь уверена, что от него не осталось ни одного кусочка, который не был-бы мертв: он должен отправиться в могилу весь, сполна, как сняток, проглоченный вместе с костями и чешуей!
Не хвастаясь скажу, что все это я сделала из любви к тебе, из желания расширить твое могущество – и не без успеха. Наконец, я и вперед готова помогать тебе всеми силами, и с этим намерением искала встречи с тобою. Удивляюсь, как мы до сих пор могли действовать врозь! Идя рука об руку, мы можем советоваться в затруднительных случаях и сообща изыскивать наилучшие средства к достижению нашей общей цели. Ум хорошо, а два лучше.
Смерть. Ты говоришь правду, сестра. Отныне мы будем действовать вместе.
III.
Природа и Душа.
Природа. Иди в мир, возлюбленная дочь моя, живи, будь велика и несчастна.
Душа. Какое зло я сделала до рождения, что ты приговариваешь меня к такому наказанию?
Природа. К какому наказанию, дочь моя?
Душа. Разве ты не повелеваешь мне быть несчастною!
Природа. Да, но это настолько, насколько ты будешь велика: одно без другого невозможно, тем более, что твое назначение – оживотворить человеческое тело, а люди все по необходимости рождаются и живут несчастными.
Душа. Мне кажется, было-бы разумнее, если-бы ты дала им возможность быть по необходимости счастливыми; если-же это невозможно, тебе следовало-бы воздержаться творить их.
Природа. Ни то, ни другое не в моей власти, потому что я подчинена судьбе; так решила она; почему? – ни ты. ни я не в силах узнать. И теперь, когда ты уже сотворена и предназначена образовать человеческую личность, никакая сила не может избавить тебя от несчастья, общего всем людям. Но, кроме того, тебе необходимо приобрести свое собственное, несравненно сильнейшее несчастье, вследствие превосходства, которым я тебя наделила.
Душа. Я тебя не понимаю, может быть, потому, что только еще начинаю жить. Но скажи мне, разве превосходство и несчастье в сущности одно и то-же? А если нет, не можешь-ли ты разъединить их?
Природа. В душах людей и, пропорционально, в душах всех других животных оба эти явления составляют почти одно и то-же, потому что превосходство души обусловливает наибольшее ощущение жизни, и это рождает наибольшее чувство собственного несчастья, вследствие чего и является наибольшее несчастье. Также, высшая степень душевной жизненности заключает в себе и высшую степень самолюбия, куда-бы ни направлялось, под каким-бы видом ни проявлялось это самолюбие. Высшая степень самолюбия порождает наибольшее желание благополучия и наибольшее недовольство и страдание в случае лишения его. Все это составляет первобытный и вечный порядок вещей, который я не могу изменить. Кроме того, тонкость твоего собственного ума и живость воображения отнимут у тебя большую часть власти над собою. Грубые животные, преследуя известные цели, посвящают им все свои силы и способности. Но люди в высшей степени редко творят свою волю: в этом им препятствуют обыкновенно их разум и воображение, которые порождают тысячи сомнений в их решениях, тысячи задержек в деятельности. Это одно из великих несчастий жизни. Прибавь к этому еще, что в то время, как ты, вследствие превосходства способностей, легко и быстро опередишь всех других в самых глубоких и трудных познаниях, тем не менее тебе всегда будет или невозможно, или в высшей степени трудно усвоить и применить в жизни множестве вещей, самих по себе до крайности ничтожных, но крайне необходимых для общения с людьми, вещей, употребление которых, как ты увидишь, ничего не стоит тысячам людей не только ниже тебя, но и даже ничтожных в сравнении с тобою. Эти и другие бесчисленные затруднения и несчастья со всех сторон угрожают великим душам. Но за то эти души в изобилии награждаются славою, похвалами и почестями – плодами их собственного величия, и вечною памятью, которую они оставляют после себя потомству.
Душа. Но от кого-же я получу эти похвалы и почести, о которых ты говоришь? От неба, от тебя или от кого-нибудь другого?
Природа. От людей: только они могут дать все это.
Душа. Но видишь-ли: мне кажется, что, не умея сделать, как ты говоришь, самого необходимого в сношениях с людьми, того, что легко дается самым жалким умам, я заслужу скорее презрение и гонение от этих людей, нежели почести и уважение, или-же проживу в неизвестности, как неспособная к человеческому общежитию.
Природа. Мне не дано предвидеть будущее, и я не могу безошибочно предсказать, как люди будут относиться к тебе во время твоей земной жизни. Правда, по опыту прошедшего, самым вероятным можно предположить, что они будут преследовать тебя завистью, которая и составляет другое бедствие, угрожающее великим душам; или, пожалуй, будут презирать тебя, пренебрегать тобою. Но так будет со всеми, подобными тебе. За то, тотчас после смерти, как это было с Камоэнсом, или несколько позднее с Мильтоном – после смерти ты будешь превознесена до небес, не скажу всеми, но маленьким кружком знающих и справедливых людей. Может быть, останки твоего тела будут покоиться в великолепной гробнице, твои деяния в бесчисленных подражаниях пойдут по рукам людей; происшествия твоей жизни многими будут записываться, даже с большим трудом выучиваться на память; одним словом, весь образованный мир наполнится твоим именем. Да, все это будет, если только особенная неблагосклонность фортуны и также самый избыток твоих способностей не помешают тебе явить людям соответственные знаки твоего достоинства – хотя таких несчастных примеров я знаю немало...
Душа. Матушка, хотя я еще только начинаю жить, но чувствую, что самое сильное, даже единственное желание, которое ты мне дала, это – желание счастия. Положим, я кроме того склонна к желанию славы, но ведь я могу желать этой славы не иначе, как счастия, или как средства к достижению его. Из твоих-же слов видно, что хотя превосходство, к которому ты меня присуждаешь, действительно необходимо и полезно для приобретения славы, но оно не ведет к благополучию; напротив, оно ведет к несчастью. Но даже и эта несчастная слава едва-ли состоится до моей смерти; а после нее, какую пользу, какое наслаждение могу я иметь от высочайших благ мира? Наконец, может легко случиться, как ты говоришь, что обманчивая слава, купленная ценой великого несчастья, не придет даже и после смерти. Из этого я заключаю, что ты не только не любишь меня, как утверждала, но скорее ненавидишь, ненавидишь сильнее, чем люди и судьба, среди которых я буду жить, а потому ты и решилась наделить меня этим жестоким даром, этим превосходством, которое будет одним из главных препятствий к достижению моей единственной цели – счастия.
Природа. Дочь моя, я уже говорила тебе, что все человеческие души обречены в добычу несчастью не по моей вине. Но при всей бедственности человеческих условий, при всей суетности всякого человеческого наслаждения и довольства, слава считается лучшими людьми лучшим из благ смертного и самым достойным предметом его забот и стремлений. Таким образом, не из ненависти, но по любви я решила присудить тебе все лучшее, что находится в моей власти.
Душа. Скажи мне: среди других животных, есть-ли такое, которое-бы менее людей было наделено жизнеспособностью и чувством?
Природа. Начиная с тех, которые близки к растениям, все они в этом отношении более или менее ниже человека. Один человек обладает высшею жизнеспособностью и потому он совершеннее всех тварей.
Душа. В таком случае, помести меня в число самых низших созданий, или, если это невозможно, возьми назад роковые дары, которые меня благородят, и сделай из меня самую глупую, самую бесчувственную душу, какую ты только творила когда-нибудь.
Природа. Это я могу сделать и сделаю, так-как ты отказываешься от бессмертия, которое тебе суждено.
Душа. А взамен бессмертия, умоляю тебя послать мне самую скорую и полную смерть.
Природа. Об этом я посоветуюсь с Судьбою.







