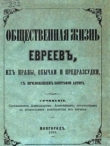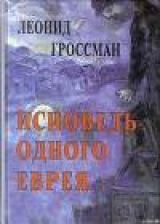
Текст книги "Исповедь одного еврея"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Я давно собрался к Вам писать, и совсем не в этом тоне и духе, но все отлагал. Теперь же пишу Вам, потому что послезавтра переводят всех содержащихся в Московском тюремном замке в новое помещение, где, как утверждают, нельзя будет ни читать, ни писать. А я хотел непременно Вам написать.
Знаете, когда я недавно читал ваш одиннадцатый выпуск „Дневника“, т. е. „Кроткую“, мне пришли в голову, думая о том, что хочу Вам писать, некоторые мысли, которые я внес в мой „Дневник“ и которые привожу здесь буквально. Судите сами, прав я или нет. Вот что записано в моем „Дневнике“:
„Я уверен, что величайшие психологи-романисты, которые создают вернейшие типы порока и дурных инстинктов, анализируют все их поступки, все их душевные движения, находят в них искру Божию, сочувствуют им, верят и желают их возрождения, возвышают их до степени евангельского „блудного сына“, – эти самые великие писатели при встрече с настоящим преступником, живым, содержащимся под замком в тюрьме, отвернутся от него, если он станет обращаться к вам за помощью, советом, утешением, хотя бы он вовсе не был таким закоренелым преступником, каким они рисуют многих в своих художественных произведениях. Они посмотрят на него с удивлением, станут в тупик… Что, мол, может быть общего между нашей нравственной чистотою и этой действительною грязью, опозоренной судом, тюрьмою, ссылкой, общественным мнением? Это можно объяснить отчасти тем, что, создавая художественные отрицательные типы, как бы грязны и порочны они ни были (напротив, чем грязнее, тем лучше), наши писатели смотрят на них, как на собственное образцовое произведение, как на родное милое детище, и любуются ими, т. е. самими собою, своим умением верно схватить с жизни тип, художественно обработать его мельчайшие изгибы души, чувства и ощущений и проч., и проч. Но какое им дело до постороннего, живого существа, которое погрязло в преступлении, хотя бы оно и рвалось на свет Божий, умоляло о спасении, простирало к ним руки?.. Разве могут возиться они с погибшими членами общества? Им ли делать что-нибудь реальное в их пользу? На это есть многочисленные благотворительные учреждения, могущественные сановники, сильные мира сего. Их дело только творить и создавать художественные образы и типы. Таким образом, в то время, как они любуются всеми тонкостями созданного ими художественного преступника, они, наверное, с чувством некоторого отвращения станут читать письмо от настоящего преступника, тайно присланное им из тюрьмы…“
Это рассуждение вызвано было отчасти воспоминанием, что одно мое письмо, написанное к князю Мещерскому-Гражданину, до сих пор осталось без ответа, между тем ведь он в своих пошлых и отвратительных „Тайнах современного Петербурга“ в лице своего героя – идиота Боба – исправляет род человеческий, обращает на путь истинный извергов, безбожников и самых пропащих людей…
Может быть, Вы захотите заговорить в своем „Дневнике“ о некоторых предметах, затронутых в этом письме, то Вы это сделаете, конечно, не упоминая моего имени.
Если же Вам вздумается мне ответить лично, то прошу Вас написать по следующему адресу: „Присяжному поверенному Л. А. Купернику, в Москве, по Спиридоновке, дом Медведевой, для Альберта“.
Вы понимаете, что я хотел написать Вам в десять раз большее письмо о многих важных вопросах, – но вышло не так, и боюсь, что давно надоел Вам. Поэтому кончаю.
С глубоким уважением
А. Ковнер».
26 января 1877 г.
III
Несмотря на кажущуюся разбросанность тем и подчеркнутую небрежность композиции этого письма, нельзя не признать в его авторе крупный литературный талант. Письмо его написано мастерски. Острое возбуждение интереса в начале, оригинальная и нисколько не льстивая характеристика писательской манеры Достоевского, стремительная и глубоко обнаженная исповедь, сжатый и волнующий рассказ об одной необычной и печальной судьбе, резкая постановка сложной моральной проблемы, смелое обвинение писателя в несправедливой вражде к безвинному народу – все это брошено на летучие листки с таким молодым задором, свежестью стиля, свободой и уверенностью литературной манеры, какие бывают лишь у крупных дарований, напавших на свой настоящий жанр. Письмо, как известный литературный род, и было такой органической формой нашего автора, в которой он достигал максимального подъема, силы и выразительности.
Неудивительно, что письмо Ковнера чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В ответе своему корреспонденту писатель не перестает выражать свое уважение его необыкновенному уму. В «Дневнике писателя» он дает и печатный отзыв полученному документу, свидетельствуя, что это «прекрасное во многих отношениях письмо» его весьма заинтересовало. Он характеризует автора, как «человека весьма образованного и талантливого». Сохранившееся письмо Ковнера в нескольких местах испещрено рукописными заметками Достоевского.
Едва Ковнер отправил свое письмо Достоевскому, как получил последний выпуск «Дневника писателя», за которым внимательно следил даже из тюрьмы. Содержание этого декабрьского выпуска за 1876 г. побудило его продолжать начатую беседу, несмотря на полную неизвестность отношения к ней самого адресата его писем.
По поводу известных выступлений Достоевского в пользу осужденной Корниловой Ковнер считает нужным снять с автора «Дневника» подозрение в его отвлеченном и «кабинетном» равнодушии к подлинному жизненному страданию. Но центр второго письма – попытка выяснить выдвинутый Достоевским в статье «Голословные утверждения» вопрос о бессмертии души. Убежденный рационалист, приверженец материалистической философии, давний противник религиозного миросозерцания, Ковнер выдвигает против Достоевского аргументацию философского атеизма. Он категорически возражает против основного утверждения Достоевского, что бессмертие души является необходимым условием всякого человеколюбия.
«Конечно, предмет этот так глубок и так широк, что сотни томов недостаточно, чтобы разрешить эту мировую задачу, о которой пишут pro и contra столько умов и гениев в продолжении многих веков – и не в этом письме место опровергать Ваши „утверждения“. Но все-таки не могу воздержаться от некоторых замечании, которые, однако, надеюсь, дадут Вам понятие о почве противников Ваших утверждений…»
Переходя к основному вопросу спора, Ковнер ставит ребром главный тезис диспута:
«Существует ли бог, который сознательно управляет вселенной и который интересуется (это слово не вполне определяет мою мысль, но Вы наверное ее понимаете) людскими действиями? Что касается меня, то я до сих пор убежден в противном, особенно относительно последнего обстоятельства. Я вполне сознаю, что существует какая-то „сила“ (назовите ее „богом“, если хотите), которая создала Вселенную, которая вечно творит и которая никогда не может быть постигнута человеческим умом. Но я не могу допустить мысли, чтобы эта „сила“ интересовалась жизнью и действиями своих творений и сознательно управляла ими, кем бы и чем эти творения ни были.
Не допускаю я этой мысли потому, что знаю, что весь мир, т. е. вся наша Земля есть только один атом в Солнечной системе, что Солнце есть атом среди небесных светил, что Млечный путь состоит из мириадов солнц (это все говорит наука, которой никто из мыслящих людей не может отрицать), что Вселенная бесконечна, что наша Земля живет относительно немногое число лет, что геология свидетельствует о бесконечных переворотах на ней, что гипотеза Дарвина о происхождении видов и человека весьма вероятна (во всяком случае, разумнее объясняет начало жизни на нашей Земле, чем все религиозные и философские трактаты, вместе взятые), что инфузории, которых миллионы в каждой капле воды, мушки, рыбы, животные, птицы, словом, все живущее, имеют такое же право на существование, как и человек, что до сих пор есть миллионы, сотни миллионов людей, которые почти ничем не отличаются от животных, что наша цивилизация продолжается всего каких-нибудь 4000 лет, что всевозможных религий бесконечное число (из которых одна противоречивее другой), что идея о единобожии зародилась так недавно и т. д., и т. д., и т. д.
После всего этого, спрашиваю я, какой смысл имеет для меня (и для всех) еврейство, эта колыбель новейших религий, христианство, все эти легенды о чудесах, о явлении Божьем, о Христе, о воскресении его, о Святом духе; все эти святые угодники; наконец, все эти громкие, но пустейшие слова, вроде бессмертия души, человечества, прогресса, цивилизации, народного духа и проч., и проч., и проч.?..
…Неужели творящая сила Вселенной или Бог интересуется ничтожными людскими помыслами? Вы скажете, что человек имеет искру Божию, поэтому он стоит выше всех. Но сколько этих людей? Буквально капля в море. Вы должны сознаться, что из 80 миллионов облюбованного Вами русского народа, в котором думаете находить лекарство (стр. 324; „они в народе в святынях его (sic!) и в нашем соединении с ним“), положительно 60 миллионов живут буквально животною жизнью, не имея никакого разумного понятия ни о боге, ни о Христе, ни о душе, ни о бессмертии ее…»
Свое краткое атеистическое исповедание, впоследствии развернутое в целый трактат и посланное в 1902 г. В. В. Розанову, Ковнер в 1877 г. заканчивает следующим обращением к Достоевскому:
«…Во всяком случае, хотелось бы мне дожить до того времени, когда Ваши „утверждения“ будут не „голословными“. О, как бы я хотел убедиться в этих „утверждениях“! Поверьте, что я первый буду преклоняться перед Вашими „истинами“, когда будет доказано, что они – „истины“. Но боюсь, что никогда Вы этого не докажете».
Так в двух письмах Ковнер раскрывает Достоевскому историю своей жизни и сущность своего мировоззрения.
IV
Получив эти письма, Достоевский был живо заинтересован ими. Вступать в спор на тему второго письма он, впрочем, не захотел, считая ее очевидно слишком значительной для подобного эпистолярного диспута. Через два-три года в своем последнем романе он поставит ее со всей остротой, и даже назовет главу «Братьев Карамазовых», в которой страстно и напряженно трактуется тот же вопрос, формулой pro и contra. Но зато первое письмо бутырского затворника вызывает с его стороны ответы по всем пунктам с перенесением даже главной реплики в ближайший выпуск «Дневника писателя».
В конце февраля 1877 г. в московскую тюрьму приходит письмо Достоевского.
«Милостивый государь, Г. А. Ковнер!
Я Вам долго не отвечал потому, что я человек больной и чрезвычайно туго пишу мое ежемесячное издание. К тому же, каждый месяц должен отвечать на несколько десятков писем. Наконец, имею семью и другие дела и обязанности. Положительно, жить некогда и вступать в длинную переписку невозможно. С Вами же особенно.
Я редко читал что-нибудь умнее Вашего письма ко мне (2-е письмо Ваше – специальность). Я совершенно верю Вам во всем том, где Вы говорите о себе. О преступлении, раз совершенном, Вы выразились так ясно и так (мне, по крайней мере) понятно, что я, не знавший подробно Вашего дела, теперь по крайней мере смотрю на него так, как Вы сами о нем судите.
Вы судите о моих романах. Об этом, конечно, мне с Вами нечего говорить, но мне понравилось, что Вы выделяете как лучший из всех „Идиота“. Представьте, что это суждение я слышал уже раз пятьдесят, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про „Идиота“ потому сказал теперь, что все говорившие мне о нем как о лучшем моем произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень меня поражавшее и мне нравившееся. А если и у Вас такой же склад ума, то для меня тем лучше. Разумеется, если Вы говорите искренно. Но хоть бы и неискренно.
Оставим это. Желал бы я, чтобы Вы не падали духом. Вы стали заниматься литературой – это добрый знак. На счет помещения их [Речь идет о присланных Достоевскому двух рукописях Ковнера. – прим. авт. ] где-нибудь мною не знаю, что Вам сказать. Я могу лишь поговорить в „Отечественных записках“ с Некрасовым или о Салтыковым и поговорю непременно еще до прочтения их, но на успех даже и тут не надеюсь. Они, ко мне очень расположенные, уже отказали мне раз в рекомендованном и доставленном мною в их редакцию сочинении одного лица в прошлом году, и отказали, не распечатав даже пакета, на том основании, что от такого лица, что бы он ни писал, им нельзя ничего напечатать, и что журнал бережет свое знамя. Так я и ушел. Но об Вас я все-таки поговорю, на том основании, что если бы это было в то время, когда покойный брат мой издавал журнал „Время“, то комедия или повесть Ваши, чуть-чуть они бы подходили к направлению журнала, несомненно были бы напечатаны (хотя бы Вы сидели в остроге).
NB. Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами поступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (т. е. вроде опять-таки как бы знамени). Может быть, Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и непризванностью моей заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?) а во-вторых, если я Вас и оправдаю по-своему в сердце моем (как приглашу я Вас оправдать меня), то все же лучше, если я вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете. Кажется, это неясно. (NB. Кстати, маленькую параллель: христианин, т. е. полный, высший, идеальный, говорит: „Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить“. Христианин будет прав, а коммунар будет не прав. Впрочем, теперь, может быть, вам еще непонятнее, что я хотел сказать.)
Теперь о евреях. Распространиться на такие темы невозможно в письме, особенно с Вами, как сказал я выше. Вы так умны, что мы не решим подобного спорного пункта и во ста письмах, а только себя изломаем. Скажу Вам, что я и от других евреев уже получал в этом роде заметки. Особенно получил недавно одно идеально благородное письмо от одной еврейки, подписавшейся тоже с горькими упреками. Я думаю, я напишу по поводу этих укоров от евреев несколько строк в февральском „Дневнике“ моем (который еще не начинал писать, ибо до сих пор еще болен после недавнего припадка падучей моей болезни). Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже сорокавековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно жизненную силу, которая не могла в продолжении всей их истории не формулироваться в разные status in statu.[12]12
Государство в государстве (лат.).
[Закрыть] Сильнейший status in statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они могут не стать, хотя отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем русским? Вы указываете на интеллигенцию еврейскую, но ведь Вы тоже интеллигенция, а посмотрите…
Но оставим, тема длинная. Врагом же я евреев не был. У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне за советами по разным предметам, а они читают „Дневник писателя“, и хотя щекотливые, как все евреи, за еврейство, но мне не враги, а напротив приходят.
Насчет дела о Корниловой замечу лишь то, что Вы ничего не знаете, а стало быть тоже не компетентны. Но какой, однако же, Вы ученик! С таким взглядом на сердце человека и на его поступки остается лишь погрязнуть в материальном удовольствии…
…Но я Вас вовсе не знаю, несмотря на письмо Ваше. Письмо Ваше (первое) увлекательно хорошо. Хочу верить от всей души, что Вы совершенно искренни. Но если и не искренни – все равно: ибо неискренность в данном случае пресложное и преглубокое дело в своем роде. Верьте полной искренности, с которой жму протянутую Вами мне руку. Но возвысьтесь духом и формулируйте Ваш идеал. Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?
С глубоким уважением
Ваш Федор Достоевский».
Тон этого письма заметно отличается от обычных ответов Достоевского его неизвестным корреспондентам. Оценивая выдающийся ум и своеобразный характер обратившегося к нему лица, Достоевский совершенно оставляет тон поучения, наставления или проповеди. Он ставит себя на один уровень с автором этой исповеди, стремится к такой же обнаженной искренности, видимо, тщательно избегает всякого намека на свое моральное превосходство. Знаменитый писатель признает себя равным осужденному преступнику – и это без всякой позы, без малейшего лицемерия. Он сразу прозревает за мелькающими темами полученного письма ту не выраженную прямо, но единственно важную проблему, на которую он должен дать свое окончательное суждение по законам верховного трибунала свободной совести. Это вопрос о виновности Ковнера и о возможности оправдать его по высшим нравственным соображениям индивидуального духа. И нужно оценить прямоту и решительность, с которой Достоевский произносит свой оправдательный приговор, заявляя Ковнеру, что смотрит на его «дело» – «как Вы сами о нем судите». Это широкий жест прощения, которого Ковнер так мучительно и так напрасно ждал в течение двух лет.
Но при этом, с громадной осторожностью, с тонким душевным тактом, остерегаясь чем-нибудь задеть замученную и затравленную душу, он указывает на какие-то возможные ошибки в окончательной постановке проблемы. С исключительной прозорливостью угадывая подлинный дефект моральной организации Ковнера – отсутствие в его миросозерцании категорического нравственного догмата – он намекает ему на необходимость «знамени» для каждого ищущего сознания (нельзя быть только человеком «без ярлыка»).
В заключительных словах такое же мудрое прозрение и почти материнская мягкость в скрытой и еле ощутимой укоризне: «Возвысьтесь духом и формулируйте Ваш идеал. Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?»
Ковнер был счастлив, получив письмо Достоевского, и в горячих словах передал ему чувство своей глубокой радости и беспредельной душевной благодарности. Он выражает даже свое огорчение по поводу сомнения Достоевского в его искренности и роняет по этому поводу следующую любопытную оценку современных писателей: «Нет, многоуважаемый Федор Михайлович, прежде всего прошу Вас верить полной моей искренности, в противном случае я не обратился бы к Вам, а к Некрасову, Тургеневу или Салтыкову – потому что я абсолютно убежден в Вашей абсолютной честности в высшем смысле этого слова…» Фраза Достоевского о том, что он не считает себя лучше своего корреспондента, представляется Ковнеру «святотатством». Он возражает против преувеличенного представления Достоевского о еврейском status in statu: «Если где-нибудь сохраняются еще его следы, то только вследствие их невольного скучения на одном месте и самой отчаянной борьбы за жалкое существование.
Затем я в полном недоумении, с чего Вы взяли, что я „ненавижу“ русских и еще „именно потому, что я еврей“. Боже, как вы ошибаетесь!» Ковнер с искренним жаром исповедуется Достоевскому в своей горячей любви «ко всякой эксплуатируемой массе вообще и к русской в особенности».
V
Достоевский исполнил свое намерение и один из ближайших выпусков «Дневника писателя» посвятил в значительной части проблеме ковнеровского обвинения – т. е. своему отношению к еврейству. Несколько глав («Еврейский вопрос»; «Status in statu»; «Pro и contra»; «Сорок веков бытия»; «Но да здравствует братство»; «Похороны „общечеловека“») посвящены целиком разбору этого сложного вопроса, причем в своих рассуждениях Достоевский исходит из полученного им письма Ковнера, приводя из него обширные выдержки. Необходимо отметить, что, снимая с себя обвинение в антисемитизме, автор «Бесов» не может скрыть все же своего враждебного отношения к современному еврейству, и ответ его отличается несомненной двойственностью и некоторой софистичностью.[13]13
Об этом см. подробнее в приложении: «Достоевский и иудаизм». – прим. авт.
[Закрыть] Многие аргументы его производят тяжелое впечатление; Достоевский решается утверждать, что после освобождения крестьянства «еврей» как бы снова закабалил его «вековечным золотым своим промыслом, что точно также в Америке евреи уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров», что они же сгубили литовское население водкой и проч., и проч. Ковнер этих доводов не принял и в следующем ответном письме, несмотря на все свое признательное уважение к Достоевскому, открыто выражает ему свои укоры за высказанные чудовищные воззрения.
На этом письме в сущности обрывается философская переписка Ковнера с Достоевским. Остальные его письма носят скорее деловой характер (просьбы содействовать литературным делам). 30 июня 1877 г., перед самой отправкой в Сибирь по этапу, Ковнер прощается с Достоевским и делится с ним своими опасениями и надеждами: «Меня пугает не предстоящий длинный и томительный путь, а то захолустье, куда меня назначат и где в первое время я буду совершенно беспомощен.
Кончая со всем своим прошлым и надеясь с прибытием в Сибирь начать там новую честную и трудную (sic) жизнь, желаю Вам всего лучшего и, главное, здоровья, в котором Вы так нуждаетесь… Если Вы позволите, то из Сибири я Вам напишу».
VI
В начале июля 1877 г. после двухлетнего заключения в московских тюрьмах Ковнер переводится на несколько дней в помещение пересыльной тюрьмы для отправки по этапу в Сибирь.
«Несмотря на образцовый порядок в пересыльной тюрьме и на строжайшую дисциплину, новое место временного заключения произвело на меня потрясающее впечатление, – писал он в своих „Тюремных воспоминаниях“. – Страшный звон цепей, сотни наполовину бритых голов, уродующих человеческий образ, громадные балаганы, в каждом из которых помещалось по 500 человек, – все это ошеломило меня, хотя я прибыл из тюремного замка, далеко не образцового в отношении чистоты и гигиенических требований».
Но тягостные внешние условия бледнели все же перед новой моральной пыткой, предстоявшей Ковнеру. При отправке из Москвы он должен был подвергнуться общему для всех арестантов податных сословий правилу закандаления. В своих тюремных записках он оставил жуткое описание этого обряда, напоминающее знаменитую страницу из «Последнего дня приговоренного» Виктора Гюго, изображающего аналогичную тюремную сцену (Le ferrage des forçats[14]14
Заковка каторжников (фр.).
[Закрыть]).
«Зная, что во время переезда из Москвы в Нижний арестантов податных сословий заковывают в „наручные“, т. е. в ручные кандалы, я старался всеми силами как-нибудь избавиться от этого страшного, как казалось мне, мучения и позора». Но усилия оказались тщетными. Отправка арестантов шла своим неумолимые путем.
«…B наручные!» – чаще всего раздавался возглас при приеме арестантов. Это означало, что осмотренный арестант должен быть закован в ручные кандалы. Арестанты проходили через цепь солдат, которые надевали на них железные браслеты.
«Когда очередь дошла до меня, я сильно побледнел. Советник губернского правления, видя, что я одет довольно прилично, в своем платье, принял было меня за привилегированного, но сидевший за тем же столом писарь, справившись со статейным списком, произнес обычную фразу: „в наручные“. Доктор, как мне показалось, посмотрел на меня с некоторым сомнением; но конвойный офицер почему-то злобно смерил меня с ног до головы глазами и громко повторил: „в наручные“. Сердце у меня дрогнуло, и я, шатаясь, отошел от стола и направился в цепь. Зловещий возглас: „в наручные!“ – повторялся вслед за мной на разные лады… Дрожа, я подошел к следившему за мною солдату и протянул руку. Он надел на меня кольцо и глазами стал подыскивать кого-нибудь из арестантов для „пары“. Дело в том, что заковывали по два человека вместе: одному надевали железное кольцо на правую руку, а другому на левую, причем между кольцами имелась цепь длиною всего в пол-аршина, и таким образом „пара“ оставалась неразлучной в продолжении всего пути. Для непривычного человека „железный“ союз составляет настоящую пытку…»
В пути арестанты подвергались постоянным обыскам, а иногда, как это случилось с Ковнером, и «перековкам». Его товарищ был отделен от партии в 60 верстах от Москвы, после чего Ковнер был закован на обе руки. В этом состоянии, как важнейший преступник, он был доставлен в нижегородскую пересыльную тюрьму, которая показалась ему – даже после московских мест заключения – каким-то Дантовым адом.
К счастью, пребывание здесь было кратковременно.
Из нижегородской пересыльной тюрьмы арестантов отправляли на баржах в дальнейший путь. Помещение под палубой представляло собой тесную, темную и душную плавучую тюрьму. На палубу арестантов выпускали лишь на краткую прогулку. Во время этой переправы произошел следующий характерный разговор.
«Когда нас выпустили на палубу для прогулки, офицер, увидя меня в своем платье среди кандальщиков и бритых голов, подозвал меня и спросил:
– Ты мастеровой, что ли?
– К сожалению, только литературный, – ответил я.
– Как так? – удивленно спросил он.
– Да, я литературный мастеровой, – повторил я, и в коротких словах я ему рассказал о своем прошлом.
– Как же вы не привилегированный? – продолжал он недоумевать.
– К сожалению, литературное ремесло не дает никаких привилегий, – проговорил я. – В особенности приходится об этом сожалеть во время этапа… – прибавил я и тут же высказал свою просьбу о переводе меня в „дворянскую“ каюту.
– Хорошо, я распоряжусь, – проговорил офицер и удалился.
Не прошло и пяти минут, как ко мне подошел унтер-офицер, приглашая перейти в дворянскую. Я, разумеется, поспешил воспользоваться этой милостью».
Из Перми, где Ковнер пробыл в пересыльной тюрьме шесть дней, арестантов отправляли в дальнейший путь на тройках по шести человек на каждой. Переезд этот выпадал как раз на самое жаркое время, когда совместная езда пяти-шести троек поднимала целые тучи удушливой пыли. «Трудно себе представить мучительное состояние этих несчастных арестантов, закованных по рукам и ногам, сидевших в тесноте по шесть человек на подводе и жарившихся на июльском солнце с раннего утра до позднего вечера».
Через Екатеринбург, через Тюмень, долгим мучительным путем, беспрестанно испытывая на себе беспощадность этапного начальства, немилосердно заключавшего его в кандалы и безжалостность товарищей-арестантов, беспрестанно обкрадывавших его по пути, Ковнер достигает, наконец, места своего освобождения – Тобольска. Почти у цели своего странствования он переживает еще один удар. В Тюмени, во время обыска, у него отнимают связку старых газет с его статьями, которые в течение пяти-шести лет тщательно оберегались им в самых трудных житейских условиях. На все его мольбы вернуть ему «этот никому ненужный хлам», следовал грозный окрик начальства:
– Арестантам чтение не полагается!
«Так и пропали для меня мои литературные работы, которые были мне очень дороги и которых в Сибири я нигде не мог достать…» Но освобождение уже было близко.
VII
«Около двух часов дня я увидал издали Тобольск, конец моей Via dolorosa. Громадная река, высокие горы, сверкающие на солнце белые церкви, гигантские леса в окрестностях – все это производит с первого взгляда весьма приятное впечатление. Но какое разочарование потом!
Странно, что по мере приближения к городу я вовсе не чувствовал радости, которую представлял себе заранее, думая о моменте, когда наступит свобода. Сердце не забилось сильнее, когда пароход остановился у пристани; оно было спокойно, когда меня высадили на берег и отправили в местный тюремный замок… Наконец, когда явился полицейский чиновник, и, по рассмотрении наших документов, сказал, что мы можем идти; когда я вышел на улицу без стражи, когда после стольких мытарств я очутился на воле, я был далеко не так счастлив, как надеялся быть.
Мною овладело тяжелое, гнетущее чувство. Мне самому трудно было объяснить состояние своего духа в первые минуты наступившей свободы. Ближайшими причинами этого состояния были, во-первых, страшная физическая и нравственная пытка пережитого этапа, во-вторых, – сознание, что я очутился буквально на улице. В незнакомом городе, без средств к жизни, без цели и надежды впереди, без родного близкого человека, от которого можно было бы услышать ласковое ободряющее слово. В эти первые минуты моей свободы в моем мозгу пролетело все мое прошлое, все хорошее и скверное, мною пережитое, предстало беспомощное, неопределенное настоящее и грозным призраком представилось ближайшее будущее. Радоваться было нечему…
Это горькое пробуждение в первые минуты моей свободы послужило мне началом новой жизни, в которой, правда, было много борьбы и лишений, но и немало радости. Несмотря на то, что я был выбит из колеи, я впоследствии пережил много умственных и душевных наслаждений, испытал и любовь, и счастье, что так редко выпадает на долю лиц, выброшенных в Сибирь и прошедших скорбный путь».
Вскоре Ковнер переселяется из Тобольска в Томск, где у него сохранялись некоторые знакомства.
Начинался новый жизненный этап. После долгих житейских, литературных и нравственных скитальчеств наступала пора более зрелого, спокойного и осмысленного существования. Ковнер уже приближался к своему сороковому году. Пора было точно определить линию своей жизни, осознать до конца свое исповедание и, если не принять какой-либо «ярлык», то явственно «формулировать свой идеал», как советовал ему Достоевский.
Вторая половина жизни Ковнера, в отличие от его бурной, суетливой и несчастной молодости, проходит в тени, незаметно, бесшумно, но с несомненным углублением его духовной жизни и достижением, наконец, личного счастья, озарившего его преклонные годы.