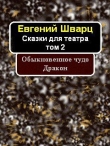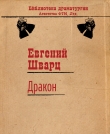Текст книги "Мы знали Евгения Шварца"
Автор книги: Леонид Пантелеев
Соавторы: Евгений Шварц,Леонид Рахманов,Николай Чуковский,Вера Кетлинская,Михаил Слонимский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Да скажите же ему, что писатели умрут без этой работы, что они не могут без нее!
Это не было преувеличением: живя в голоде, холоде, темноте, люди держались только страстью сопротивления, только сознанием, что они нужны. Первыми умирали те, у кого не было этой страсти, не было реального дела. В сложившихся условиях многим писателям было нечего делать, и это было страшнее бомбежек… Я и тогда думала, и сейчас убеждена в том, что в затяжке с «Одним днем» было много излишней перестраховки и ничем не оправданного недоверия. Когда разрешение наконец дали, было уже поздно – шла вторая половина декабря… Уже не было ни бомбежек, ни обстрелов, немцы ждали, когда город вымрет и вымерзнет… Той многообразной картины активного сопротивления, которая получилась бы месяц – полтора назад, в период бомбежек и обстрелов, в период немецкого штурма, теперь уже не получилось бы. Да и у писателей уже не стало сил…
Все эти осенние и зимние месяцы 1941 года, видя, как угасает его жизнь, я не раз возобновляла с Евгением Львовичем разговор об эвакуации. И каждый раз он отказывался, а в дни, когда мы все были увлечены замыслом «Одного дня», даже рассердился:
– Да вы что? Теперь, когда такое дело начали!
То, что это дело сорвалось, тягостно отразилось на его настроении, да и все мы были удручены. Евгений Львович уже с трудом добирался до Союза, знакомый путь стал невыносимо долгим – расстояние, которое мы до войны проходили за двадцать – тридцать минут, теперь требовало полутора – двух часов.
– Я бы добежал, да ноги не хотят, – пошучивал Шварц. Настал день, когда я увидела его таким опухшим и слабым, что никакие шуточки не помогали ему скрыть правду. Я спросила напрямик:
– Женечка, ведь пора?
– Кажется, пора. – Он силился улыбнуться, но это у него не получилось. – По – видимому, мне полагается произнести сейчас ритуальное: «А вы? Уезжайте и вы…» Надо это делать?
– Не надо. Я еще продержусь.
В этом не было ни рисовки, ни какой‑либо доблести. Я действительно не могла уехать, потому что мой отъезд
показался бы бегством или свидетельством безнадежности положения тем людям, которых я столько времени убеждала держаться. И мне действительно было легче, чем многим, потому что я была занята с утра до вечера и чувствовала весь груз ответственности, а это в то время сильно помогало. Некоторым обывателям представлялось, что у меня есть какие‑то привилегии, может быть, тайное дополнительное питание или, как говорил один не очень умный товарищ, «забронированное место на самолете». Шварц прекрасно знал, что ничего подобного нет, но понимал, почему я не могу уехать, и поэтому не произнес «ритуальных слов», которые мне приходилось слышать от уезжающих. Только попросил не забывать Заболоцких и отправить их при первой возможности. Я выполнила его просьбу, как только началась эвакуация через Ладогу по «Дороге жизни».
Рада я была, что удалось спасти Евгения Львовича – останься он еще, долго бы не протянул. Но после его отъезда все чего‑то не хватало…
В 1945–м, когда он вернулся, мы обнялись как родные. Да так оно и было – «крещенные блокадой». А встречались не часто – от случая к случаю. Однажды он пришел ко мне на какое‑то дружеское сборище, в середине ужина стал шарить по книжным полкам и отбирать книги, которые ему приглянулись. Сразу снял три тома русских сказок, подаренные мне М. К. Азадовским.
– Ку – да?? – закричала я.
– Как вам не стыдно жадничать? – откликнулся Евгений Львович. – Мне же они гораздо нужнее!
Года через два, когда я зашла к нему в Комарове на дачу, он мне сообщил, что на днях был его день рождения, и снял с полки первый том сказок:
– Надписывайте дарственную. Я с удовольствием надписала.
В блокадную зиму он как‑то сказал мне: у нас с вами есть одно преимущество – видеть людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. В этом нам можно позавидовать.
Зоркость понимания осталась у него навсегда, он как бы сам прикидывал и «выворачивал наизнанку» скрытую суть. Так, он сказал про одного приятеля:
– Он очень славный человек… когда у него полоса невезения. Когда он в полосе успеха, лучше повременить со встречами.
В 1949–1950 годах мне было очень плохо, Евгений Львович часто заходил ко мне и однажды своеобразно утешил, нарисовав в воздухе зигзагообразную линию:
– Сколько я вас знаю, с девчонок, у вас вся жизнь идет так, зигзагами: то вверх – вверх, то у – ух вниз! Теперь у вас у – ух? Значит, ждите поворота к доброму.
Евгений Львович был добродушен и не любил встревать во всякие споры и дискуссии. Но своего мнения никогда не скрывал и умел быть принципиальным. Когда вскоре после выхода романа «Не хлебом единым…» у нас в Союзе неожиданно, даже не предупредив ни устроителей, ни приехавшего по нашему приглашению Дудинцева, отменили обсуждение, Шварц одним из первых подписал телеграмму протеста.
– Мне роман не очень‑то нравится, – сказал он мне, – но спор должен идти открытый, без администрирования.
Повстречав Шварца на улице, один из виновников запрета (как и все, любивший Евгения Львовича) пожурил его:
– Вы‑то, вы‑то как подписали телеграмму? Евгений Львович изобразил смущение, спросил:
– Признаться, что ли? – И, наклонившись к обрадовано насторожившемуся собеседнику, шепнул ему в самое ухо: – Под пытками.
В последние годы жизни он безвыездно жил в Комарове. Раза два приезжал ко мне на дачу, почему‑то на маленьком дамском велосипеде. Оберегая больное сердце, вращал педали еле – еле, так что велосипед катился, вихляя, совсем медленно, а Шварц громоздился над рулем, большой, улыбающийся, с готовой шуткой на губах. Посидит, поболтает и уедет, – ничего особенного, а долго еще ходишь с улыбкой.
Потом он уже не мог ни приезжать, ни приходить, я иногда навещала его, но Екатерина Ивановна не привечала гостей – уж очень много их было, допусти – в доме с утра до ночи толклись бы люди, а Евгению Львовичу было уже очень плохо. Гораздо хуже, чем казалось…
Вот уже много лет его нет с нами, жизнь есть жизнь – идет дальше, а по – прежнему остро чувствуешь – чего‑то в ней не хватает; очень хорошего, нужного, светлого – не стало.
Л. Малюгин
Евгений Львович попал в Ленинград, в сущности, уже сформировавшимся человеком – актером ростовской труппы; казалось бы, провинция должна была наложить на него свой неизгладимый отпечаток.
Но на каждого, кто встречался с Шварцем впервые, он производил впечатление коренного ленинградца, из тех, кого принято называть петербуржцами. Трудно дать исчерпывающую характеристику этого редкого, к сожалению, типа. Одним из признаков его является большая культура, не односторонняя, не ограниченная рамками своей профессии, но свободно переходящая в соседние, а подчас и в весьма отдаленные области знаний.
Широта культуры соединяется в этом типе с безупречным вкусом. В коренных ленинградцах это не только понятно, но даже естественно: город, построенный как произведение искусства, с детства воспитывает в человеке чувство прекрасного, если, разумеется, этот человек не страдает природной эстетической глухотой. Но Шварц, повторяю, вырос в провинции, и безошибочность вкуса у него была качеством не врожденным, а благоприобретенным.
Было в нем еще одно качество, которое также служит одним из главных признаков истинного петербуржца, – его можно назвать воспитанностью.
– Воспитанность ты почитаешь предрассудком, – упрекал Чехов брата литератора.
Увы, у нас она до сих пор считается предрассудком. Учтивость и такт, хорошие манеры, приветливость, улыбка признаются необходимыми главным образом для продавщиц, парикмахеров и стюардесс. Для всех остальных воспитанность считается совсем не обязательной. Мало ли у нас работников искусства, для которых искусство, прекрасное, остается только в сфере работы, никак не отражаясь на манере жить, на поведении в быту.
Вряд ли кому‑нибудь удавалось увидеть хоть раз Евгения Львовича в дурном настроении: это почти так же невероятно, как застать его небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него на минутку, невзначай, без предупреждения, он встречал вас как званого гостя – учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Приходил ли он к вам в дом по приглашению, на какое‑нибудь семейное торжество, или просто забегал мимоходом, сразу же с его приходом возникала особая праздничная атмосфера. Куда бы ни приходил Шварц – в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание – сразу сдувало скуку, словно пыль – ветром.
Это был человек удивительного обаяния. Впрочем, что ж тут удивительного? Это естественное обаяние ума тонкого и изящного, щедро одаренного юмором.
Юмор, ирония – это ведь тоже одно из слагаемых типа петербуржца, а может быть, главная отличительная черта.
Я не знал Шварца в его молодые годы: мы познакомились, когда ему было уже за сорок. Но нетрудно представить, как чувствовал себя молодой провинциал, очутившись в Доме искусств (с этого началось его знакомство с Ленинградом) – этой цитадели петербургских остроумцев.
Рафинированные интеллигенты, люди с ироническим складом ума, осмеивали здесь все, не щадя никого: ни отца родного, ни даже самого себя. Были здесь и люди, шутившие тонко, умно и незаметно. Были и блестящие остроумцы, подававшие свои остроты как репризы, их афоризмы передавались из уст в уста. Были и просто острословы, которые острили без умолку, обрушиваясь на слушателя каскадом изысканных каламбуров, – в своем бессмертном стихотворении Блок назвал их испытанными остряками.
В такой компании легко было растеряться, оробеть, даже потерять дар речи. Шварц не стушевался в этом разноголосом хоре мастеров иронии и шутки, его голос был услышан.
Гейне писал в одном из писем, что острота, взятая сама по себе, ничего не стоит, она хороша только тогда, когда покоится на серьезной основе. Он сокрушался, что иногда опускается до острот.
Шварц был человеком неистощимого юмора, но он редко опускался до острот. Его юмор был построен на серьезной основе. Он был добрым человеком, но, как верно было сказано, добро невозможно без оскорбления зла. Его шутки далеко не всегда были добрыми, острил он нередко зло и беспощадно. Он никогда не подавал свои остроты, никогда не превращал собеседников в зрителей. У него был тот, может быть, высший сорт юмора, который англичане называют юмором со спокойным лицом, та еле уловимая ирония, которую надо было распознать и оценить по достоинству. Он острил мимоходом, между прочим, но его шутки, в частности те, в которых давалась меткая, точная и образная оценка спектакля или кинофильма, романа или картины, быстро распространялись по Ленинграду.
Шварц был веселым человеком, и тот, кто встретился с ним впервые, получив наслаждение от общения с тонким и изящным умом, мог подумать, что живется такому человеку, избалованному успехом, легко и приятно.
У кого из художников жизнь бывает легкой?
Вероятно, у каждого драматурга есть непоставленные пьесы, у Шварца их было больше, чем сыгранных.
У нас, драматургов, стали, к сожалению, распространенными слова «первый вариант». У нас нередко сдают в театр или киностудию незавершенную работу, черновик будущего произведения. Для Шварца это было так же невозможно, как показаться на людях в дурном расположении духа или небрежно одетым.
Шварц, не возражая, выслушивал все предложения и замечания, и лицо, дающее указания, могло подумать, что завтра же покорный автор сядет за переделку. Шварцевскую деликатность принимали за покорность.
Этот мягкий и деликатный человек в творчестве был мужественным и несгибаемым.
Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать. Он прятал в стол отвергнутое произведение и, пережив аварию, принимался за следующее.
В жизни Шварца, вероятно, самыми трудными были годы эвакуации. Это понятно – истинного ленинградца перенесли в другой мир. Самым тяжелым для него оказался не первый, а второй год эвакуации, когда человек, казалось бы, должен уже прижиться на другой почве.
Позже, это было уже после войны, Шварц рассказывал мне замысел задуманной им пьесы для школьников. Она должна была называться «Самый трудный день».
– Какой, по – вашему, для ребят самый трудный день недели? – спросил он меня.
– Понедельник, – ответил я, не задумываясь.
– Это, если придерживаться поговорки – понедельник день тяжелый, – улыбнулся он. – Нет, понедельник для школьников, пожалуй, самый легкий день. Они рады встрече после разлуки, даже учителя кажутся им милыми. Они еще не остыли от воскресных удовольствий. Самый тяжелый день недели – четверг. Середина. Перевал. Воспоминания об отдыхе уже улетучились, а новый еще далеко. В пятницу легче, перевал пройден, впереди суббота и желанное воскресенье. Четверг, – сказал он убежденно.
Мне хочется подробнее рассказать о шварцевском «четверге», хотя в этом тяжелом году – 1943–м – мы с ним почти не встречались: он жил в Кирове, а я в Ленинграде, виделись мы лишь несколько дней – в Москве. Но мы часто переписывались, а в письмах Шварц был подчас откровеннее, чем в разговорах, позволяя себе даже жаловаться, правда, всегда сдабривая печаль шуткой.
Первый год эвакуации Шварц прожил сносно. Попал он в Киров, пережив самое трудное, самое голодное время ленинградской блокады. Он въезжал в Киров с естественной радостью человека, обманувшего собственную смерть, ускользнувшего от нее в самый последний момент.
Он поселился в общежитии и на следующее утро отправился на базар. После ленинградской голодовки, микроскопических порций, он ахнул, увидев свиные туши, ведра с маслом и медом, глыбы замороженного молока. Денег у него не было, да торговцы и брали их неохотно, интересуясь вещами. Шварц в первый же день, видимо, думая, что это благоденствие не сегодня – завтра кончится, променял все свои костюмы на свинину, мед и масло – он делал это тем более легко, что они висели на его тощей фигуре, как на вешалке.
В эту же ночь все сказочные запасы продовольствия, оставленные им на кухне, напоминавшей по температуре холодильник, были украдены. Украли их, вероятно, голодные люди; кто был сытым в эту пору, – только проходимцы да жулики. Но все равно тащить у дистрофика – ленинградца было уж очень жестоко.
Однако Шварц не ожесточился, успокоил жену, которая перенесла эту кражу как бедствие, и сел писать пьесу.
Пьеса писалась вдали от Ленинграда. Ленинград, изолированный кольцом блокады, был словно на другом континенте, но ленинградцы, созданные шварцевским воображением, были рядом. Впрочем, не только воображением, но и наблюдением. Пьеса «Одна ночь» занимает особое место в драматургии Шварца. Герои ее – жильцы одного из ленинградских домов (этот дом находился на канале Грибоедова– на этой же улице жил и Шварц), действие ее происходит в конторе домохозяйства, где немало ночей на дежурствах провел и сам Шварц. События в пьесе развиваются в течение одной ночи, самой долгой ночи, самой тяжелой поры ленинградской блокады.
Начиналась эта пьеса не печалью, не жалобой, а мечтой.
«Эх, праздничка, праздничка хочется, – говорил электромонтер Лабутин, – ох, сестрицы, братцы, золотые, дорогие, как мне праздничка хочется. Чтобы лег я веселый, а встал легкий!» Он продолжал, обращаясь к радиорепродуктору, откуда слышался монотонный стук метронома: «Что ты отсчитываешь? Сколько нам жить осталось до наглой смерти или сколько до конца войны?»
Пьеса была написана очень быстро. Он сложил пьесу, как песню.
Находясь вдали от Ленинграда, Шварц продолжал жить им. Он поехал в область, в пионерский лагерь, с мыслью написать пьесу для тюза. И здесь – в глубинке – он натолкнулся на ленинградских детей. С ребятами он сходился удивительно быстро. Одна девочка показала ему драгоценный сувенир, который она хранила уже год, – ленинградский трамвайный билет. Ребята мучились тоской по родителям и тоской по Ленинграду. Один из подростков признался Шварцу, что он надумал бежать в Ленинград, к отцу, уже насушил на солнце сухарей, экономя из своего скудного пайка, – и поведал ему тщательно продуманный план бегства. В «Одной ночи» мать пробиралась к сыну в Ленинград через фронтовое кольцо, теперь сын собирался к отцу через ту же преграду. Шварц пытался отговорить его, не словами, а пьесой, – история этого парня легла в основу сюжета.
Пьеса называлась «Далекий край». Драматург старался внушить ребятам – а сколько их было оторвано от родных гнезд, – что жить не только нужно, но и можно и в далеком от своего города, от родного дома, краю. Внушая это другим, Шварц словно уговаривал и самого себя, стараясь излечиться от ленинградской ностальгии.
В начале 1943 года было прорвано кольцо ленинградской блокады. Вскоре пришло письмо от Шварца. «Я все больше и больше склоняюсь к мысли о Ленинграде, – писал он. – Я не укладываюсь, но с нежностью поглядываю на чемоданы. Я ужасно боюсь, что когда можно будет ехать – сил‑то вдруг и не хватит. Впрочем, это мысли нервного происхождения».
Я знал о плохом физическом состоянии Шварца и советовал ему не торопиться в Ленинград, тем более что прорыв блокады имел скорее моральное значение. Положение ленинградцев, в сущности, почти не изменилось. Мало того, как бы в отместку на прорыв блокады немцы начали усиленно обстреливать город.
Но уговоры никак не действовали. Возвращение в Ленинград стало у него навязчивой идеей, он писал о нем в каждом письме.
«О Ленинграде мы знаем более или менее все. И тем не менее завидуем!»
«Все больше и больше склоняюсь к мысли ехать в Ленинград, несмотря ни на что». Он подчеркнул «несмотря ни на что» и добавил со свойственной ему шуткой: «Умирать – так с музыкой, и в компании».
Он жаловался на свое одиночество в многолюдном общежитии.
У Шварца были два любимых занятия – писать и читать. Если нагрянуть к нему внезапно, его можно застать за рукописью или за книгой. Он писал одну за другой пьесы, но его меньше всего можно было назвать театралом. Он признавался, что даже на свои пьесы ходит не очень охотно. Я, бывая с ним на спектаклях, наблюдал больше за ним, чем за происходящим на сцене. Он шептал слова своей пьесы, болезненно морщась при каждом вольном обращении артиста с текстом.
Шварц был домоседом, но его меньше всего можно было назвать нелюдимом. Он не мог жить без общения с друзьями, без беседы, в которой шутливое чередуется с серьезным.
В каждом письме из Кирова он напоминал о Ленинграде. Он был человеком деликатным и никогда не докучал просьбами, но напоминал об этом шутками. Он писал, что ежедневно работает над пьесой под заглавием «Вызови меня!» (Тогда появилась пьеса Симонова «Жди меня!»).
Я ведал репертуарной частью Большого драматического театра имени М. Горького и, вероятно, мог бы помочь Шварцу получить вызов. Пропуска в Ленинград давались весьма осмотрительно, вызовы подписывал непосредственно председатель Ленсовета. Но, думается, театру не отказали бы в пропуске для Шварца, тем более что он был нашим автором – он передал нам пьесу «Одна ночь».
Но я, признаться, не торопился с хлопотами. Я по рождению ленинградец и по себе знаю, какой колдовской силой обладает этот город. Но я понимал, что Шварцу не по плечу тяготы жизни в осажденном городе. Тоска, думалось, пройдет, Шварц успокоится, как всегда, работой. Ведь первый год эвакуации оказался для него весьма плодотворным: кроме тех двух пьес, о которых я уже говорил, он написал сказку для кукольного театра, продолжал работу над «Драконом».
Я полагал, что, увлеченный «Драконом», он забудет о Ленинграде.
Но случилось самое печальное – он написал, что, впервые с тех пор как уехал из Ленинграда, у него не клеится работа.
«Я тут сделал открытие, – писал он в следующем письме, – мелкие периферийные неприятности хуже артобстрела. Они бьют без промаха. Если не верите – приезжайте к нам и поживите зиму – другую. Не могу я тут больше писать. Хочу писать в боевой обстановке».
Если Шварц потерял возможность работать, значит, надо ему уезжать из Кирова.
Н. П. Акимов, находившийся с Театром комедии в Таджикистане, усиленно приглашал к себе. Казалось бы, все складывается хорошо: Шварц, правда, удалялся от Ленинграда, но, попав в творческую среду, смог бы работать плодотворно.
Еще недавно он писал, что его мысли о собственной слабости – нервного происхождения. Оказалось – совсем не нервного. Когда все было готово: достали с громадными трудностями билеты, уложили вещи, сдали карточки, Шварц, пройдя все предотъездные хлопоты, вдруг понял, что истратил все силы и ему не одолеть дальнюю дорогу. «Я обнаружил вдруг, что мне, пожалуй, не доехать, – писал он, – а если и доехать, то на новом месте я буду очень плохим работником, и я струсил и отступил».
Напугало его больше всего то, что он будет на новом месте плохим работником.
Подписано это горькое письмо было так – «известный путешественник Е. Шварц». Я вспомнил реплику из его пьесы «Одна ночь» – «шутки шутят в условиях осажденного города». Юмор не покидал его ни при каких обстоятельствах.
Жизнь строит подчас неожиданные сюжеты. Я, только что мысленно прощавшийся со Шварцем надолго (шутка ли, судьба бросает его на другую окраину страны – на Памир), вскоре встретился с ним в Москве. О встрече друзей позаботилось ведомство – Комитет по делам искусств вызвал нас на драматургическое совещание.
Я опоздал к открытию совещания, по причинам вполне уважительным.
Я вошел в зал во время выступления одного известного режиссера. Он призывал драматургов писать патриотические пьесы. Он не говорил, а почти кричал, отчаянно жестикулировал, вел себя так, как будто звал всех ринуться в атаку. Я начал оглядывать зал и отыскал глазами Шварца. Он тоже заметил меня, мы переглянулись и улыбнулись, как заговорщики.
Следом за режиссером вышел литератор и начал бубнить по бумажке:
– Мое творчество… Я создал… Моя биография… Тут Шварц не выдержал и пошел к выходу.
В коридоре было оживленней, чем в зале. Жизнь разбросала людей по разным фронтам и городам, и они, встретившись после долгой разлуки, никак не могли наговориться.
– Тот – артист, он не может не играть, – возмущался Шварц. – Но мог бы играть по системе Станиславского, а не каратыгинствовать. Но наш‑то хорош! Видимо, считает ниже своего достоинства пользоваться обыкновенными словами. К чему «творчество», когда можно сказать «работа»? Почему «создал», а не «написал». Обожают говорить красиво. Ну шут с ними! Почему вы опоздали? Неужели в Ленинграде плохая погода?
Мы стояли у окна, куда врывалось весеннее солнце.
Я рассказал ему, что в день моего отъезда Ленинграду досталось и с воздуха, и с земли. Я ехал на аэродром мимо горящих зданий. В наш транспортный самолет усаживался солдат – стрелок, деловито проверяя, безотказно ли действует пулемет. Мы поднялись, но нас сразу же вернули обратно – погода была хорошая, но не летная.
– Самая отвратительная манера вранья – вранье с подробностями, – усмехнулся Шварц. – Хватит вести среди меня агитационную работу!
– К сожалению, я ничего не преувеличиваю.
– Когда вы наконец пустите меня в Ленинград? Живут же там люди! Я сам буду пробиваться в Ленинград. Я там нужен. Вы начинаете репетировать мою пьесу, я должен быть рядом. Завтра в Комитете по делам искусств я сам попрошу, чтобы меня направили в Ленинград.
Пьесу «Одна ночь» наша труппа приняла очень хорошо. Был назначен режиссер, распределены роли. Художник В. В. Лебедев увлекся пьесой и написал превосходные эскизы декораций и костюмов. Репетиции не начинались из‑за того, что задерживалось разрешение на постановку пьесы.
Мы отправились с Шварцем в Комитет выяснить – почему задерживается разрешение. Наш разговор с театральным начальником был длинным и тягостным. Он очень долго говорил о блокаде Ленинграда. О пьесе он сказал совсем мало – величественная блокада Ленинграда должна быть воплощена в жанре монументальной эпопеи, а в пьесе «Одна ночь» отсутствует героическое начало, ее герои – маленькие люди, и этот малый мир никому не интересен.
Я пробовал возражать. Шварц сидел молча. Начальник вернул Шварцу пьесу, а мне дал другую.
– Вот, рекомендую познакомиться!
– Почему вы молчали? – спросил я, когда мы вышли на улицу. – Вдвоем мы переубедили бы его.
– Не думаю. Спорить с ним – это все равно, что возражать радиорепродуктору. Вы ему что‑то говорили, а он продолжал свое. И потом он все время говорил – «мы считаем». Не «я», а «мы». И сколько человек стоит за ним, кто входит в это понятие – «мы»? И зачем так подробно он говорил нам о блокаде, словно мы не нюхали ее, а приехали из Калифорнии… Не нужен я в Ленинграде, – сказал он, помолчав.
– Я отговариваю вас от Ленинграда не потому, что там опасно. Неизвестно, где и когда подстережет нас смерть.
Вам надо написать «Дракона». А в таких условиях вы его не напишете!
– «Дракона» я напишу даже в аду.
– Вы напишете его в Москве! Вам надо хлопотать, чтобы вас оставили здесь. Уже многие писатели вернулись из эвакуации в Москву. Вас наверняка оставят.
– В порядке компенсации за убитую пьесу, – усмехнулся он. – А что же за пьесу он вам рекомендовал? Покажите, это, наверное, образец, по которому надо равняться! Как хочется научиться писать рекомендуемые пьесы!
Мы стали рассматривать рекомендованную пьесу. Называлась она «Власть тьмы». Что такое: время ли сейчас для толстовской драмы? Но оказалось, что толстовской вывеской прикрывалась примитивная ремесленная пьеса о захвате Ясной Поляны немцами. Пьеса, напоминавшая пародию, открывалась списком «действующих лиц» и «действующих вещей» – халат Л. Н. Толстого, туфли Л. Н. Толстого и т. п.
– Это же находка! – улыбнулся Шварц. – Не написать ли мне пьесу об Иване Грозном под названием «Дядя Ваня». Нельзя ли подписать договорчик? И начальство одобрит!
Именно тогда началась «реабилитация» Ивана Грозного. Я напомнил Шварцу, что это все он уже предугадал – в его пьесе для детей «Клад» был сторож из заповедника – Грозный Иван Иванович.
Следующее письмо пришло не из Москвы, и не из Кирова, а из Таджикистана.
«В Москве надо было, по крайней мере, спрятать самолюбие в карман, – писал Шварц, – забыть работу, стать в позу просителя. А я человек тихий, но самолюбивый. И даже иногда работящий. И легко уязвимый… Выносить грубость сердитых и презрительных барышень – для меня хуже любого климата. И вот мы уехали в Сталинабад».
Следующее письмо было совсем мажорным – Шварцу некогда было отдыхать от дальней дороги, не было времени на акклиматизацию в непривычном и трудном климате, он сразу же сел за работу. «Дракон» был написан очень быстро. Он сообщал, что Акимов уже уехал с пьесой в Москву. Можно было представить, в каком тревожном состоянии пребывает Шварц, но письмо его было спокойным: «Пока что я не жалею, что повидал настоящую Азию. Пишу. А это, честное слово, извините за прописную истину, всетаки самое главное. В настоящее время я занят пьесой под названием «Мушфики молчит». Мушфики – это таджикский Насреддин. Когда мы увидимся? Вести с фронтов подают надежду, что скоро».
Нельзя было не радоваться за него – он только что окончил пьесу и уже принимается за следующую.
Пьеса «Мушфики молчит» не была написана – Шварц вместе с Театром комедии вскоре переехал в Москву.
В августе 1944 года я получил телеграмму: «Для восстановления вашего душевного равновесия к вам едет Шварц».
Наконец мы встретились с ним на ленинградской земле. Я сказал, что подготовил ему небольшой сюрприз.
Сюрприз был действительно небольшой, совсем крохотный. В учебном классе студийцы Большого драматического театра сыграли ему сцену из пьесы «Одна ночь». Играли они не бог весть как, но искренне и горячо; они были подростками в первый год войны и сами пережили то, что происходило с юными героями пьесы. Будущие артисты, сыграв сцену, пытались убежать из класса, они впервые выступали перед автором. Но Шварц буквально схватил их за руки. Через несколько минут они уже забыли свою робость и разговаривали с ним откровенно и увлеченно.
– Я перестану вас уважать, – сказал Шварц, когда мы остались в классе вдвоем, – если вы не напишете для этих ребят пьесу.
Шварц не раз укорял меня в письмах, – «только болезненное самолюбие мешает Вам писать пьесы». Эти слова и, конечно, влюбленность в студию заставили меня решиться на отчаянный шаг. Этой осенью я написал «Старых друзей».
Шварц не был моим литературным наставником, но я могу считать его крестным отцом своего драматургического первенца.
После войны жизнь опять развела нас, я переехал в Москву. Но как только мы оказывались в одном городе – приезжал я в Ленинград или он – в Москву, – мы встречались в первый же день. Разлука не ослабляла нашей дружбы, наоборот, мы стали ближе, перешли на ты, что для той и другой стороны представляло немалые трудности.
К Шварцу пришла известность, которую он давно заслужил, – его пьесы ставились уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Пришла слава, был достаток, было все, кроме здоровья.
В Москве, в Театре киноактера, поставили его пьесу «Обыкновенное чудо». Болезнь уже не позволила ему приехать в Москву посмотреть спектакль. Я написал ему подробную рецензию на спектакль. В ответ пришло письмо, написанное уже не корявым почерком Шварца, а отстуканное Екатериной Ивановной под диктовку на машинке.
«Спасибо тебе за обстоятельное письмо, – писал он. – После него спектакль мне стал совершенно понятен.
Насчет третьего акта ты, конечно, прав (я писал, что третий акт в пьесе слабее первых двух. – Л. М.).
Напомню только, что говорит об этом Чапек. Он пишет, что, по общему мнению, первый акт всегда лучше второго, а третий настолько плох, что он хочет произвести реформу чешского театра – отсечь все третьи акты начисто.
Говорю это не для того, чтобы оправдаться, а чтобы напомнить, что подобные неприятности случаются и в лучших семействах.
…Все как будто хорошо, но у меня впечатление, что мне за это достанется. Я бы предпочел, чтобы все проходило более тихо. Хорошие сборы?! Простят ли мне подобную бестактность? Открываю газеты каждый раз с таким чувством, будто они минированы.
У меня было сочинено нечто для программы, вместо либретто. Там я просил не искать в сказке скрытого смысла, сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а чтобы открыть свои мысли. Объяснял, и почему в некоторых действующих лицах, более близких к «обыкновенному», есть черты сегодняшнего дня. И почему лица, более близкие к «чуду», написаны на иной лад. На вопрос, как столь разные люди уживаются в одной сказке, отвечал: – очень просто. Как в жизни.
Театр не собрался напечатать программу с этими разъяснениями, но тем не менее в основном зрители разбираются в пьесе без путеводителя. В основном. И я пока доволен. Но открывая газеты… и т. д.».