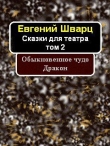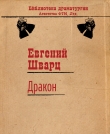Текст книги "Мы знали Евгения Шварца"
Автор книги: Леонид Пантелеев
Соавторы: Евгений Шварц,Леонид Рахманов,Николай Чуковский,Вера Кетлинская,Михаил Слонимский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Всякая претенциозность в искусстве имеет в основе своей такой именно противоестественный обратный ход. Художественное мышление Шварца было непримиримо чуждо подобного рода фокусничанью по той простой причине, что удивительное в его персонажах он черпал из собственного опыта. Многое такое, что удивляло и даже ставило в тупик каждого из нас, – с его точки зрения вообще не требовало объяснений. Таким естественным оно казалось ему самому.
Врачи потребовали, и притом в самой категорической форме, чтобы Евгений Львович бросил курить. Ему это было ничуть не менее трудно, чем любому другому человеку. Я подозреваю, что железным характером он не обладал. Тем не менее он курить бросил, и бросил способом совершенно немыслимым. Своим обычным «перечислительным» тоном он изложил мне свою «методу», которую считал самой совершенной из всех существующих. «Делается все очень просто. Ты покупаешь не одну, а две пачки «Беломорканала» и кладешь их в карман. Меньше чем с двумя пачками ты вообще на улицу не выходишь. Каждый раз, когда тебе захочется курить, ты закуриваешь. Ты это делаешь с удовольствием и не торопясь, так, как будто и не собираешься расставаться с курением. Однако, затянувшись, ты неожиданно вспоминаешь, что это вредно, и ломаешь папиросу, как будто не ты ее закурил, а она тебя закурила».
Портить бесчисленное множество папирос до тех пор, пока это занятие не осточертеет окончательно, – такова была его поразительная «метода», благодаря которой он действительно курить бросил. Я перечитываю нередко сказки Шварца, снова и снова встречаюсь с его героями, и иной раз мне хочется уличить их в том, что они меня разыгрывают. Но они вовсе не разыгрывают меня, как не разыгрывал меня и сочинивший их сказочник, бросивший курить при помощи курения.
Рукописный архив каждого яркого и требовательного художника, строго и безжалостно наблюдавшего жизнь, не отводившего, как говорится, глаз от окружающих его людей, чаще всего открывает новые стороны его внутреннего облика. Поначалу это ощущение только что открытой новизны особенно сильно. Кажется, что вновь узнанное невозможно или, во всяком случае, очень трудно согласовать со всем тем, что принято было думать о художнике, и со всем тем, что было известно о нем раньше. Нечто подобное пришлось пережить мне после смерти Евгения Львовича, когда я впервые познакомился со многими страницами его воспоминаний.
Но очень скоро я убедился в том, что нельзя слишком доверяться этому ощущению. В памяти людей, близко знавших Евгения Львовича, живет необыкновенно светлый, цельный, сосредоточенный человек, человек, которому мудрость его давно уже принесла душевную непоколебимость и высокое сознание художественной правоты. Именно таким Евгений Львович и был на самом деле. Иначе он не мог бы стать сказочником, иначе воображение его не обрело бы такой удивительной власти над всеми нами. Во всяком случае, воображение писателя не сумело бы нам внушить веру в подлинность изображаемого им мира и населяющих этот мир добрых или отвратительных, веселых или мрачных, близких нам или беспросветно чуждых существ.
Только людям, владеющим всесильным чувством правды, дано стать сказочниками, и только истинные жизнелюбцы, всем сердцем и душой привязанные к реальному миру, в котором мы живем, без страха и колебаний удаляются из этого мира в далекую страну чудес.
Но как же объяснить в таком случае некогда пережитые Шварцем мучительные сомнения, приступы неверия в себя, испытанные им ощущения нереальности или «картонаж – ности», как он говорил, жизни, которой он жил? С отчаянием и болью, тоской и обидой вспоминал он о днях, когда почему‑то, неизвестно почему, не влекла его работа, не торопило его собственное воображение, когда не испытывал он постоянной и воодушевляющей необходимости во «встречах с самим собой». Он вспоминает об «аристократической свободе от обязанностей» и задает сам себе один за другим нелепые, неестественные, прямо и непосредственно противоречащие нашему представлению о нем вопросы: «а что если в порочности истина?» или «не есть ли моя сдержанность – просто робость, холодность, отсутствие темперамента?»
Не один раз встречаются в неопубликованных рукописях писателя строки, открывающие как бы другого, неведомого нам, беспокойного и будто бы потерявшего веру в себя Шварца. «Может быть, придет день и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда я писал свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется! И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю!..»
Как будто бы и в самом деле неожиданны и не согласуются это тоскливое беспокойство и возбужденная, мучительная надежда с образом проницательного, далеко и ясно видевшего художника… Нет, подлинные надежды и ожидания писателя нисколько не были похожи на эти обгоняющие друг друга, судорожные, самообманные восклицательные знаки. Все вновь выяснившееся и как будто бы неожиданно открывшееся – не что иное, как сложное и глубокое подтверждение того, что можно было и следовало предполагать раньше. Настоящий художник неделим, и притом неделим даже в противоречиях своих, в пережитых им тревогах и поисках, неделим в главном, в том, ради чего неутомимо и бурно, день ото дня кипело его воображение.
Неоткуда было бы, вероятно, взяться его мудрости, если бы он шел в своей внутренней жизни гладкой и кем‑то, еще до него, укатанной дорогой.
Легкие праздничные прогулки художника не умудряют. Негде было бы взяться его душевному покою, покою правоты и убежденности, если бы не прошел художник сквозь огонь сомнений и тревог, через пережитую им тяжкую неуверенность в себе и даже непонимание собственного поприща. Можно не сомневаться в том, что на всем когда‑либо придуманном, познанном и сочиненном писателем остались живые, нестираемые следы побежденных им внутренних испытаний.
Очень часто душевная застенчивость мешала Шварцу говорить обо всем этом вслух. Должно быть, именно поэтому он часто, очень часто доверялся своему «гроссбуху», в котором с годами копились заветные раздумья, признания, подробности прожитого и пережитого. Вспоминая и записывая, он, по его собственному выражению, испытывал «некоторое наслаждение от собственной правдивости», и главным образом потому, что не имел перед глазами воображаемого читателя. Воображаемый читатель не заставляет его вспоминать именно то, что ему, читателю, особенно интересно было бы узнать. Ему не мешает назойливая мысль о том, что его неправильно поймут. Перед самим собой он может остаться точным и откровенным до конца.
В одном из сохранившихся в архиве Шварца рассказов – «Пятая зона – Ленинград» – описывается короткое, занимающее не более часа путешествие из дачного поселка Комарово в Ленинград. В рассказе этом ничего не происходит и скорее всего ничего и не должно произойти. Шаг за шагом описываются в нем станционные платформы и павильоны, неуклюжие бетонные вазы, установленные вдоль ограды, предупредительные плакаты, на которых изображены страшные последствия пассажирского легкомыслия. Точно воспроизводится картина появления поезда: «Кажется поезд черным и не по рельсам узеньким. Но вот он приобретает цвет и объем. Когда поднимается он из выемки уже перед самой нашей станцией, то мы видим сначала один верх моторного вагона с прожектором, который днем только поблескивает на солнце».
Весь рассказ этот состоит из подробностей и деталей. Тут и «смуглые от старости» карты, которыми пассажиры перебрасываются в «шемайку», и врывающиеся в вагон школьники, которые «так рады своему освобождению, что места себе не находят», и татуировка на руке у нищей: писатель прочел слово «два» и не мог понять, что бы оно могло значить, а оказалось не «два» а «Эва». Все эти подробности и наблюдения нагромождаются одно на другое, как кадры документального кинематографа, и, в конце концов, все вместе образуют картину, полную истинного напряжения жизни.
Шварц не любил рассказывать о собственных печалях, и, может быть, поэтому, рассказывая о других, умел быть таким откровенным и доверчивым. Вот входят в его повествование артиллерист, которого он полюбил «за простоту, понятность и здоровье», продавщица эскимо – «смуглая, худая, словно опаленная внутренним пламенем», жена футболиста, которая рассказывала, что «нет для нее дня счастливее последнего матча». Жизнь входит в вагон и выходит из вагона, а писатель все едет, и все думает, и глядит, и едет дальше. И это совсем не потому, что такая у него профессия, что приходится, хочешь не хочешь, наблюдать, присматриваться, интересоваться. Ему самому, независимо от его профессии, кажется, что если он что‑то пропустит, не заметит, не поймет, жизнь станет для него много беднее.
Впрочем, он и здесь, в вагоне электрички, остается сказочником, который только для того и живет на свете, чтобы обнаруживать вокруг чудеса. Далеко не всегда чудеса эти сотворены добротой человеческой, не во всех случаях они достигают цели. Иной раз они маленькие, а иной – большие, ночью они могут ослепить, а при свете солнца их вовсе не видно, но все равно – они чудеса, заслуживающие того, чтобы люди им удивлялись.
Кто знает: чудом может оказаться татуировка «Эва» на руке у наголо остриженной нищей – ведь что‑то очень важное могло оказаться связанным в ее жизни с этим странным именем, иначе зачем было бы выжигать его на запястье? И счастливая улыбка на лице у девушки, возвращающейся со свидания, – тоже чудо, о котором, быть может, она будет вспоминать долгие годы. И рассказ матери о сыне – солдате, спасшем тонувшего мальчика, – кто дерзнет утверждать, что нет ничего чудесного в гордости, заливающей теплом и светом сияющие материнские глаза!
…Есть у Пушкина такие горькие и печальные слова: «Забвение – естественный удел всякого отсутствующего». В жизни чаще всего так оно и бывает. Человеческая память, увы, далеко не всегда справедлива и не всегда достаточно дальновидна. Люди, которые так ощутимо заполняли до краев нашу жизнь, вносили в нее столько живых красок, столько ума и таланта, уходят, и даже по отношению к ним разрушительное время делает свое дело. Образ их тускнеет, черты их день за днем блекнут.
Но, может статься, что мысль, высказанная Пушкиным, имеет не только прямое, но и обратное значение: те, кого не коснулось забвение, те, кого взыскательная память сохранила нам, не должны считаться отсутствующими. Велико это чудо – жизнь, продолжающаяся после того, как ее носители и творцы ушли от нас. Снова и снова совершается оно на глазах каждого из нас. Совершилось оно и со сказочником Евгением Шварцем.
Он сам ушел, а его веселые и печальные, необузданные, самоотверженные герои, его короли и министры, его клены и ужи, олени и принцессы продолжают вести с нами свой необыкновенный, свой сказочный разговор. Они произносят диковинные, в самое сердце западающие слова, и мы знаем, что это его, только его, сказочника слова, которые не мог бы подсказать своим героям никакой другой сказочник. Забвение не коснулось созданного, сказанного, открытого художником, и это залог того, что он не отсутствует, что он по – прежнему среди нас!
Александр Дымшиц
В поселке Всеволожское под Ленинградом, близ Мельничьего Ручья, в дощатом домике жил человек, которого дети считали чудодеем и звездочетом.
Он ходил, окруженный оравой ребят, и его фантазия определяла их в короли и пажи, назначала Иванушками – дурачками и премудрыми Василисами.
– А какое блюдо, – спрашивал он, – самое придворное при дворе? И дети уверенно отвечали: «Анчоусы под соусом».
Шла игра, увлекательная, театрализованная – игра – импровизация. И ребята, и режиссер жили в мире сказки.
Но стоило окончиться спектаклю, и режиссер – чудесник, посмотрев на часы, спешил к перекрестку дорог, к радиорепродуктору, укрепленному на столбе. Передавали международные новости, и лицо «чудодея», еще несколько минут назад озаренное улыбкой, быстро темнело. В мире шла война. Гитлер заглатывал одно государство за другим. Фашисты репетировали нападение на Советский Союз. Смерть нависала над жизнью, грозила гибелью миллионам людей.
Тогда я впервые видел Евгения Шварца очень серьезным. Близкое будущее – войну – еще трудно было себе представить. Разве я знал, что именно по этой дороге через какие‑нибудь два – три года буду ездить из блокированного Ленинграда к шлиссельбургскому участку фронта? Разве знал Шварц, какие именно испытания ждут его в пору военного лихолетия?
Но неотвратимость войны была ясна. Войной, что называется, пахло в воздухе. И мы говорили об этом с тревогой, слушая радио перед заходом солнца на пыльном перекрестке дорог.
Евгений Шварц был человеком большого и скромного мужества – я еще не раз скажу об этом как о характернейшем его свойстве. В те дни он быстро сгонял с лица тень озабоченности и так же ребячился с ребятами, как всегда. Он оставался таким же веселым, шутливым, остроумным, каким его уже лет пятнадцать знали люди литературы и театра.
Ему ничего не стоило расписать своими шутками чуть ли не весь Дом писателя имени В. В. Маяковского. Щиты и плакаты с его остротами висели в один из праздничных дней 1940 года по всему дому – в залах, на лестницах и даже в гардеробе. На одной из площадок я увидел плакат: «Нет Дымшица без огня!» Когда я уходил, Евгений Львович остановил меня и сказал: «Вот я вас и прославил. Но слава – непрочная вещь. Слава, как дым. Шиц! – и нет ее. Заберите с собой это воззвание». Я покорно снял плакат со стены, отвез его домой и повесил над рабочим столом. Шутки Шварца были всегда веселы, остроумны, милы, как‑то ласково ироничны (конечно, ласковы тогда, когда Шварц не гневался).
Вскоре началась война. В очень грозную пору – враг рвался к Ленинграду, наши армии отошли к стенам города – я встретил Шварца на Невском, возле Дома книги. В ту пору я видел разных людей – подтянутых, с отважными взглядами, растерянных, с бегающими глазами… Шварц был почти таким, как обычно. Разве что привычная ирония не вплеталась в его слова.
Он сказал, что завидует тем, кто на фронте. «Если бы эти руки, – сказал он и чуть приподнял руки, пораженные неизлечимой болезнью – дрожью, с которой он не мог совладать, – если бы эти руки мне не мешали, я был бы в армии». Я спросил, что он делает, что намерен делать? «Какие наши дела? – ответил Евгений Львович. – Пишу. Вот пьесу дам театру. Сейчас нужна публицистика, сатира… Пишу… И по дому разная возня, дежурства и прочие мелочи».
Несколько позже от товарищей, приезжавших в нашу армию из города, я узнал, о какой «возне», о каких «мелочах» говорил Шварц. Оказалось, что он часами дежурил на крыше писательского дома на канале Грибоедова и гасил вражеские «зажигалки». В том, как действовал на своем гражданском посту Евгений Шварц, в том, как он об этом отзывался, было настоящее мужество. Много лет спустя, читая его пьесу «Дракон», я подумал, что в рыцаре Ланцелоте жила душа самого Шварца. Разве тогда, в начале
войны, он не был таким, как его Ланцелот, воскликнувший под «нарастающий свист, шум, вой, рев», под дребезжание стекол, при виде вспыхнувшего зарева: «Я вызову на бой Дракона!»
Шварц всем сердцем ненавидел фашизм, он сражался с ним смело и яростно. Такими пьесами, как «Тень», «Дракон», «Голый король», «Наше гостеприимство», «Одна ночь», он нанес ему раны разной глубины, но каждый раз раны. Этот человек – улыбка мог казаться незлобивым весельчаком только поверхностным и недалеким людям. На самом деле он был художником горячей идейной устремленности, страстного общественного темперамента, человеком нежного и гневного сердца.
Евгений Шварц написал немало. Пьесы, сценарии, проза… Он был любимым автором Театра комедии, Театра юных зрителей, Театра кукол. Детские души он знал как истинный художник – педагог, – кто из малышей не полюбил его «Первоклассницу»? Он брал себе в «соавторы» безымянных творцов русской народной сказки, Андерсена, Перро, Шамиссо. Старые, хорошо известные образы начинали жить новой жизнью в его произведениях, освещались новым светом, «работали» с удесятеренной силой.
О Шварце написано немало. В том числе и немало верного. Не буду повторять сказанного. Хочу лишь подчеркнуть большое воспитательное значение его произведений. Театр Евгения Шварца – явление особенное, стилистически оригинальное. Тут и сказочность, и фантастика, и памфлетность, и пародийность, и романтическая ирония, и романтическая лирика. Тут всегда представление, всегда зрелище. Тут самый неожиданный сплав таких театральных традиций, как романтическая феерия и гротеск в духе «Кривого зеркала». Тут и высокая экзальтация чувств, и условные лица – маски, и сатирическое обнажение приема, и водевильный шарж. Какая многоцветность, и какое многоголосье! И при всем том всегда, во всем – организующее идейное задание, отчетливая социальная цель.
Шварц был художником, упорно, настойчиво, последовательно воспитывавшим в своих зрителях высокие и благородные моральные принципы. Он был поистине «проповедником» добра, любви, справедливости, мужества и самоотверженности в борьбе за правду. «Не добренькими, а добрыми нам надо быть», – сказал он мне однажды. Слова эти для него показательны. Во всех его пьесах живет идея активности добра – в «Кладе», «Снежной королеве», «Двух кленах», «Обыкновенном чуде», «Повести о молодых супругах». Ученый в «Тени», Ланцелот в «Драконе» – живые воплощения этой идеи. Есть у Шварца сценарий «Дон Кихот». Какой «программный» финал в этом сценарии! Вот уже лежит Ламанчский рыцарь на смертном одре, и его угасающее воображение то альдонсирует Дульсинею, то дульсинирует Альдонсу. Он борется со смертью, и он побеждает ее во имя вечного боя за истину и добро.
Русская литература знает много концепций Дон Кихота. Тургенев рассуждал о Рыцаре Печального Образа в знаменитой речи «Гамлет и Дон Кихот», о которой писал в своих конспектах Плеханов. Герцен «отодвинул» в прошлое «Дон Кихотов революции», ратуя за новый тип революционера, за борца – реалиста из породы молодых штурманов грядущей революционной бури. Но Шварц видел Дон Кихота иным, чем те, с кем спорил Герцен. У него он труженик и воин, народный заступник и рыцарь добра. Дульсинея говорит про его «натруженные руки», Санчо просит его сказать ободряющее «словечко на рыцарском языке». И Дон Кихот произносит в финале тираду, полную активной веры в активность добра. «Сражаясь неустанно, – говорит он, – доживем, доживем мы с тобою, Санчо, до золотого века. Обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности. Мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете. Справедливость уничтожит корысть и пристрастие. Вперед, вперед, ни шагу назад!»
Читаю я эти слова, и мне кажется, что говорит их сам Евгений Шварц, как говорит он и устами пламенного Ланцелота, и устами умного, скромного, милого, непоколебимо убежденного в силе правды и добра Ученого.
«Проповедь» добра у Шварца ничем не походит на «всеобщее примирительное похмелье», над которым некогда насмехался Энгельс. Оберегая и защищая принципы нашей социальной общности, Шварц умел гневаться и ненавидеть, когда создавал образы Тени и Дракона, Голого короля и Бургомистра. Он умел воспитывать презрение к подлости и пошлости, непримиримость к насилию, обману и злу. Он был активным, атакующим гуманистом. И садясь за пишущую машинку, Шварц всегда – в произведениях из современной жизни и в «пересозданиях» чужих сюжетов – видел все свои решения в свете главной задачи: борьбы за советскую, социалистическую нравственность.
Евгений Львович был отличным товарищем. Он радовался успехам литераторов, приветливо встречал молодых, идущих в литературу. И при этом он был человеком требовательным, человеком безукоризненного вкуса.
Были у него, разумеется, и свои особые привязанности в литературе. Он чтил и любил С. Я. Маршака, ценил его подвижническую борьбу с педологами за право на сказку, воображение, условность. Он и сам в двадцатых годах выстрадал эту борьбу вместе с Маршаком, Чуковским, Брянцевым, Деммени, Лебедевым, Еленой Данько и другими талантливыми художниками. Когда в Ленинграде – незадолго до смерти Шварца – чествовали Маршака, Евгений Львович не мог выступить на этом юбилее, но продиктовал свою приветственную речь в магнитофон. То были слова признательности и любви.
Шварц нередко вспоминал товарища юных лет – покойного Н. М. Олейникова. Он любил повторять некоторые шутки этого «новейшего Козьмы Пруткова».
«Проходит в штанах обыватель, летит соловей без штанов», – процитировал как‑то Шварц Олейникова, увидев некоего кинооператора в стиляжных брючках, вывезенных откуда‑то из‑за границы.
Высоко ценил Шварц прозу А. И. Пантелеева за точные слова, за прекрасное знание детской психологии, за уважение к ребенку. Он и сам умел уважать маленького читателя и зрителя, взывая к тем чертам его сознания, которые предвещали в нем взрослого, и щедро «потрафлял» его любви к игре и зрелищу.
Он уважал литературу мужественную, без сантиментов и слащавой литературщины. Во многом сам романтик, он любил романтику, идущую от жизни, неотрывную от почвы действительности. В основе его поэтических «вымыслов» всегда лежала реалистическая, социальная, нередко острополитическая мысль. Его Ланцелот прямо, отважно смотрел в глаза Дракону, Ученый смотрел чистым, открытым взглядом в нечистые глаза своей Тени, – то были вызовы на битву. Шварц и в Андерсене любил поэзию жизни, прочно связанную с земной почвой.
Однажды я рассказал Евгению Львовичу, как моя маленькая дочка отозвалась об одной прочитанной ею новелле про Андерсена, в которой было много романтических условностей и сентиментальных мотивов (ночной дилижанс, таинственная спутница, вздохи и слезы – «маленькие алмазные капли»), но Андерсен нисколько не походил на создателя мудрых и сильных сказок. «Как грустно, – заметила девочка, – я думала, Андерсен совсем не такой».
Я рассказал про этот маленький эпизод Шварцу, и он, ни словом не отзываясь о новелле, сказал, что его «дорогой Ганс – Христиан» далеко не был ангелом и не носил крылышек. Потом он сказал, что искусство – всегда жизнь, а не колдовство и что его краски не должны быть такими красивыми, как на леденцах или в плохих цветных фильмах. Таким краскам не верят, особенно дети с их чистым, незамутненным, ненатруженным взглядом на мир и людей.
В молодости Шварц был актером. Став литератором, он никогда не порывал своих связей с театром. Все его пьесы написаны с точным сценическим «расчетом». На его пути ему посчастливилось встретиться с режиссером, который стал другом и истолкователем его пьес. Я говорю о Николае Павловиче Акимове.
Но и для Акимова встреча со Шварцем явилась важным событием. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что «Тень» стала для Акимова таким же спектаклем, как для Вахтангова «Принцесса Турандот». Без этого спектакля, поставленного впервые еще в предвоенные годы, трудно представить облик Театра комедии. Акимов превосходно передал на сцене чудесный стилистический сплав этой пьесы – сказки, но сыграл ее прежде всего как сатирический спектакль с глубокими социально – реалистическими корнями.
Мне посчастливилось видеть и другую талантливую постановку «Тени», созданную ныне покойным Густавом Грюндгенсом в 1947 году в Берлине на Камерной сцене Немецкого театра имени Макса Рейнгардта. В этом спектакле была гораздо обстоятельнее, чем у Н. П. Акимова, прочерчена романтическая линия пьесы – линия Ученого и Аннунциаты. В ту пору я жил и работал в Берлине, бывал на репетициях «Тени» и мог убедиться на премьере, как восторженно была принята пьеса Шварца прогрессивно настроенными немцами.
У меня сохранилось письмо, написанное Густавом Грюндгенсом незадолго до берлинской премьеры «Тени» (письмо датировано 29 марта 1947 года). В нем замечательный режиссер подробно характеризует исполнителей главных ролей и общий стиль постановки, делится своими тревогами и сомнениями. В этом письме содержатся чудесные характеристики образов пьесы, – говорится, что Аннунциата должна «звучать так чисто, как народная песня», что в Ученом должен жить дух «вечного стремления». В фигуре Тени режиссер хотел выразить нечто глубоко посредственное, «ничуть не демоническое, бледное, второстепенное». Мир, окружающий Тень, он видел, как «декадентский, который можно наилучшим образом подчеркнуть, ориентируясь на некоторые полотна некоторых французов эпохи «конца века» – от Мане до Тулуз – Лотрека». «Мои надежды направлены к тому, чтобы голоса Ученого и Аннунциаты, – иначе говоря, голоса живой и деятельной жизни, – пробились сквозь пестрый калейдоскоп», – так кончалось письмо Грюндгенса.
Вместе с тем Густава Грюндгенса тревожил вопрос о зрителе. «…Русский зритель, – писал он мне, – как я полагаю, естественно идентифицируется с Аннунциатой и Ученым… При постановке пьесы в Германии, особенно в Берлине (и особенно у посетителей берлинских премьер), это может оказаться не так». Получив это письмо, я поехал к Грюндгенсу. Мы долго говорили о пьесе, о Шварце, о чарующей силе его гуманизма. Мы решили, что Шварц в трактовке Грюндгенса должен покорить и завсегдатаев берлинских премьер. И мы не ошиблись.
«Тень» была встречена превосходно, тепло, отзывчиво. Она вызвала широкий отклик в берлинской прессе. Известный писатель и театральный критик Фриц Эрпенбек писал в рецензии: «Действие ее (пьесы. – А.Д.) уходит своими корнями в пестрый мир сказок Ганса – Христиана Андерсена и братьев Гримм и даже в какой‑то мере в романтику Эйхендорфа и своеобразную социальную критику Э. – Т. – А. Гофмана. Эту пьесу меньше всего хочется назвать «пьесой» – она поэтическое создание, полное лирики, юмора и ума… Бурные, бесконечные аплодисменты в конце спектакля (который не раз прерывался рукоплесканиями) говорили не только в пользу автора, режиссера и исполнителей, но и в пользу самой публики – немецкой публики, демонстративно приветствовавшей новую жизнь, новую человечность, оптимистический гуманизм советского искусства». Впрочем, на премьере не обошлось и без анекдота: в тот момент, когда слетела с плеч королевская голова Тени, в разных местах зала поднялись его королевского величества офицеры английской оккупационной армии и покинули театр…
Евгений Шварц был так скромен, что даже не ожидал успеха берлинского спектакля. Он писал мне: «Я собирался телеграфировать Вам, чтобы через Ваше посредство передать поздравления и приветы труппе и режиссеру. Но остановили меня две вещи. 1) Если «Тень» прошла неудачно, то приветы и поздравления прозвучали бы смешно. И – 2) Я никак не мог их сформулировать. Я Вас очень прошу, если все прошло благополучно, – передайте всему коллективу мой дружеский привет в той форме, какую Вы найдете удобной». У меня были все основания передать театру сердечный привет от Шварца.
После Берлина «Тень» была поставлена еще во многих европейских столицах – и всюду с успехом. Шварц считал, что берлинский спектакль, с которым он познакомился по многочисленным рецензиям и фотографиям, безусловно удался. Он помнил, что его пьеса была рекомендована вниманию немецкого театра не без моего участия, и поэтому надписал мне новое издание своей пьесы (1956 год) словами благодарности за то, что «Тень» была… «выведена в свет». (Я привожу эту надпись, как характерный для Шварца каламбур.)
Как я уже сказал, пьесы Шварца создавались с верным сценическим прицелом. И театр принял их в самых разных странах. Приведу лишь один пример их популярности – пример театров ГДР. В этой республике, как явствует из бюллетеня издательства «Хеншель» от декабря 1962 года, переведено десять пьес Шварца. Из них «Тень» прошла в 27 постановках, «Снежная королева» – в 63, «Красная шапочка» – в 46, «Два клена» – в 27, «Повесть о молодых супругах» – в 5. Цифры эти говорят сами за себя.
Везде и всюду, во многих, многих странах пьесы Шварца воспитывают добрые чувства, учат человека человечности, вооружают людей ненавистью к насилию, войне, фашизму. Везде и всюду они пленяют своим брызжущим остроумием, увлекают театральностью. Когда Шварц писал «Голого короля», он, конечно, не знал чаплинского «Диктатора». Но кто не почувствует близости в поведении короля и его свиты у Шварца к тем эпизодам фильма Чаплина, когда диктатор Хинкель принимает «ученых», «художников» и прочих своих дипломированных лакеев? Когда Шварц взялся за «пересоздания» чужих сюжетов, он, разумеется, не имел ни малейшего представления о том, что на этот путь уже встал в Германии Бертольт Брехт. В таких совпадениях сказывалась не творческая зависимость от образцов, а общность новаторских художественных исканий.
Шварц принадлежал к тем людям театра и драматургии, которые никогда не отделяли искусства от жизни, которые видели в искусстве «сгустившуюся», «спрессованную» жизнь. Для них рампа – не духовный барьер между зрелищем и публикой. Но в то же время сцена для них выше зала, она трибуна, и публика должна тянуться к ней всей душою и получать со сцены такие дары жизни и мысли, которые сделают ее еще лучше и чище. О том, как Станиславский и Вахтангов боролись за нравственное и эстетическое «возвышение» публики, хорошо рассказал в записях их бесед Н. Горчаков. Мейерхольду удар гонга в начале спектакля был нужен не для того, чтобы возвестить некое таинство, а для того, чтобы приковать на несколько часов внимание зрителей к сконцентрированным в искусстве жизненным проблемам.
Чтобы искусство служило жизни, оно не должно быть его простой копией. Если театр перестает быть зрелищем и становится «фотографией» быта, он неизбежно гибнет. Все настоящие мастера драмы и театра всегда озабочены тем, чтобы решать свои задачи в зрелищных формах. На одной из репетиций «Мамаши Кураж» я спросил у Брехта: зачем ему нужна такая‑то деталь в декорации? Брехт сказал, что эта деталь – часть целого, она органична, без нее нет картины, а без картины нет зрелища. Прочитав «Повесть о молодых супругах», я спросил у Шварца, зачем ему в пьесе с бытовым фоном, с общественно – психологическими проблемами понадобились кукла и медвежонок, говорящие человеческими голосами и комментирующие действие. Шварц объяснил, что, в сущности, они тоже действующие лица, тоже «славные ребята», что без них спектакль проиграл бы в поэтичности и был бы меньше зрелищем.
Евгений Шварц был современником Маяковского. И убеждение в том, что театр – «увеличивающее стекло», что спектакль – зрелище, – это убеждение, утверждавшееся Маяковским, было ему, конечно, близко и дорого.