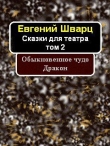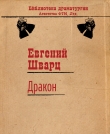Текст книги "Мы знали Евгения Шварца"
Автор книги: Леонид Пантелеев
Соавторы: Евгений Шварц,Леонид Рахманов,Николай Чуковский,Вера Кетлинская,Михаил Слонимский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Лев Левин
21 октября 1956 года Евгению Львовичу Шварцу исполнилось шестьдесят. Некоторые его московские друзья поехали на юбилейные торжества. Мне тоже очень хотелось поехать, но не удалось. Я стал сочинять поздравительную телеграмму. Это оказалось крайне трудным делом. Ведь юбиляром‑то был не кто‑нибудь, а Шварц!
Перебрав десятки вариантов с претензиями на остроумие, я в конце концов написал нечто в высшей степени плоское и невыразительное: «Поздравляю тебя, старый друг… желаю здоровья и счастья… сердечный привет Екатерине Ивановне…»
Моя бездарная телеграмма утонула в потоке сверкавших остроумием приветствий и поздравлений.
Никакого ответа от Шварца я, естественно, не ждал. Но когда я зашел однажды к Александру Петровичу Штейну, он показал мне письмо от Евгения Львовича с благодарностью за поздравление.
Не скрою, меня это задело. «Ах, вот как, – подумал я, – Штейну ты небось ответил, а мне…»
Ревнивое чувство усилилось, когда Штейн, со свойственной ему манерой наступать человеку на любимую мозоль, сказал:
– Ты, вероятно, тоже поздравил Женю. А ответ получил?
Но, видимо, я забыл, что имею дело не с кем‑нибудь, а с Шварцем.
Придя домой, я нашел конверт, надписанный хорошо знакомым почерком.
«Дорогой Лева! – прочел я. – Спасибо тебе за телеграмму. Жаль, что ты не приехал. Я позвал бы тебя на банкет, а главное, сказал бы, что ты хорошо выглядишь.
Спешу тебе сообщить, что, судя по приветствиям и поздравлениям, я очень хороший человек. Я тебе дам почитать, когда приеду в Москву. А пока верь на слово и уважай меня.
Я втянулся в торжества, и мне жаль, что все кончилось. Почему бывает год геофизический, високосный и т. п., а юбилейный – всего только день?
Впрочем, уже без шуток, спасибо тебе, старый друг, за поздравление. Целую тебя. Е. Шварц. 23 октября».
В этой короткой записке каждое слово, если так можно выразиться, дышит Шварцем. Но одно место в ней требует пояснения: «Я… сказал бы, что ты хорошо выглядишь».
За много лет до того как я получил эту записку, задолго до войны, ехали мы однажды втроем по Ленинграду – Евгений Львович, Юрий Павлович Герман и я. Направлялись мы на дачу к Герману. Предстоял длинный летний вечер в тесном дружеском кругу, и настроение у всех было отличное.
Сидя в маленьком «газе» – он именовался тогда «козлик» и за рулем с важностью восседал его хозяин Герман, – Евгений Львович, как всегда, рассказывал забавные истории, беззлобно подшучивал над водителем, сокрушался по поводу легкомыслия прохожих, не помышляющих о том, какую опасность представляет для них наша машина.
Неожиданно повернувшись в мою сторону и подозрительно на меня посмотрев, он сказал:
– Ты сегодня плохо выглядишь.
В молодости я отличался отвратительной мнительностью. Это всегда служило предметом издевательства со стороны близких друзей.
Разумеется, мне следовало понять, что и на этот раз Шварц просто издевается. Но я принял его слова всерьез, сразу почувствовал себя тяжелобольным и попросил Германа остановить машину.
Напрасно Евгений Львович, хохоча, уверял меня, что пошутил. Я твердил, что в самом деле нездоров и мне необходимо лечь в постель. В конце концов Герману и Шварцу надоело уговаривать меня. Они, что называется, плюнули и уехали. А я пришел домой, поднялся к себе на пятый этаж и действительно лег в постель. Встав наутро совершенно здоровым, я, конечно, не мог простить себе, что не поехал. Впоследствии выяснилось, что Шварц, с его необыкновенным чутьем на смешное в жизни и в людях, запомнил эту историю.
Встречаясь со мной, он каждый раз по – новому старался довести до моего сведения, что я хорошо выгляжу. То он
отводил меня в сторону, говоря, что должен сказать что‑то по секрету, и таинственно шептал мне на ухо: «Ты выглядишь отлично», то подговаривал кого‑нибудь неумеренно восхищаться моим видом, то, скучая на каком‑нибудь собрании, писал измененным почерком: «Вы сегодня великолепно выглядите!»
Впрочем, теперь мне кажется, что Евгений Львович, встречаясь со мной, всегда как бы держал про себя эту историю.
Очень сблизила нас совместная поездка в Грузию. Это было в 1935 году. Бригада ленинградских писателей провела в Грузии около месяца. В бригаду входили Евгений Львович, драматург Яков Лазаревич Горев, Юрий Павлович Герман, Виссарион Михайлович Саянов, Александр Петрович Штейн и я.
Все мы были молоды – Герману было двадцать пять, Саянову – тридцать два, Штейну – двадцать восемь, мне – двадцать четыре. Евгений Львович считался среди нас едва ли не Мафусаилом – ему шел тридцать девятый год…
Мы приехали в Тбилиси (тогда еще – Тифлис) в конце июля. Председатель бригады Горев рассказал сотруднику местной газеты о наших планах. Он сказал и о том, что «детский писатель Е. Шварц использует свое пребывание в Грузии, чтобы перевести лучшие образцы грузинской детской литературы на русский язык». Тогда Евгений Львович Шварц еще считался детским писателем…
Не буду рассказывать сейчас о том, как мы ездили по Грузии. Побывав во многих районах республики и полностью оценив несравненное гостеприимство грузинских друзей, мы вернулись в Тбилиси. Пришла пора отправляться к невским берегам. Но мы так привыкли друг к другу, что нам. захотелось продолжить путешествие. Не помню уж кто, – может быть, и Евгений Львович, – вдруг предложил:
– А что если нам махнуть в Батум, сесть на теплоход, доехать до Одессы, а оттуда добираться до Ленинграда?..
Предложение было мгновенно принято. Только Саянов сказал, Что его ждут в Ленинграде срочные дела, и в тот же вечер уехал на север.
Что же касается нас, пятерых, то мы отправились в Батуми, пожили там несколько дней, купили билеты на теплоход и приготовились к приятному морскому путешествию до Одессы.
Но тут произошло нечто совершенно неожиданное.
Оказалось, что все каюты и вообще все классные места забронированы за делегатами Международного конгресса физиологов. Конгресс, происходивший в Москве и Ленинграде, недавно закончился, и участники его совершали теперь поездку по Черноморскому побережью.
Мы предъявили билеты первого класса, а нам предложили либо ехать палубными пассажирами, либо ждать следующего теплохода, отправлявшегося из Батуми через двое суток…
Узнав об этом, Евгений Львович с невозмутимым видом сказал:
– Это нас подвел Уолтер Кеннон, черт его побери. Личный друг Ивана Петровича Павлова.
Конгрессом физиологов вместе с Иваном Петровичем Павловым действительно руководил его друг, знаменитый американский ученый Уолтер Кеннон.
– Подвел нас старик Уолтер, – повторил Евгений Львович и засмеялся своим похожим на покашливание смехом.
Ждать следующего теплохода было бессмысленно: мы сдали номера в гостинице и распрощались с батумскими товарищами. Оставалось только сесть на теплоход и ехать палубными пассажирами.
Поездка оказалась, конечно, довольно тяжелой. Весь день мы торчали на палубе, а спали в шезлонгах. За них тоже приходилось вести борьбу. Теплоход был переполнен.
Укладываясь на ночь и кое‑как пристраивая свои длинные ноги, Герман мечтательно говорил:
– А Виссарион все‑таки молодец. Вернулся сейчас из вагона – ресторана в свой спальный вагон прямого сообщения. Пиджак повесил на плечики. Опустил жалюзи.
– Это что, – подхватывал Шварц. – А старик Уолтер? Как он блаженствует сейчас в каюте, в которой должен был…
Евгений Львович продолжал шутить и держался бодро, но я видел, что он изрядно устал и в глубине души тоже завидовал благоразумному Саянову.
Каждое утро мы вставали со своих шезлонгов совершенно разбитые. И каждое утро Евгений Львович вглядывался в мое позеленевшее от бессонницы лицо и деловито говорил:
– Посмотрите, пожалуйста, какой цветущий вид у нашего Левы. Никогда он так отлично не выглядел.
Однажды, во время качки, увидев, что я уцепился за перила и еле держусь на ногах, Евгений Львович потрепал меня по плечу и бравым голосом сказал:
– Ты только подумай, как хорошо, что мы едем на палубе. Старик Уолтер задыхается сейчас в своей каюте первого класса. А ты дышишь свежим морским воздухом. Уолтер никогда не будет выглядеть так дивно, как ты.
Стоявшие рядом Герман и Штейн оскорбительно захохотали. А я почувствовал себя как будто немного лучше.
Наше злополучное морское путешествие мы вспомнили много лет спустя, когда началась война. Шварц тушил зажигалки на крыше своего ленинградского блокадного дома, а остальные члены грузинской бригады – Саянов, Герман, Штейн и я, надев армейские гимнастерки и флотские кители, разъехались кто куда – кто на северные моря, кто на балтийские берега, кто в карельские леса, кто в синявинские болота… Мы добродушно посмеялись над трудностями нашего морского путешествия, и оно показалось нам необыкновенно уютным, почти комфортабельным.
Последний раз Евгений Львович сказал мне, что я хорошо выгляжу, также задолго до войны, но в обстановке, которую никак нельзя назвать мирной.
Шел 1937 год. Меня исключили из Союза писателей за связь с Леопольдом Авербахом, которого только что объявили «врагом народа». Не все старые друзья сохранили тогда свое расположение ко мне, но Герман и Шварц общались со мной постоянно. Более того, я долго жил на даче у Германа. А неподалеку снимали комнату Шварцы.
Мы встречались почти каждый вечер. Либо Шварцы приходили к нам, либо мы наведывались к Шварцам.
Теплым июньским вечером, прогуливаясь по поселку, мы пришли на станцию, где обычно вывешивались свежие ленинградские газеты. В одной из них была напечатана статья, где снова я встретил свое имя в связи с тем же «делом Авербаха».
Пробежав статью, Евгений Львович на мгновение помрачнел и внутренне весь напрягся, но тут же овладел собой.
– Обратите внимание на нашего Леву, – сказал он тем особым комически – серьезным тоном, каким умел говорить, кажется, он один. – Ему поразительно идет быть исключенным из Союза писателей. Пожалуйста, – обратился он ко мне, – когда тебя восстановят, постарайся выглядеть по крайней мере не хуже.
Все засмеялись, хотя не могли не понимать, что думать о моем восстановлении было, мягко говоря, преждевременно. Я тоже отлично понимал это, но – странное дело – только что прочитанная статья уже не казалась мне такой угрожающе – страшной.
Когда меня действительно восстановили в Союзе писателей – это случилось больше года спустя – и я встретился с Евгением Львовичем впервые по восстановлении, он подозрительно посмотрел на меня и с искренне соболезнующим видом сказал:
– Ты сегодня плохо выглядишь. Глаза его смеялись.
На этот раз я, слава богу, понял, что он шутит. Я чувствовал себя совершенно здоровым.
С. Цимбал
Я познакомился с Шварцем очень давно, почти сорок лет назад. Знакомство это было во многих отношениях неравным, и, должно быть, именно поэтому мне так хорошо запомни– лась на редкость непринужденная манера, в которой взрослый писатель заговорил с едва вступавшим в совершеннолетие первокурсником. Мне шел восемнадцатый год, а Евгению Львовичу двадцать девятый. И вот, несмотря на столь очевидное неравенство, он сразу же обратился ко мне так, словно давным – давно знал меня и будто у него были вполне основательные причины прислушиваться ко мне.
– Помните, у Гейне говорится, что в каждой пьесе Шекспира действует свой климат; в одной идет снег, а в другой такая духотища, что дышать невозможно.
Я, разумеется, ничего такого не помнил, но был до крайности польщен тем, что мой собеседник считает меня человеком осведомленным и принимает, так сказать, всерьез. Только много лет спустя я понял, что он намеренно и сознательно пропускал целую стадию, через которую проходят, как правило, новые знакомства, для того чтобы как можно скорее достичь поры, когда близость с людьми становится не только интересной, но и плодотворной. Ему нужны были любые знакомства, и в любых он находил пользу для себя.
Мгновенные сближения Шварца с людьми всегда были непосредственны, искренни и по сути своей серьезны. Его внешняя манера держаться далеко не во всем соответствовала его подлинной натуре. Он был нетороплив, насмешливо важен, казалось, что изо всех сил старается придать самому себе побольше весу. Однако поразительное, сохраненное им до последних дней жизни умение отрешаться от всего, что принято именовать житейской суетой, вовсе не следовало принимать за чистую монету.
Надо было очень хорошо знать его, чтобы правильно понять и оценить его подчеркнутую сдержанность и чуть абстрактную, почти всегда неожиданную любознательность.
Он вторгался в самые различные области знания по причинам, которые никто не мог бы объяснить сколько‑нибудь точно. На какое‑то время он становился энтомологом или историком Древней Руси, внезапно погружался в тайны павловской физиологии или вдруг оказывался придирчивым и хорошо разбирающимся в предмете лингвистом. За одно я могу поручиться: все эти интересы никогда не были у него прикладными и возникали вне всякой видимой связи с тем, что он в данный момент делал. Накапливавшиеся им знания нужны были не его героям, а ему самому.
Он вбирал в себя впечатления, не давая отдыхать собственной памяти, неизменно проявлял удивительную внутреннюю подвижность, способность вкладывать себя всего в самый процесс восприятия жизни. Он никогда не уставал от этого процесса – жизнь, люди, звери, вещи не могли быть безразличны ему даже тогда, когда лично его существования не затрагивали. Вещи в его понимании не были ни в какой мере бездушны и безответны. Не собираясь шутить, он утверждал, что неодушевленные предметы ехидно подсматривают за ним, провожают, если он уходит из дому, пристальным взглядом, усмехаются, если он что‑нибудь делает не так.
В этом не было и тени умышленного, показного чудачества или тайного кокетства. Все, что только открывалось ему в окружающем мире доброго и злого, прекрасного и уродливого, близкого и чужого, уподоблялось им человеческому, имело свой естественный и неоспоримый человеческий смысл. Однажды в Комарове, спускаясь к заливу и проходя мимо косо растущего (по – видимому, из‑за оползня) дерева, он сказал, не поворачивая головы, с величайшим презрением: «Холуй». Поза человека, походка, жест, движение головы были в его представлении «откровенностью природы», характеризовавшей свои создания со всем возможным прямодушием.
Я не хочу бросать тень на его эстетическую образованность – сомневаться в ней не приходилось, – но мне кажется, что теоретические исследования по искусству не были его любимым чтением. Объясняется это, вероятно, тем, что все психологические и умственные явления существовали для него только в той степени, в какой могли быть выражены в пластической форме. Он буквально проглатывал книги, в которых прошлое воссоздавалось в конкретном, материально ощутимом виде, так, что его можно было коснуться рукой. Этому требованию он оставался верен во всей своей писательской работе. Жизнь в его сказках была слышима и зрима, звенела, плескалась, скрипела или шелестела. Она была колючей или шершавой, прозрачной или душной, ровной или перекошенной.
Как‑то я показал ему попавшуюся мне в руки нелепую книжонку «Джентльмен, или Настольная книга изящного мужчины». Он взял ее в руки и, перелистывая страницу за страницей, громко, раскатисто хохотал и что‑то проговаривал губами. Тут еще не было ничего удивительного – книжка эта способна была развеселить каждого. Смехотворны были и самый предмет изложения, и многозначительность, даже философичность языка, каким она была написана. Но Шварц, листая ее, проигрывал про себя весь процесс превращения невоспитанного и неуклюжего простака в заправского «изящного мужчину». Он чуть щурил глаза, почти закрывал их, потом задирал высоко голову, опускал ее и снова начинал хохотать.
Но больше всего – и совсем по – другому – любил Евгений Львович читать книги по орнитологии и энтомологии. Его привлекали не популярные и поверхностные пересказы, а серьезные научные исследования, из которых он умудрился вычитать множество поразительных новостей, касающихся повседневного быта птиц и насекомых, осенних перелетов журавлей или героических горестных зимовок синиц. Все, что он узнавал о необыкновенных путешествиях угрей или о «боевых порядках» перелетных птиц, вызывало у него такую искреннюю, такую ненаигранную гордость, что можно было подумать, будто он имеет к этому делу самое прямое отношение.
– А знаешь ли ты, – как‑то спросил он меня со всей строгостью, – что муравьи до сих пор не могут избавиться от матриархата?
Трудно сказать, что именно имел он в виду под этим «до сих пор», но получалось так, что в словах его звучал скрытый упрек. Дескать, мы, люди, давным – давно покончили с этим недопустимым явлением, а они все еще не могут справиться с ним.
Он надменно смотрит на своего униженного собеседника, не способного предложить муравьям сколько‑нибудь реальный выход из положения. Он весь светится от чувства собственного превосходства и так счастлив, что можно предположить, будто муравьиная косность приносит ему личное удовлетворение. Ничего не поделаешь, так уж он устроен – все интересное, что он узнает, все самые поразительные чудеса мира и все разгадки жизни оказываются в конце – концов подтверждением его личной правоты.
– Я же говорил, что в собачьем языке есть глаголы и есть существительные. – Он не довольствуется одной только констатацией этого ошеломляющего факта, а еще и показывает, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Но не такой Евгений Львович человек, чтобы при этом еще и улыбаться. Он смотрит на собеседника серьезно, величественно и торжествующе. Сомнений в его взгляде нет. Ему и в голову не приходит, что сделанное им открытие может кому‑нибудь показаться шуткой. При чем тут шутки?
С вопросом о муравьях он расстается тоже не сразу. Удерживаясь от чрезмерной экзальтации, но все же будучи не в состоянии скрыть от окружающих испытываемое им душевное волнение, он с размеренной доскональностью излагает факты и только факты. В ритме его речи всегда есть что‑то от неторопливого, тщательно обдумываемого перечисления. Кажется, что все произносимые им слова заранее расставлены по местам, занумерованы, и ему не остается ничего иного, как слепо подчиниться этой нумерации.
– Сидит, видишь ли, главная муравьиха и делает муравьям одолжение – великодушно принимает знаки их восхищения. От толщины она уже не может подняться с места, ей уже и дышать невозможно, а она все жрет и жрет. Можешь себе представить, каждый муравей после работы тащит с собой что‑нибудь съестное, и вовсе не для себя, а для нее. Сам умирает с голоду, но все‑таки пихает, несчастный лакей, пережеванную им самим еду прямо в пасть прожорливой муравьихе. И ко всему еще кланяется ей за это.
Последнюю знаменательную подробность, касающуюся кормления бесстыдной муравьихи, он припасает на конец своего рассказа. Именно в ней Евгений Львович усматривает поразительный психологический феномен, способный вызвать многочисленные и горькие житейские ассоциации. Впрочем, если говорить по правде, то никаких отчетливых ассоциаций тут и не требуется. Шварц не только рассказывает, но и одновременно показывает разбухшую паразитку, и не только показывает, но и срывает с нее позорную муравьиную черноту. Лишенная этого наряда, она оказывается до нелепого знакомой, хоть и безымянной, личностью, и совсем не муравьихой, а целым явлением, самим пороком, злом, сгустком низости и мерзости самовозвеличения и бесцеремонности.
Мне кажется, что где‑то внутри себя Щварц жил напряженной и трудной жизнью следопыта и фантазера, искателя и алхимика, вечно смешивающего разные зелья и никогда не знающего, что из этого получится. Главное, что ему требовалось, – это материальное, весомое, ощутимое подтверждение той вечно важной истины, что творческие и нравственные силы человека безмерны, что добро – это порядок, а зло непорядок. Как художник, распоряжающийся судьбами своих героев, он был уверен, что еще далеко не исчерпаны средства, при помощи которых созидатель мог бы одерживать новые победы над потребителем, человек, живущий для общества, одолевал бы презренного тунеядца, думающего только о себе.
Я не встречал в своей жизни людей, которые столь же ясно и предметно, как он, столь же определенно и зримо представляли бы себе одновременно и силу человека и его слабость, красоту и уродство, значительность и мизерность. Можно сказать без всякого преувеличения, что он не только представлял их себе, понимал их, но и видел их и слышал. Казалось, что если он прикоснется к этой самой значительности или мизерности, то услышит звон стекла или громыхание железа, стук дерева или плеск воды, скрип или шорох.
– Как, – сказал он мне однажды – разве ты не знаешь, что у скупости есть свой фасон?
Он тут же показал мне этот фасон руками. Получалось что‑то вроде гроба, нечто отталкивающе неприятное. Когда я увидел его жест, мне показалось, что нельзя представить себе более подходящее вместилище для всего, что урывают от жизни проклятая человеческая жадность, не знающее цели жесткое и тупое накопительство.
Если бы кто‑нибудь задался целью охарактеризовать Евгения Львовича Шварца как человека при помощи ходовых, широко распространенных и на все случаи годных определений, он потерпел бы решительную неудачу. Можно, конечно, сказать с полной уверенностью, что он был необыкновенно добрым художником, и не просто добрым, а активно добрым, именно добротой своей побуждаемый к творчеству. Но в нем не было ни капли той всеядной и жалостливой доброты, заметить которую проще всего, но которая зато и стоит не так уж много. Все его человеческие свойства были окрашены его индивидуальностью: он был по – своему добр и по – своему проницателен, скрытен какой‑то особенной скрытностью и откровенен тоже особенной, так сказать, в цвет характера, откровенностью. Если бы речь шла не о нравственных чертах, а об одежде, можно было бы сказать, что он никогда не носил готового платья.
Однажды мне пришлось наблюдать его в момент, когда он оказался вынужденным лгать и притворяться. Было это в 1946 году, в Ленинградском театре комедии, к работе которого были причастны и Евгений Львович и я. Мы собрались в кабинете художественного руководителя театра Н. П. Акимова, чтобы слушать новую пьесу М. М. Зощенко. Пьесу Зощенко написал по договору с театром, читка была назначена заблаговременно, и ничего из ряда вон выходящего случиться не должно было. На такого рода читках всем нам приходилось присутствовать по многу раз, и только обстоятельство очень неожиданное придало ей поистине драматическую окраску.
Замысел новой пьесы Зощенко не вызывал ни у кого из нас никаких сомнений. Речь в ней шла о краже какой‑то знаменитой картины, стоимость которой исчислялась миллионами. Вор сумел сделать все. Он отлично организовал похищение, проявил незаурядную изобретательность в утайке украденной картины. Однако единственное, чего он не понял, – это того, что непреодолимой преградой на пути к богатству встанут перед ним законы нашего общества, социалистические отношения людей.
В самый день читки в одной из газет появилась крайне резкая статья об опубликованном незадолго до этого рассказе Зощенко «Обезьянка». По статье легко было понять, что печаталась она не по инициативе самой газеты и имела в виду не один только разбираемый рассказ писателя. Каждый из нас отдавал себе отчет в том, что появление статьи способно поставить под сомнение будущую постановку новой пьесы Зощенко, но опережать события тоже не было ни причин, ни желания. Тем более не хотелось раньше времени наводить на столь мрачные размышления самого Зощенко.
Велико было наше удивление, когда мы увидели пришедшего без минуты опоздания, как всегда, подтянутого, с чуть нарочито приподнятыми плечами, не улыбающегося – он улыбался очень редко – и с ходу готового приступить к читке Михаила Михайловича. Как выяснилось гораздо позже, Зощенко еще не успел прочитать газету, о нависшей над ним беде ничего не подозревал.
Убедившись в этом, Шварц буквально побелел. Всегда необыкновенно корректный, он вдруг стал раздраженно посматривать на часы. Заметив, что Акимов вышел на минуту из комнаты, он довольно открыто выразил свое недовольство. И когда наконец читка началась, он уселся так, чтобы смотреть Зощенко прямо в лицо, и приготовился слушать. Акимов подвинул ему листок для записей, но он очень решительно отодвинул листок в сторону.
Читка продолжалась около двух часов, и на всем ее протяжении можно было видеть настоящие страдания Евгения Львовича. Он то смотрел в какую‑то одну точку на пустом столе, то опускал голову, то снова поднимал ее, и все это было так непохоже на его обычно независимую и естественную манеру держаться, создавать вокруг себя атмосферу дружеской, облегчающей жизнь полушутки. В тот раз он не только не шутил, но и вообще не сказал ни одного слова. Только спустя несколько дней он признался мне: «Какие бы я слова ни произнес в ту минуту, слова сочувствия или огорчения, они все равно были бы ложью».
Когда читка кончилась, наступило самое страшное. Еще ничего не подозревавший Зощенко как на грех был настроен очень воинственно и деловито. Не удовольствовавшись общими и ничего не означающими словами Акимова и какими‑то очень, должно быть, банальными фразами, сказанными мной, он обратился к Шварцу, и тот вдруг впервые за это утро улыбнулся и сказал непривычно тихим голосом: «Ну уж мы‑то сумеем поговорить по дороге, домой‑то нам вместе идти!» Зощенко был очень гордым и ранимым человеком. Не услышав сколько‑нибудь определенного слова о судьбе пьесы, он явно обиделся и, не дожидаясь Шварца, удалился. Что же касается Евгения Львовича, то он уселся в акимовское кресло, положил руки на подлокотники и сказал медленно и совершенно серьезно: «Я сегодня был в аду».
Именно потому, что Шварц не был ни в коей мере сентиментальным добряком, легко пользующимся общепринятой фразеологией сочувствия и сопереживания, он совершенно терялся в присутствии людей огорченных, попавших в беду, нуждающихся в поддержке. Когда вскоре после окончания войны в Ленинград приехала группа немецких писателей – антифашистов и в «Астории» состоялась дружеская встреча с ними писателей Ленинграда, тамадой на этой встрече стихийно стал Евгений Львович. Все шло великолепно, и Шварц, как говорится, превзошел себя в искусстве веселого председательствования. Но как только наши гости заговорили о том, как тяжело им сознавать, что именно из их страны пришло сюда, на советскую землю, и в частности в Ленинград, столько непоправимого человеческого горя, Шварц умолк, опустил голову и на некоторое время замолчал. На протяжении этих нескольких минут у него был такой вид, будто он, именно он, в чем‑то провинился перед гостями. Произносить вслух, да еще на виду у многих, слова сочувствия и утешения он не умел и не хотел.
Впрочем, он был необыкновенно чувствителен не только на людях, но и наедине с собой. В мемуарном рассказе «Печатный двор», повествующем о днях литературной молодости Шварца, есть такие строки: «… Едва я начинал перебирать то, что пережито с утра, как все впечатления, словно испугавшись, убегают, расплываются, перемешиваются. Попытки их передать, робкие и осторожные, кажутся в картонажном мире непристойными, грубыми. – Потом, потом! – приказываю я себе». Оказывается, далеко не всегда художнику легко и просто возвращаться к своему прошлому, ибо возвращаться стоит только ради правды. Строить декорации на развалинах прошлого он считал делом по меньшей мере бесцельным.
Воспоминания могут самым неожиданным образом вступить в противоречие со взглядом в завтрашний день, в будущее. Бывает и так, что непрошенное умиление перед тем, что было, мешает художнику бесстрашно и убежденно идти навстречу тому, что будет. Шварц всегда вспоминал о давно прошедших днях без тени подобного умиления. Он судит об этих днях со всей строгостью, а если надо, то и со всей жестокостью, которой во многих случаях требует бескомпромиссная и безоговорочная правда жизни.
При этом о людях он высказывается, не унижая их своей снисходительностью; о самом себе говорит с холодной и безоговорочной прямотой, избегая интригующих иносказаний и многозначительных недомолвок. Художник не устраивает, подобно иным слишком уже радушным мемуаристам, особого рода экскурсию в свой внутренний мир и не выставляет напоказ достопримечательности этого мира. Такого рода гостеприимство в большинстве случаев выдает известную нескромность авторов воспоминаний, и, в конечном счете, оно не столько гостеприимство, сколько хвастовство.
Он был убежден, что нельзя погружаться в процесс сочинительства, как в нирвану, или превращать этот процесс в священнодействие, унижающее всех непосвященных. Он и с пером в руках оставался человеком, продолжающим жить и мыслить естественно и непринужденно, ни на шаг не отступая от самого себя, от сложившегося в трудных поисках и раздумьях восприятия жизни.
Отвращение к позе, к наигрышу, к притворству носило у Шварца почти маниакальный характер. Едва заподозрив или обнаружив искусственность в речах своего героя, он безжалостно зачеркивал целые страницы текста, как бы боясь, что, удалив явную фальшь, он оставит метастазы – тайно зараженные ею соседние реплики. Рассказывая о годах своего детства, Шварц вспоминает о заброшенном деревянном доме, в одном из окон которого была выбита форточка. Однажды, гуляя с матерью, он увидел, как фланировавший с барышнями студент пытался влезть в форточку и делал вид перед своими спутницами, что не может вылезти. «Мы с мамой, – вспоминал Шварц, – осудили студента. Он совершил страшный грех. Он ломался».
Из отвращения к ломанью в жизни родилась настоящая ненависть к ломанью в искусстве, к нечестным и недостойным ухищрениях во имя дешевого мгновенного успеха, ко всем видам художественного обмана. Удивительно, но, вероятно, закономерно, что именно сказочник, выдумщик и фантазер испытывал такую непримиримую вражду к мистификациям и притворству. Художник, безбоязненно уводивший своих зрителей в мир самого смелого и живого воображения, понимал, что настоящий, глубокий художественный вымысел не имеет и не может иметь ничего общего с антихудожественным беспардонным враньем.
Поведение многих из его сказочных необыкновенных героев подчиняется в иных случаях какой‑то причудливой, трудно объяснимой логике. Можно было бы подумать, что поведение это сконструировано писателем, изготовлено лабораторным путем. В этом не было бы ничего из ряда вон выходящего. Я вспоминаю в этой связи одно странное открытие в области музыкального творчества: кому‑то пришло в голову, что можно сочинить музыку, перевернув наизнанку процесс музыкальной записи. Если в результате звуковых колебаний на воске возникает борозда, которая их как бы повторяет и дает возможность воспроизвести, то можно, вероятно, идти обратной дорогой, сочинять не музыку, а сначала вычерчивать эту самую борозду.