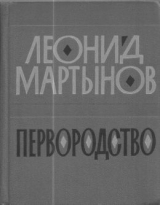
Текст книги "Первородство"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
С деревьями-уродами
Над скалами-калеками.
Все менее и менее
Надеясь на спасение,
Ты стонешь: – Глохну, слепну
Молчи, великолепная!
Молчи!
Все это мелочи,
Проделки разной сволочи.
От этой бледной немочи
Отмыться хватит щелочи!
Они тебя обидели,
Взъерошили, взлохматили.
Стяжатели, грабители,
Глупцы-пенкосниматели
Но на дела бесславные
Свою затратив силищу.
Все ж не проникли в главное
Твое дарохранилище.
–а вековыми свалками,
За мусорными кучами,
За листиками жалкими,
Над высохшими сучьями
Бьет жизнь все неустаннее,
Шальная, незастойная.
Сливаясь в сочетания
Меня с тобой достойные.
Верну тебе величие!
И углубляюсь в чащи я.
Кишащие, кипящие
Непойманной добычею.
И лес все первобытнее,
А недра непролазнее —
Железнее, графитнее,
Урановей, алмазнее...
Здравствуй.
Смерчевидный человек!
Преспокойно над собою властвуй,
Тихий, безобидный человек.
Потому что не ударил час твой.
Ибо
Ты не злобный человек,
И привык ты сдерживаться очень,
О вихреподобный человек,
Лишь в себе самом сосредоточен.
Ты
Себе командуешь: – Молчок! —
Будто ничего ты и не слышал.
Что за толк вертеться, как волчок,
Чтоб сказали: из себя ты вышел?
Ты
Ведь все-таки не жироскоп,
Чтоб хранить чужое равновесье.
Ты не глуп. Себе ты шепчешь: «Стоп!
Погоди. И будет все честь честью».
Так вот
И, душою не кривя,
Ты надеешься. Но если надо.
На врага обрушишься ревя,
Как тайфун, как целое торнадо.
Ибо
Из бушующих частиц
Все мы слиты, только это скрыто,
И во всем мы держимся границ —
Вот и лица будто из гранита.
Потому что
И гранит таков:
Будь он цельным или будь разбитым
Зло бездна пламенных мирков,
Бешено летящих по орбитам!
54
♦
Я вспоминаю
Средние века.
Когда людей охватывала паника
При виде двухголового телка.
Хвостатых звезд, неведомого странника.
Но миновали
Средние века ~
С их византийски-призрачными лицами,
И спрашивают внуки старика:
Чему вы, старцы, были очевидцами?
Чему?
Как грозовые облака,
Умчались, скрылись чудище за чудищем.
Что толковать про средние века?
Не лучше ль позаботиться о будущем!
♦
О крохошые бюстики великих,
Ни на вершок не сдвинутые с места!
Как благонравен коллективный лик их,
Из одного как будто слеплен теста.
...Как все они старательно учились.
Своим родителям повиновались,
Прилично, не крикливо одевались —
Вот потому из них и получились
Такие, чтобы ими любовались.
И в умиленьи от таких рассказов
Под бюстиком сияет пьедестальчик.
О. как я ненавижу богомазов!
...И Маяковский был примерный мальчик!
Есть горы,
Что остались до сих пор
Как крепости невэятой высоты.
А в очертаньях очень многих гор
Людские намечаются черты —
Их покорителей и их гостей;
Умеют солнце, ветер и дожди
Запечатлеть следы людских страстей
Там, где, казалось, даже и не жди.
А там, где люди двести-триста лет
Друг дружку загоняли только в гроб,
Похожи камни то на пистолет,
То на ядро, то попросту на дробь.
Но близ электростанции, где дрожь
Ее машин волнует грудь земли.
На шарикоподшипники похож
Развал камней, на втулки, костыли,
Как будто бы действительно дано
Следить за жизнью и обломкам скал:
Они. конечно, не разумны, но
И не глупее всяческих зеркал.
' МОРЕ
Я преклоняюсь перед мастерами
Былых эпох.
Но вот он, неподвижен,
Висит на стенке, мухами усижен,
«Девятый вал» в приморском ресторане.
О копиистов жалкие старанья!
А за стеной
Действительное море,
Каких еще на свете не бывало.
Что там кипит в насыщенном растворе
Отчаянно взметнувшегося вала?
О море,
На кого ты восставало.
Какого ты не слушалось штурвала,
Где бастовало с грузчиками вместе?
«Девятый вал», пылясь, висит на месте.
А море
Под прожекторным покровом
Рычит ночами реактивным ревом,
38
Когда улов двадцатого столетья
Бросается в капроновые сети.
И разве справиться с таким уловом
Мазилам, копиистам безголовым?
И воет море:
– Ты, владея словом,
Знай, что не я в приморском ресторане,
Здесь, где жиры свиные и бараньи,
Застыло, точно соус, на котлете.
Не я застыло, на стене повиснув
И перекиснув в золоченой раме,
А радиоактивными ветрами
Пронзительно дышу я на туристов,
И моряков я мучу и тираню
И берега материков тараню...
Так вынь меня из золоченой рамы.
Каким я есть, таким меня и выставь
В кипеньи этом и вот в этой пене,
И всех течений ты нарушь программы —
Натуралистов, и сюрреалистов,
И копиистов всяких направлении;
Идя на приступ каменистых мнений,
Смой эпигонов жалкие маранья,
Достойные глубокого презренья,
И, не смущен художнической бранью,
Мне посвяти
Свое стихотворенье!
99
я
С классикой
Выл печно не в ладу —
На статую взгляну и отойду.
Зсвесы не будили интереса,
Минервы действовали мне на нервы,
Венеры мне казались так же серы,
Как буры все Амуры, их младенцы.
И вышло, что не зря их сторонюсь,
А так диктует мне хороший вкус:
Чуждаюсь копий и реминисценций.
Об этом
Лишь недавно я узнал,
Как, впрочем, и другие догадались,
Что чаще на глаза нам попадались
Лишь копии. А где ж оригинал?
Его давным-давно уже не стало —
Оригиналы были из металла.
Низвергнуты могучие тела,
Их расчленили, их перепилили,
Расплавили, на утварь перелили
И на церковные колокола.
И не в музеях я ищу твой след,
О олимпиец с тугоплавким телом!
1 ы слишком ценный, чтоб остаться целым,
Но слишком цельный, чтоб сойти на нет,
Живешь не только в колокольном зуде,
Порою превращаемом в набат,
Не только лишь в поту олимпиад
И в олимпийских позах всяких судей.
И не в одном лишь мире киностудий,
Где мощные юпитеры горят.
Но чуют люди, понимают люди,
Что суть не в том, о чем мелькнет экран,
А в том, о чем летят из разных стран
Через пустыни, через океан
Известия хрипучей чередою —
Что, весь багрян от незаживших ран,
Колдует над тяжелою водою,
Ворочает урановой рудою
Седой родитель Времени Уран.
И бездна не исчерпана до дна;
Ведь, как Сатурн, и в наши времена
Своих детей эпоха пожирает,
Но молодая жизнь не замирает,
Хоть и она, о, даже и она,
Лишь п новое одно и влюблена,
Античных жестов все ж не презирает.
Вот
Это все.
Что я имел в виду,
И, кажется, я в общем не ошибся,
А по музеям снова не пойду:
От юности моей я не в ладу
С подобьями из мрамора и гипса.
ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСНОГО
Когда
Мерещится
Мне облик грека.
То вспоминается не век Псрикла,
Но Греция XII века,
Которая увяла и поникла.
Когда погрязли в скверне византийцы,
И рушилась Империя, и часто
Какие-нибудь воры и убийцы,
Смеясь, кичились званием себаста.
Когда в Афинах византийский мистик
Все попирал, что дорого и свято...
Но лучшая из всех характеристик
Эпохи той – стихи Акомината,
Стихи Акомината Михаила,
Плач об Афинах, так назвать их, что ли.
Я перевел их как умел. Их сила —
Отчаянье, заряд душевной боли.
Вот замерший в Акрополе пустынном
Вопль под названием:
«ЛЮБОВЬ К АФИНАМ»
Любовь к Афинам это начертала...
Их слава, что когда-то так блистала.
Теперь играет только с облаками, I
Своих порывов охлаждая пламя
В тени руин. Не станет перед взором
Величие былое, о котором
Вещало поэтическое племя.
Вожак эонов, мчащееся время
Сей город погребло под грудой сору,
Среди камней, катящихся под гору.
И на ужаснейшее из страданий —
На муки безнадежных пожеланий —
Я обречен. Глаза бы не глядели
На то, что есть теперь на самом деле.
Иным еще попытки удаются
Иллюзией какой-то обмануться,
Чтоб встретиться хоть с дружественным ликом,
А я в своем несчастии великом
Сравнюсь лишь разве только с Иксионом:
Как он когда-то в Геру был влюбленным,
Так я в Афины, но, влекомый к Гере,
Хоть тень блестящую по крайней мере
Он брал в свои объятия. Увы мне!
Что воспевать могу я в этом гимне?
В Афинах обитаю, но в Афинах
Афин не вижу. Даже на пустынных
Развалинах, и их скрывая прелесть,
Лег жуткий прах. Куда же храмы делись?
Град бедственный! Как сгибло все? Где скрылось?
Как все в одно преданье превратилось?
Где кафедры ораторов? Где люди
Высокочтимые? Где суд и судьи,
Законы и народные собранья,
Подача голосов и совещанья,
И праздники, и пифий вдохновенье?
Где победители в морском сраженье?
Где сухопутных поиск былая сила?
Где голос муз? Погибель поглотила
Все доблести, присущие Афинам.
Они не оживают ни в едином
Биеньи сердца. Нет и ни следа в них.
В Афинах, от достоинств стародавних!»
...// новый смерч прошел нал этим тленом.
О матерь божья, стало еще плошс
Твоим Афинам, сделавшимся леном
Какого-то Оттона ле ля Роит.
Он герцогом афинским и фиванским
Назвал себя, бургундец нечестивый.
Когда достались крестоносцам франкским
И Неопатры, и Коринф, и Фивы!
ДАВИД
Давид
Схватил
От эшафота плаху
И стал на ней гравировать эпоху,
Колонны Рима тыча вкривь и вкось —
Куда пришлось...
И это удалось.
Но после краха.
Даже не от страха,
Не жертву в окровавленном белье —
Цикуты выпить не хватило духа! —
Он вырисовывает – Рекамье.
Тая
Иногда
Воссоздают эпоху
И ведают, конечно, что творят,
И нет возврата вспять к царю Гороху..
Но чем тяжеле пущенный снаряд.
Тем и отдача пуще во сто крат.
Земля
Дрожит.
И с потрясенной ветки
Слетает плод.
От дыма ядовит.
И женщина хохочет на кушетке:
– Давид!
Ах, до чего ж он даровит!
Л Мартынов
65
ДОМ МАДАМ САТАНЮК
Дом мадам Сатанюк позади Покрова.
Все изрыто вокруг, а на крыше трава.
Здесь Потемкин бывал,
Бонапарт ночевал,
Кто-то Гоголя ночью сюда зазывал.
Но не надо показывать, тыкать рукой.
Люди выбегут, крикнут: – О, дайте покой,
Ведь и так уже уйма музеев вокруг! —
Наконец и сама госпожа Сатанюк
Прибежит, завизжит и пойдет без конца
То того, то другого пушить мертвеца.
СТИКС
Пещера
Закоптела от свечей
И факелов. Я выпачкал ладони.
Рассеянно, не слушая речей
Ни об Аиде и ни о Хароне,
Я наблюдал, как Стикс лился во мрак;
Но постепенно с обстановкой свыкся,
И может быть, не следовало так,
А все-таки
Я руки вымыл в Стиксе.
Я в Стиксе вымыл руки. Утекла
По Стиксу копоть факельно-свечная.
Отмыл я в Стиксе руки добела.
И часто я об этом вспоминаю.
И где бы ни был я, куда б ни плыл,
Какие бы на свете Рубиконы
В конце концов я ни переходил,
Каким бы прорицаниям Сибилл
Я ни внимал, глядели благосклонно
Все бежества:
– Он руки в Стиксе мыл!
♦
Я куплю себе усы и бороду,
И переоденусь, и тайком
С черным зонтиком пройду по городу,
Притворяясь старым стариком.
На скамейку сяду, носом клюнувши,
В сквере, где резвятся малыши.
А затем преображусь я в юношу
И расхохочусь от всей души,
Сам не знаю, по какому поводу,
Но всего скорее потому,
Что, напялив и усы и бороду,
Был уверен я, что их сниму)
68
ТРИТОНЫ
Тритоны
Спали пять тысячелетий
В оцепененьи вечной мерзлоты.
Но человек разворотил и эти
Как будто неприступные пласты.
Очнулись твари,
Греясь, пили воду,
Поели комариного мясца.
Но заново не прожили и года,
А протянули только месяца.
Быть может,
Не понравился им воздух
И солнечный, какой-то новый, свет,
А может быть, весь свод небесный в звездах
Не тех уж, что назад пять тысяч лет.
А может быть,
Ухаживать как надо
За ними не умели сторожа.
Хотя с воскресших не спускали взгляда,
За их благополучие дрожа.
И околели
Бедные созданья,
69
Как будто бы спешащие на пять
Земных тысячелетий опозданье
Своей кончины все-таки нагнать.
И вновь
Сомкнулись маленькие пасти,
Погасли глазки, став мертвее льда,
Как первобытные в нас гаснут страсти,
Что воскресают все же иногда.
Но мы
Не зря разворотили тонны
В конце концов не вечной мерзлоты,
Чтоб разевали древние тритоны
Свои безмолвно алчущие рты.
Все это
Происходит не случайно,
А нам они стремятся объяснить
Ушедших дней непознанную тайну,
Вия времен оборванную нить.
Пусть оживут
И мастодонт и ящер,
Но только, чур, пускай не чересчур
В нас оживает наш пещерный пращур
В седой одежде из звериных шкур.
70
овидиополь
Овидий,
Я видел
Твой маленький Овидиополь.
Где все было тихо, лишь ветер калитками хлопал,
С Евксинского Понта летя над лиманом днестровским.
Я знаю,
Овидий,
У дымных костров с кем
Сидел ты и, тщетно стараясь усвоить нехитрую речь их.
Печально беседовал, – с гетами в шубах овечьих.
О чем?
О Паррасийской Деве.
Дыханье свое ледяное
Она и сливала с остатками зноя под этой луною
Над этой страною, которую ты почитал за угрюмый край
света,
А мы почитаем за юг, за преддверие вечного лета.
Считая, что зимы проходят здесь шустро, но быстро.
И, горько смеясь,
Я твои повторяю, Овидий, напевы:
«Я здесь, одинокий, заброшен за брег семиустого Истра,
Попал под влиянье Паррасийской Девы...»
71
А может быть.
Надо с другим удареньем сказать: «паррасийской»?
И может быть, было в ней что-то от облика будущей девы
российской,
Одной вот из этих, что бродят сейчас над лиманом,
И музыку мира приемником ловят карманным,
И ловят такси на Одессу, торча у парома,
И эта Одесса шумлива почти что как город мечтаний твоих,
именуемый Рома.
Но ты, у костров своих с древними гетами сидя.
Об этом и думать не думаешь,
Бедный мой старый
Овидий!
♦
Знаешь,
Почему мне удаются
Переводы с польского, Словацкий,
Лирика его и драмы?
...Это было еще до революции.
Вспоминаю город азиатский:
Этот северо-восточный ветер,
Проникавший сквозь двойные рамы
В бани, в храмы, в церкви и мечети,
И в костел, в малюсенький костелик...
Колокол я помню дребезжащий,
Помню лица тихих старых полек...
С польскими ребятами дружащий,
Я не знал ни о каких восстаньях
И ни о каких не ведал судьях, —
Знал я о Викториях, и Франях,
И отцах их, мирных добрых людях,
И не ощущал, что это – внуки
Каторжных и ссыльнопоселенцев.
А Словацкий мне попался в руки
Много позже. Он не для младенцев.
73
СИЛА ТЯЖЕСТИ
Не грезится,
Я этого не выдумал,
А то и дело в руки лезут мне
Предметы, вещи тяжести невиданной,
Не соответствующей их величине.
Ведь иногда
Ложится у чернильницы
И лист бумажный, как свинцовый пласт,
И не пойму, во что все это выльется,
И помощи никто тут не подаст.
Да и перо
Такой огромной тяжести
Оказывается иногда в руках,
Что еле движется оно, и кажется,
Что ничего не скажется в строках.
Все эти вещи
Тяжести немыслимой,
Порой как будто даже неземной.
Обуглены, заржавлены, окислены.
Как и сейчас лежат передо мной.
Но это все
Не с неба все же валится,
74
А зародилось на земле сырой.
Тут можно удивляться и печалиться,
Но я привык. И кажется порой:
Он попадется
В руки мои длинные —
Рычаг, такой весомости предмет,
Что, понатужась, землю с места сдвину
Чего не мог и мудрый Архимед.
75
НАЧАЛО НАЧАЛ
Я иногда
Сочинять стихи
Как бы разучивался до конца,
Не оставалось во мне ни крохи
Ни от желанья пленять сердца,
Ни от уменья вязать слова,
Было так иногда,
Ох, и болела моя голова,
Мучился, прямо беда!
Но все-таки
Я и тогда не молчал,
А из полубессвязных речей
Все ж намечалось начало начал
Лучшего порядка вещей.
Вот они, горы черновиков,
Сколько я написал —
Не сосчитаю во веки веков
Даже, пожалуй, и сам.
Но
Когда чему-то приходит срок,
Я вспоминаю вдруг:
Вот и об этом несколько строк
Дело моих рук.
76
Это я чувствовал, замечал,
Пусть иногда не вполне,
Но, убедитесь, начало начал
Этих вещей и во мне!

УЧИТЕЛИ
О учители,
Бородатые законоучители
И либерально настроенные молодые учителя,
Юных душ ваятели и ожесточители!
Это было еще в преддверии Февраля.
И примечательно,
Что среди холодных просторов,
В городе серых заборов и русских печей
Мой учитель латыни якут Этагоров
Горячо толковал о Природе Вещей.
Но, конечно, Лукреций казался мне вздором из вздоров —
Я прислушивался к выхлопам автомобильных моторов.
Грезил четкими формами велосипедных ключей.
А учитель словесности, я позабыл его имя, но прозвище
помню: Кубышка,
Уверял, что от русской поэзии я так же далек,
Как и те футуристы «Гилей», чью книжку
На уроке из парты моей он извлек.
Я не хотел
Учить, что по небу полуночи ангел летел,
Потому что полночное небо прожекторы щупали
И летел уже кто-то на «ньюпоре»
в Л. Мартынов 81
За пределом заката, где пламень объял города.
Л началам Эвклида учил меня чех Шиффальда.
Он решил, что не выйду, увы, в математики я никогда,
Но геометрически правильно изображенная мной
на классной доске пятиконечная звезда
Все-таки не была воспринята им как издевательство
или обида.
Собственно говоря,
Это было уже в дни Октября,
Когда учителя мои были готовы исчезнуть из вида.
♦
Между домами старыми,
Между заборами бурыми.
Меж скрипучими тротуарами
Бронемашина движется.
Душки трепещут за шторами —
Пушки стоят на платформе.
Смотрит упорными взорами
Славный шофер – Революция.
Руки у ней в бензине.
Пальцы у ней в керосине,
А глаза у ней синие-синие.
Синие, как у России.
/922
Позднею ночью город пустынный
При бертолетовых вспышках зимы.
Нежная девушка пахнет овчиной,
И рукавички на ней и пимы.
Нежная девушка новой веры —
Грубый румянец на впадинах щек,
А по карманам у ней револьверы,
А на папахе алый значок.
Может быть, взять и гранату на случай?
Памятны будут на тысячи лет
Мех полушубка горячий, колючий
И циклопический девичий след.
1922
84
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НЕБЕСА
Перед
Революцией,
Овладевшей столицею,
Запирали дверь на засов;
Революцию хотели скинуть с весов:
На нее выпускали псов.
Революция гибнет! Злая зараза
Тонет в осенней грязи.
Революция гибнет – откликнулись сразу
Все, кто стоял вблизи.
Революция гибнет! Из объятий матроса
Она пошла по рукам!
Революция гибнет, попав под колеса
К собственным броневикам.
«Революция гибнет!» – крик пронесся
По морям и материкам.
Но Революция
Розоволицая.
Слушая их голоса,
Мчась через фронты-и через позиции.
Через моря и леса
85
И оказавшись уже за границею,
Все побеждала: войска, и полицию,
И полицейского пса.
Революция
Охватывала за нацией нацию.
Творя свои чудеса,
Хоть не походили на праздничную иллюминацию
Революционные небеса.
86
♦
Наш путь в тайгу. И этот дальний путь
Не верстами – столетьями я мерю.
Вооруженный, чувствую я жуть
И чувствую огромную потерю.
Давно исчезли за горбом земли
Завоевания столетий многих.
Лишь крестики часовенок убогих
Торчат кой-где, чтоб мы их не нашли.
Селенье. Крик младенцев и овец,
От смрада в избах прокисает пища.
Будь проклят тот сентиментальный лжец.
Что воспевал крестьянское жилище.
Я думаю о нем как о враге,
Я в клочья разодрал бы эту книгу.
Я человек, и никакой тайге
Вовек не сделать из меня шишигу.
87
НЕЖНОСТЬ
Вы поблекли. Я странник, коричневый весь.
Нам и встретиться будет теперь неприятно.
Только нежность, когда-то забытая здесь,
Заставляет меня возвратиться обратно.
Я войду не здороваясь, громко скажу:
– Сторож спит, дверь открыта, какая небрежность!
Не бледнейте, не бойтесь! Ничем не грожу,
Но прошу вас: отдайте мне прежнюю нежность!
Унесу на чердак и поставлю во мрак
Там, где мышь поселилась в дырявом штиблете.
Я старинную нежность снесу на чердак,
Чтоб ее не нашли безнадзорные дети.
88
ГРУСТЬ
Ночь. Чужой вокзал.
И настоящая грусть.
Только теперь я узнал,
Как за тебя боюсь.
Грусть – это когда
Пресной станет вода,
Яблоки горчат,
Табачный дым как чад
И, как к затылку нож.
Холод клинка стальной,
Мысль, что ты умрешь
Или будешь больной.
89
ВОЗДУШНЫЕ ФРЕГАТЫ
Померк багряный свет заката.
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над самым городом прошли.
Сначала шли они как будто
Причудливые облака.
Но вот поворотили круто —
Вела их властная рука.
Их паруса поникли в штиле,
Не трепетали вымпела.
Друзья, откуда вы приплыли.
Какая буря принесла?
И через рупор отвечали
Мне капитаны с высоты:
– Большие волны их качали
Над этим миром. Веришь ты —
Внизу мы видим улиц сети
И мы беседуем с тобой.
Но в призрачном зеленом свете
Ваш город будто под водой.
90
Пусть наши речи долетают
В твое открытое окно,
Но карты! Карты утверждают,
Что здесь лежит морское дно.
Смотри: матрос, лотлинь распутав,
Бросает лот во мрак страны.
Ну да, под нами триста футов
Горько-соленой глубины.
91
ГОЛЫЙ СТРАННИК
О, знаю я, что постепенно
Твердь снова станет голубой.
Студеная осядет пена
И дым подымет хвост трубой.
...Все магистрали и поселки
Тонули в бездне снеговой,
Когда возникли эти толки
О голом призраке. Впервой
Он появился на руинах
Старинных зданий, а потом
Он для смятенья душ невинных
В пространстве будто бы пустом
Ускорил шаг среди метели,
И все, кому являлся он.
Божились, что бредет без цели.
Простоволос и обнажен.
Но ведь и мы его встречали,
И, согласись, что я и ты
Как будто и не замечали
Его ужасной наготы.
Кто он? Наследие ль военных
Жестоких лет, когда враги
Зимою раздевали пленных
И говорили им: «Беги!»
А может быть, безумец гордый,
С природою вступивший в бой
И подчинивший воле твердой
Морозы, равно как и зной?
К чему гадать!
На горном кряже
Все крепче ледник голубой.
Рождает всякие миражи
Зимы отчаянный прибой,
Но и в кипенье этом белом,
Сияньем снежным опален,
Я чувствую душой и телом:
Жив этот странник – Аполлон!
САХАР БЫЛ СЛАДОК...
С гор, где шиповник турецкий расцвел,
Ветер был сладок и жарок,
Море лизало сверкающий мол, —
Сахар сгружали мы с барок.
Ты понимаешь?
Грузить рафинад!
Легкое ль это занятье?
Сладко! Но сотню красавиц подряд
Ты ведь не примешь в объятья!
Позже ходили мы к устью реки
К рыбницам Нового Порта.
Грузчиков не было. С солью мешки
Сами сгружали мы с борта.
Стал, как китайский кули, весь бел.
Руки изъело и спину.
Долго потом я на соль не глядел,
Видеть не мог солонину.
Сахар был сладок,
И соль солона.
Мы на закате осеннем
Вспомним про то за бутылью вина.
Прошлое снова оценим.
94
Время уходит!
Тоскуй, человек,
Воспоминаньями полон, —
Позднею осенью падает снег,
Тает, не сладок, не солон.
Ну-ка, приятель, давай наливай!
Тает, не сладок, не солон!
♦
О люди.
Ваши темные дела
Я вижу, но волнуюсь не за души,
А лишь за неповинные тела!
Ведь это все же не свиные туши!
Я знаю:
Тело не за свой позор
Заплатит кровью чистой и горячей:
Плутует разум – хитрый резонер.
Вступая в сделки с честью и удачей.
Но коли так, за что же, о, за что ж
Ответьте, объясните мне причину! —
Вам не в сознанье всаживают нож,
А между ребер, в сердце или в спину
Я смерти не особенно боюсь,
Она не раз в глаза мои глядела.
Но все же я испытываю грусть
Не за себя, а именно за тело.
Писатель слов и сочинитель фраз,
Ты за рассказом составлял рассказ
Про все, на чем остановился глаз.
Ты описал поверхность всей земли.
Упомянул, что в море корабли
Боролись с бурей, а цветы цвели.
Я видел экземпляры книги той,
Она бумагой сделалась простой.
Ты в этой книге, в сущности – пустой.
Не захотел, чтоб бабочки пыльца
Не прилипала к пальцам подлеца.
Чтоб ровно бились чистые сердца.
Ты этой книгой никого не спас.
Писатель слов и сочинитель фраз.
Не дописал ты повесть до конца!
Л. Мартынов
97
ТОРГОВЦЫ ТЕНЬЮ
Мы знаем цену каждому мгновенью.
Платить за все придет однажды срок.
Я как-то раз пробрался на Восток,
Там, между прочим, есть торговцы тенью.
Они располагаются под сенью
Больших деревьев около дорог,
А чаще – в нишах. И за вход в мирок,








