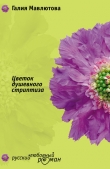Текст книги "Барсуки"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XVI. Степушка Катушин кончил земные сроки.
Утром узнали, шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.
Сеня не пошел к Катушину в это утро, как и в последующее. Он боялся встретить там, вверху, чулочную бабу, которая непременно протянет ему Катушинское наследство и скажет: «Два раза тебя звал. Первый-то раз громко так, а потом уж с томленьем»... Боязливое раскаяние в том, что не исполнил последнего долга перед стариком, сделало его медлительным, полубольным, несоображающим. Он не видался в этот день с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему казалось, что и еда, и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус, – его тошнило от еды.
Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому, и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова.
– ...а я к тебе шла! – Настин голос был решителен и тверд. – Хоть и навсегда шла... Все равно, не могу больше!
– Ходить, что ль, не можешь? – усмехаясь, спросил он.
– Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда...
– Возьми да выброси, – равнодушно посоветовал Семен.
– Помолвка завтра... – еле слышно прибавила она.
Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.
– Ты не надо так! – резким низким шопотом заговорила она, догнав его у начала Катушинской лестницы. Губы ее тряслись. – Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать!..
Опять снежинки крутились в потемках двора. Где-то в глубине его лениво ругались извозчики из-за места.
– Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому...
– На мне женись, – быстро решила Настя.
– Не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя, – тихо сказал Семен. – Ну, пусти... Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.
– Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?.. – она оборвалась.
По лестнице, как ни противился Семен, они поднимались рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее.
– Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят...
– Пускай! – так же грубо, как и Семен, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.
Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита Зарядским старичьем: пришли в последний раз посетить уходящего в век... Служба только что началась. Высокий кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью, не трудно мертвому блюсти человеческое достоинство, – шамкал псалтирь неизвестный лысый старик. Когда переступал он с ноги на ногу, скрипели его сапоги – скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для себя да для Катушина, изредка взглядывал на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.
На носу у псалтирного старика сидели Катушинские очки. Сеня догадался: «Пришел, а очки забыл... Ему и сказали: вот Степановы, – надень». Сеня увидел еще: серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало Катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три больших свечи, наряженных в банты из Катушинской сарпинки.
Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтоб все ее увидели. Это и было замечено, – дьячок, гнуся очередную молитву, повернул свою гусиную шею назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать про Секретовскую дочку доставило ему немалое удовлетворение.
– Дозвольте... я вам огонька предложу, – шопотом сказал он, протягивая Насте свою свечу, горящую. – Как папашино-то здоровье?
– Вы мне на платье капаете... – сухо заметила Настя.
– Ну и слава богу, слава... – не расслышал или только сделал вид такой дьячок и отбежал подсыпать ладану в кадило.
От свечей посветлело. Лица людей, освещенные снизу, бородатые – мужские и морщинистые, – бабьи, имели отпечаток какой-то тупой, несоображающей мудрости. Они не печалились горю и не дивились смерти, они знали: жизнь – не луг со цветами, жить – не цветы с луга рвать. Среди них домовито суетились двое: чулочная баба и Ермолай Дудин, черный, подтянутый, заметно подъедаемый чахоткой. Он или распоряжался острым приказывающим взглядом, или, любовно, как женщина, бросался поправить подушку или картонные бахилки умершему другу, или оправлял фитиль большой свечи, помогая ей гореть торжественней.
Сосредоточенно, точно говорил с самим Катушиным, стоял Семен, – с глазами, опущенными в пол. Что-то белело у него под ногами. Он пошевелил белое ногой и узнал: то была аптечная коробка из-под ладана. Ему еще больше стало тогда не по себе, и еще глубже проложилась складка у его переносья. «Съел тебя город, Степан Леонтьич, – подумал Семен, – и ладан твой съел. Будь и того и другого вдвое больше, и тогда не осталось бы...» Семен кинул взгляд на Катушина. Тот сделался теперь как будто еще меньше, потому что, казалось, был напуган всем этим шумом, происходившим ради него. Сеня не отводил глаз, и вдруг заметил в поле своего зрения тонкий профиль Насти, нежно мерцавший светом свечи. Он перевел глаза на нее.
Она почувствовала, в похудевшем лице ее скользнуло движение улыбки.
– ...обрати внимание, – шепнула она, касаясь дыханьем его лица. Свечи в руках... Точно под венцом стоим!..
– Молодой человек! – сказал в самое ухо Сене дьячок и просунул вертлявую голову среди них.
– Ну?.. – слишком громко, потому что не рассчитал голоса, отозвался Сеня.
– Свечи собирают... Кончилось, молодой человек! – ядовито сказал дьячок и подмигнул Сене пакостно и стыдно.
Перешептываясь, выходили по-двое Катушинские гости. В раскрытую дверь входил кислый холодный воздух, но все еще стойко держался запах тлеющего фитиля. Кривошеий поп снимал ризу и нарочито подробно расспрашивал чернобородого Галунова о Катушинском конце. Галунов усердно топырил грудь, а тот кивал головой и складывал обносившуюся ризу конвертом, заворачивая ей углы. Псалтирный старик сморкался в красный платок. Свечи гасли. Темнело.
Сеня уходил почти последним. И опять обернулся он с порога и вспомнил: с того самого места, у окна, где стоял с Настей, он впервые и увидел ее. Но теперь за окном было черно и пусто. Следуя уклону мыслей, он взглянул на свои сапоги: сапоги теперь были красивые, хромовые, приятно глядеть. Все переменяется...
Коечка в углу уже была разобрана, – угол был пуст и ждал нового постояльца. Только небольшая кучка пыльного сора указывала, что на этом месте обитал безвестный человек, – он и насорил.
XVII. Разные события следующего дня.
...как во сне.
Утром Быхалов сам, идя из города, прочел приказ о дополнительном призыве Сенина года. Сеня встретил сообщение о солдатчине почти равнодушно, – солдатчина сулила даже ему какой-то выход из положения. Не дослушав, побежал на Катушинские похороны.
Весь обряд похорон показался Сене подчеркнуто-обидным. Бумажным пояском закрыли Катушинский лоб, едва расправившийся от морщин. Поливали елеем, посыпали песком. Возница, длинный и сутулый верзила в черном, похожий на огромную отмычку для столь же огромного замка, взлез на козлы, и похоронные дроги тронулись в путь. Встречные снимали шапки. Над домами кружили голуби. Падал снег и тут же таял. Дальше, когда потянулась чужая Москва, наняли провожатые извозчика. А провожатых было всего двое: Сеня и Дудин. Чулочную бабу видел Сеня только на квартире, утром, – она возилась над Катушинским сундучком.
Тут-то и показали тощие клячи всю свою непохоронную прыть. Длиннющими, как жерди, ногами они захватывали большие куски мостовой и неслись, словно боялись людского глаза, словно обрадовались легкому грузу. За всю жизнь никогда и никуда не спешил так Катушин. Дудинский извозчик, чахлый парень с красными выпуклыми веснушками, не отставал, – словно на свадьбу мчались. Мразь с неба усилилась и уже не успевала таять. Подняли верх.
Однако за заставой, когда мимо бежали домишки, измельчавшие до последней жалости, Дудинский извозчик стал закуривать и поотстал. Извозчик спросил:
– Нет ли спичечки?..
Дудин сказал:
– Чорт!.. – и протянул спички.
Тут Сеня с тоской заметил, что Дудин уже раздобылся где-то вином.
Могилка проморозилась за ночь, но низина давала себя знать: на дне стояла лужица. Кладбищенский батюшка, олицетворение земного уныния, с пресным лицом, рассыпаясь на верхних нотках, изобразил надгробное рыдание и помахал потухшим кадилом. Сеня наклонился и скинул вниз первую горсть вязкой холодной земли. Она так и упала комом. Кладбищенский человек, коротконогий и веселый, усердно закидывал заступом розовый Катушинский гробок и все порывался заговорить. Наконец, он не выдержал:
– Как хотите, конешно, это на чей вкус... А по нашему, так никакого ада нет! Я вот, одиннадцать лет копаю, все думаю: где же он, ад?.. Негде ему быть! А второе дело: сколько ж лесу-то уйдет его отопить? Я вот и за истопника тут, знаю дело... Не-ет, тут что-то другое есть, а только они скрывают! – и он, кивнув вслед уходящему батюшке, громко высморкался в сторону. Борода у него была круглая, рыжая, разбойничья, жесткая.
– Пьешь?.. – коротко и с презреньем спросил Дудин.
– Пьем... – сознался могильщик. – А что?
– Ничего, ступай! – отвечал Дудин.
Когда никого не оставалось кругом, Дудин взволнованно и вдруг провел себя рукой по невообразимому, непокорному ершу волос и вздохнул так глубоко, словно собирался сказать последнее слово пред тысячной толпой, собравшейся почтить покойного. Он даже выкинул руку в сторону и открыл глаза. Движенье его можно было счесть и за судорогу. – Кричали вороны, в высоких кладбищенских березах. Пахло прелым листом. Видна была дорога до самой заставы, и на всем протяжении ее – никого.
– Здесь чайнуха одна есть, с секретом, – сказал неожиданно Дудин. Сеня старался не глядеть на его подергиванья. – Вроде поминок закатим... по бестелесном человеке! – он подмигнул, а Сене стало тревожно и холодно.
– Пойдем, а?..
Но тут с Дудиным что-то случилось. Он припал к свежему Катушинскому холму и весь затрясся. Плакал он всухую, без слез. Острые кости, сотрясаемые в Дудине рыданьем, двигались так, словно хотели прорваться из черного его пиджака. Звук был очень непонятный, всхлипыванье походило будто в котле клокочет черный и густой сапожный вар. Его прощанье кончилось так же внезапно. Он встал и надел на голову свалившийся картуз.
– Эх, в трясине живем!.. – крикнул он и, не оглядываясь, забывая стряхнуть с колен приставшую землю, пошел с кладбища. Сеня догнал его почти у выхода.
...Чайнуха, набитая воровской мелочью и мастеровой голью, притулилась в кривом, с крыльцом, домике, – сзади к нему примыкал пустырь. Уже свечерело, когда они пришли туда. Под черным потолком висела лампа с грязным железным абажуром набекрень. Керосин уже истощился, и напрасно иссохший фитиль обсасывал пустое дно и стрелял красными языками, давая знать о себе.
Они подсели к столику, за которым уже сидел один, – разглядеть его лицо было невозможно. Сеня впервые за всю жизнь пил жгучую противную смесь, откашливаясь и брызгаясь, не справляясь с отвращеньем.
Неизвестный, сидевший вместе с ними, глядел внимательно и грустно.
– Что ж ты парнишку-то спаиваешь? – спросил он тихо у Дудина, прихлебывая чай из толстого стакана.
– А ты не злись... не подбавляй горечи! – вскочил Дудин. – На-ко, выпей за упокой человека...
– За свой, что ль, упокой пьешь? – неодобрительно спросил человек.
– А и за мой выпей, какая разница! – клохчущим своим смехом зашелся Дудин. – Из каких сам-то, – мастеровщинка, что ли?
– Нет... на заводе тут, по металлу работаем, – неохотно отвечал тот.
– Снарядики точите? А-а!.. Подлецкое ваше дело!.. – колко заворошился Дудин, подливая в стаканы.
– Не-ет, мы не отсюда... – неопределенно отвечал человек.
– А, ну-ну! – почему-то принял без вопроса Дудин сообщение незнакомого. – А мы вот человечка схоронили. Предобрый старикаша! Ну, скажи, восемнадцать раз я инструмент свой пропивал... приду к нему, грязный, пьяный, тень человека. «Ваше преподобие, скажу. Одолжи три рубля на продолжение жизни!» – «Спустил?» спросит. «Спустил, ваше преподобие!» Он и даст. Я его преподобием-то, чтоб не так совестно было! Так красненькая и ходила промеж нас всю жизнь. Бестеле-есный!.. – протянул мечтательно Дудин.
– Что ж за заслуга... что пьянству-то помогал? – усмехнулся незнакомый, свертывая папироску и смачивая край бумажки языком... – Жил-был и помер. Жалеть его не за что. В тихом житии не велика заслуга. Хоть брыкнулся бы!..
Дудин даже отодвинулся, заметно оскорбившись замечанием незнакомого. Зрачки у Дудина потемнели и как-то сжались.
– Ко-онешно! – передразнил он, выбрасывая руки вверх. – Зачем жи-ил! А кто ему судья? Ты ему судья? Кто меня судить может, как не я сам? Ну, говори, говори мне!.. А-а, ты молчишь, судья неправедный! А почему ты молчишь?.. А потому, что и сам не знаешь, зачем каждый день сапоги надеваешь!
– Я-то знаю... – засмеялся незнакомый.
– Что же ты знаешь? Ну, отвечай мне, если ты можешь!..
Ответа не последовало, да его и не понял бы, может быть, захмелевший Дудин. Кто-то забежал к ним за перегородку и крикнул об облаве. Незнакомый поднялся первым и первым же побежал к черному ходу. Дудин и Сеня побежали, почему-то, за ним. Дом еще не был оцеплен. Черный ход вывел их на пустырь, так щедро изрытый канавами, как будто нарочно для поломки чужих ног. Люди разбегались во все стороны. Сеня потерял Дудина. Он позвал его один раз и, не получив отклика, двинулся наугад, к тихой и длинной улочке, скудно освещенной десятком кривых фонарей. Черная глушь окраины обступала и странно возбуждала Сеню. Голова горела от Дудинского угощенья, стучала кровь в напрягшемся кулаке. Мысли были неуловимы, но все исходили от одной: вот он идет пьяный и осмеянный, а в Зарядьи, за толстой стеной, пропивают Настю...
...Лавку еще не закрывали, когда Сеня вернулся в Зарядье.
– Где это тебя, экого, таскало? По книжкам хоть бы сходил получить! Месяц на исходе... – ворчал Быхалов, когда Сеня нарочито твердой походкой проходил мимо.
– По книжкам?.. – непонимающе переспросил Сеня, останавливая свое внимание на хозяйской руке, опущенной в выручку. Никогда раньше не замечал Сеня Быхаловской длиннорукости.
Он прошел к конторке, подмигивая внезапному своему решенью, и выбрал книжку, по которой забирал товары Секретов. Завязка вечера распутывалась сама собой. – Да куда же ты пойдешь в таком-то виде?.. – смутился Быхалов. – Спать бы шел.
– Вы думаете, я пьян?.. – подошел Сеня к прилавку. – Нет, я не пьян...
...Мимо знакомого лихача и нескольких извозчиков, стоявших у ворот, Сеня прошел прямо на Секретовскую квартиру, зловеще глядя только перед собою... Поднялся по лестнице и постучал в дверь. За дверью слышны были голоса и вскрики, Зарядские помолвки – шумные. Сеня постучал еще раз и, не сдержав злости, сильно ударил сапогом в дверь.
– Кто там?.. – спросил из-за двери испуганный старушечий голос.
– Отвори, Матрена Симанна. По книжке пришел получить!
– Через часок приди! Вот женихи уедут... – вразумляюще шепнула она, отворяя дверь.
– Велено ждать, – твердо сказал Сеня, почти насильно входя в прихожую. – Вот я тут в уголышке примощусь.
Старуха, боясь затронуть пьяного, металась по прихожей, загораживая одновременно дверь в столовую. А Сеня смирно сидел под шубами, держа книжку на отлете, в руке... Кажется, он задремал, времени не заметил. Он открыл глаза, когда прихожая наполнилась вдруг шумными возгласами.
Купцы прощались в дверях столовой, посмеиваясь, причмокивая и разводя руками.
– Ну и спасибо, сват, – спокойно говорил один, очень большой вместительности человек.
Другой, похожий на начетчика, одетый поневзрачней, со впалыми висками и с карей проседью в бородке, потирал руки и очень мягко говорил:
– Втроем теперь будем огород городить... С песенкой.
– Честь малому человеку делаете, – чванился Секретов. – А втроем, это мы, действительно, шарахнем!..
– Шарахать-то с толком нужно, – осторожно заметил женихов дядя, невзрачный.
– А мы и с толком. Затрудненья нет! – заметно смутился Секретов, оправляя круглую бороду.
Жениха сразу нашел Сеня. То был мелкого сложенья человек, поджарый и напомаженный. Когда смеялся, вся его чистенькая мордочка завязывалась узелком вокруг восторженно выпученного рта. Он много, мелко и безо всякой причины смеялся Насте, стоявшей рядом с ним. Настя кусала губы. Петр Филиппыч, разговаривая с гостями, поглядывал на нее просящими быстрыми глазами.
Петр Филиппыч сразу заметил, как залилась румянцем Настя, и, только тут, переведя глаза, увидел Семена. Семен стоял возле шуб и напряженно низал Настю неморгающим взглядом, точно хотел, чтоб еще больше безумела краска Настиных щек.
– Зачем пришел, а? – коротко и мягко спросил Секретов Сеню и, подойдя ближе, зачем-то понюхал воздух.
– Вот! – туповато ответил Семен и щелкнул ладонью по книжке.
– Что это у тебя? – осторожно осведомился Петр Филиппыч.
– По книжке велено получить, – осипшим голосом произнес Сеня.
– По книжке? Ну-ну! – догадался по своему Секретов и тут же пояснил будущему свату, покачивавшемуся на растопыренных чурбаках ног: – вот народ у нас! Тут я с лавочником в контрах. Так вот он и догадался в такой час потрафить, пьяного прислал. Извините уж, гости дорогие!..
– Да сколь хочешь, пожалуста, – чванно отмахнулся толстый.
– Ты подожди, парень, вот только гостей провожу... и рассчитаюсь с тобой! – сказал Секретов.
Но он уже не отходил от Сени, заметив Настино беспокойство. Жених тоже учуял беду и неприметно оглянулся на отцов.
– А я вот что придумал, – вдруг обрадовался Секретов внезапной мысли. – Поступай-ка ты, парень, ко мне в службу. Я тебе и жалованья больше положу... Не век же тебе в мальчишках слоняться.
– Художественно! – захохотал толстый. – Вот уж хитер ты, Петр Филиппыч! Ну что, парень, согласен? – обратился он к Сене.
– Покорно благодарим! – вырвалось у Сени само собой. Почему-то ему в ту минуту представилось, что за ним наблюдает Пашка и улыбается. Он так глубоко вздохнул, словно хотел поглотить в себя свое неожиданное согласье.
– Ну, вот и чудодейственно. Смеху-то на все Зарядье станет! – успокоился Секретов, отходя к покинутому свату. – А пока подержи вот шубу женишку... Может, и на чай отвалит, коли не скуп! – и он хвастливо подмигнул приглядывавшемуся ко всему с лисьей осторожностью невзрачному.
Сеня взял шубу из рук жениха и растянул ее в руках, придерживая... Настя окаменело глядела на него, настрого сдвинув брови. Держа кашнэ в зубах, жених полез руками в рукава, но тут-то и случилось событие, повернувшее всю торжественность помолвки в один непристойный для купеческого дома ералаш...
XVIII. Катина родинка.
Сене отперла сама Катя.
– А Насти у нас нет!.. – сказала она, удивившись позднему его приходу. Впрочем, тотчас же тень какой-то догадки скользнула у нее в губах. Да что же вы на пороге-то стоите... входите!.. – она делала вид, что не замечает странной Сениной скомканности. Глаза у него были красны, веки падали вниз, – стоило большого труда удержать их.
Сеня все так же, без объясненья своего прихода, вошел в переднюю. Судя по тому, как он оглядывался, можно было предположить, что тут только он сообразил, куда завлек его хмель.
– Она обещала притти? Вы разве не знаете, мы с ней немножко рассорились! Из-за вас вышло... – добавила она тихо.
Катина блузка была смята, а волосы растрепаны, – очевидно, дремала, когда раздался резкий Сенин звонок. Она размахивала книжкой, значит с книжкой и дремала.
– Ну... не в передней же стоять! Пойдемте ко мне, что ли?.. – объявила Катя и непринужденно потянулась. – Где это вы так?.. – она искала слово, идя сзади Сени и все время копошась с блузкой. – Какой-то вы чудной... Я напугалась даже.
Сеня заговорил не раньше, чем вошел в комнату и сел на стул. Но сел уже не робко, как прежде, а всем телом, в развалку.
– Ты что, спала, что ли? – грубо спросил Сеня, не справляясь с косящим взглядом.
– Нет, нет... ты сиди, сиди! – тоже на ты перешла Катя. – Я ведь все одна сижу!..
– Жениха сейчас обидел, – жестко сказал Сеня и сделал неопределенное движение рукой.
– Настина жениха? – заинтересовалась Катя. Она расположилась-было поудобней на смятых подушках, но тут с любопытством приподнялась. – Как же ты его... так что-ли? – она наотмашь махнула рукой.
– Не... – нехотя отвечал тот, встал и скинул на пол плохонькое свое пальтецо. – Жарко! – сказал он и оттянул ворот рубашки, впившийся в смуглую, раскрасневшуюся мякоть шеи. Потом он взял попавшийся ему на глаза Катин гребень и запустил его себе в волоса, но завитки спутались и не давали гребню прохода.
– Положи... сломаешь! – вскользь заметила Катя. – Так ты, значит, на квартиру к ним приходил?
– Дай воды сперва попить...
– Вон там в графине, на подоконнике, возьми... Ну и как?
Сеня не спеша налил стакан. Рука его дрожала и расплескивала воду. Он выпил весь его в два глотка и опять сел, тупо уставляясь перед собою.
– Настькин отец говорит: «подержи шубу», – начал рассказывать он.
– Кому? – воззрилась, замирая от любопытства, Катя.
– Жениху, конечно! А я его поднял вот этак!.. не тяжеле мешка, да ка-ак брошу, с шубой вместе. Уж больно я на себя озлился, что шубу ему стал подавать... – опять попался на глаза гребень, и опять стал расчесывать Сеня волосы, но гребень хрустнул, и кусок его, выскользнув из волос, упал на пол.
– Ну, вот, видишь? Я говорила, что сломаешь! – объявила безо всякой досады Катя.
– ... я за нее по кусочку бы себя отдал тогда... – продолжал Сеня, и по всем мускулам его пробежала некая смятенная волна. – Зачем она отцу в глаза не вцепилась?..
– А Настя что? – допрашивала Катя, закладывая руки за голову.
– Она меня выгнала... как щенка пихнула!
– А ты и ушел?..
– Ушел, а тебе что?
– Хорош, нечего сказать! – Катя тихо засмеялась. Смех ее был ровный, щекочущий, осторожный как кошачья походка. – Значит, Настьку-то с руками этому воробью отдал! Ребят-то не нанимали няньчить?.. – и Катя насмешливо поиграла острым, как язык, кончиком ботинка.
– Не дразнись, – сказал он, опуская голову. – Зачем меня дразнишь?
Катя лежала с закинутыми руками, головой на подушке, вышитой тяжкими шерстяными розанами.
– А, может, я тебя утешить хочу?.. – и опять смешок ее, обжигающий Сенино самолюбие, прозвучал коротко и смолк. – Ты вот злишься, а, может, я слезы тебе хочу утереть... Я ведь добрая!
– Говорят тебе, не дразни, – повторил с еще большим упрямством Семен.
Они помолчали минуту, как бы давая друг другу обдумать ходы начавшейся игры.
– Сними-ка вот...
– Что снять? – прищурился он.
– Ботинок сними вот этот, – однообразно воркотала Катя. – Левый... Жмет очень!
– Может, и еще что снять?.. – и Сеня грубо захохотал.
– Дурак! – отчетливо сказала Катя, не меняя положения.
– Дурак, так я уйду! – и встал.
– Куда? К Настьке пойдешь? Там тебя отец собаками затравит. Тебя и затравить-то, так простят. Много ли стоишь?! Кисельное блюдо!..
– А я тебе сказал в третий раз... не трожь меня! – Сеня угрожающе подошел к Катину диванчику и глядел на нее немигающими глазами. – Смотри, мое слово коротко!..
– А мое длинно! – дразнила Катя. – Ты сильный... Ты вон какой, а тебя девчонка выгнала, так ты и реветь готов.
У Кати в комнате горела лампа с узорчатым абажуром. Катино лицо лежало вне круга света и само мерцало смутными блесками.
– Ты не гляди на меня так, – смешливо заговорила она. – Я ведь одна дома. Ты смотри, не испугай меня... – вдруг Катино лицо разжалось, распустилось. – Садись вот тут, – приказала она и подвинулась к стенке, чтоб дать место Семену. – Шаль-то скинь на стул и садись!
Тот молчал, побеждаемый в поединке. Голову обволакивал какой-то чугунный хмель. Вдруг ему представилось, что все вещи стали звенеть, каждая по своему, – звон дурманил.
– Что ж, я и сяду! – сказал Семен и нескладно присел на стул.
– Нет, вот сюда садись, – и указала место рядом.
– Ладно, – и сел туда, куда указывала.
Катины, с обгрызанными ногтями, пальцы играючи бегали по блузке.
– Смотри, – сказала Катя, распахивая верх блузки. – Видишь?
– Ну, вижу. Ну!
– Родинку видишь?.. Нравится?..
– Ничего себе. Махонькая... – определил Сеня, тяжело уставляясь на Катю. Немного вверх, над грудью, где кожа припухла странной мерцающей голубизной, томилось в безвестности маленькое темное пятнышко, ласковое и жалкое, темный глазок греха.
– Настьку хочешь обидеть... – сказал Семен, глядя в глаза Кате. Ему стало невыносимо душно в Катиной комнате, насыщенной чуждыми запахами, заставленной сотнями мелких и глупых вещей. В пальцах кровь билась так, словно сердце захлебывалось кровью и пальцы двигались сами собою.
– ... Сейчас отец придет, – вслух думала Катя, все еще с раскрытой блузкой. – В десятом собирался вернуться...
– Настьку хочешь обидеть, – с упрямством повторил Семен.
Они уже не глядели в глаза друг другу. Задичавшие взгляды их ползали по комнате, не различая вещей... Пухлые, с обгрызанными ногтями, Катины пальцы, раздражающе царапали обивку диванчика... Сеня и видел ее, и не видел. В висках клокотала разгоряченная кровь. Душе было гадко, а тело безумело и начинало качаться как маятник. Все вещи дразнили, точно хотелось им, чтоб хватили их о пол и расхрустнули каблуком. Семен наклонил над Катей опухшее лицо, – Катя двинула плечом, потушила глаза и затихла. Так было недолго.
Вдруг Семен поднялся и резко засмеялся:
– Время-то течет, как по жолобу! – сказал он, обводя усталыми глазами комнату. – Набедокурили мы с тобой! Эх, Катька, Катька...
Катя непонимающе поглядела на него и рывком запахнула блузку. В следующее мгновенье она убежала из комнаты с неправдоподобной живостью. Она вернулась через минуту.
– Уходи скорей, – зашептала она, не глядя на Семена. – Я на часы хотела взглянуть... они у него в спальне. Он уж пришел... Молится тем! Ступай, – комкала слова Катя и все еще оправляла давно уже застегнутую на все кнопки, какие были, блузку.
Сеня шел за ней в переднюю намеренно-громким шагом. Уже уходя, он попридержал дверь ногой:
– Стыдно тебе небось, а? А ведь замуж-то я тебя все равно не возьму!..
– Мужик вахлатый!.. – не сдержалась Катя и захлопнула дверь.
Щелкнул крючок, и Сеня остался один в темноте лестницы. Он сошел вниз и поднялся по улице вверх из низины. Нежилым, каменным духом повеяла на него Варварка. Он шел мимо нижних рядов. В провалах глубоких ворот, на ящиках дремали в тулупах сторожа. Шел он совсем бесцельно... В глухих переулках, соединяющих низ и верх, он пробродил большую часть ночи. К рассвету усталые ноги вывели его на Красную площадь, затянутую робким нетронутым снежком. И здесь никого из прохожих, только всюду, в каменных нишах, крепко спали овчинные тулупы. Так же медленно он спустился опять в Зарядье. В смятой памяти растерзанными кусками проходили события минувшего дня: сухонький лобик Катушина – Дудинский картуз, валяющийся в грязи – чайная кружка с мутным, тошным ядом – выпученные глаза жениха, сжатые, зачужавшие губы Насти – губы Кати, взбухшие, как нарыв...
Он стоял как раз перед гераневым окном. Оно, занавешенное белым, смотрело в него глухо и безответно. Предрассветный холод проникал всюду и укреплял сон. Во рту у Сени было горько, а внутри совсем пусто. Город начинал гудеть, и в гуле его казалось: хохочет над Сеней Катина родинка, чтоб обидней стало Насте и грешней ему самому.