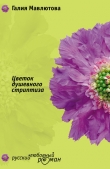Текст книги "Барсуки"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XII. Катя.
... Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась Сене, когда вошел он. Но за того, которого звало к себе в полусне цветенья девическое сердце, не боялась бы, что с крыши упадет, над тем не смеялась бы. Существовали и многие другие неуловимые разницы, но все это было так неточно и неокончательно, что Настя промолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях. Казалось, что для определения Настиных чувств нужно ужасно много слов, тысяча, или какое-нибудь одно, которого не существует.
Катя была единственной дочерью у Зарядского торговца разным бумажным и железным хламом. Кате было двадцать три, – ясноглазую, пышноволосую и всю какую-то замедленную Матрена Симанна прозвала клецкой. После Жмакинского происшествия Катя уехала к немаловажной тетке на юг. Но теткина жизнь была тошная жизнь, кофейная жижица. Катя шалила, приманивая провинциальных носачей: липли. Тетка уже смекала женихов, как вдруг скандал: на обеде в гостях Катя отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на почтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображения. Напуганная тетка имела разговор с племянницей, – Катя даже не поплакала. И вот, в осеннее утро, снова прикатила Катя к отцу.
Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, вся шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами, – покорительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. Катя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.
– Ну да, я, – утвердительно кивнула она. – Здравствуй! – и протянула руку.
Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.
– Ну-ну, – смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. – Разве можно так! Всю пудру смахнула... Ну, веди меня к себе.
– Так пойдем же скорей, – с неуловимым смущеньем заторопила Настя. Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю... не ушибись!
Она провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке уже горела у нее на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась. В самых неприметных пустячках и ненужностях лежала строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.
– Это все твое?.. – Катя казалась удивленной. Она указывала на все эти герани, розаны и кактусы, на всю комнату, напоминавшую коробочку из-под дешевых конфет, в которой поражало множество мелочей, имевших, впрочем, строгое согласование между собою. Точеный красный грибок и шкатулка со вздетой в скважинку ключа ленточкой, недочитанная книжка на кровати, заложенная шелковым лоскутком, удивительно соответствовали и пузатому, грушевой фанеры, комоду, и увеличенной фотографии дяди Платона, снятого в полном парадном облачении: волосы почти дыбом, руки на коленях, глаза расширены, сюртук мешком.
– Ну, я очень рада, что застала тебя. – Катя снимала шляпку с себя и пальто и клала на спинку стула. – Тут можно?
– Ты садись, садись... Я повешу все, – хлопотала Настя.
– Да ты не торопи... дай оглядеться. – В голосе Кати звучало знание своего превосходства. Она прошла по комнате, трогая каждую Настину вещицу: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати... – А-а и грибок! – сказала она с легким смешком и повертела его в руках.
– Он открывается, я туда пуговицы кладу... – торопливо объяснила Настя, словно боялась, что подруга осудит ее именно за этот грибок. Проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.
– Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот кстати и зеркало у тебя есть! – открыла она и подошла привычным взглядом окинуть себя в зеркале. Вместе с тем поправила волосы, – они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. – Вот теперь я сяду...
Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее крупное лицо.
– Однако! – заметила она. – Ты что, в монашки готовишься?
– Я люблю спать на твердом, привыкла... – засмеялась Настя, садясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо.
– Ты что так глядишь? – улыбнулась Катя.
– Ты красивая стала, – отметила Настя робко.
– Да? – Катя глубоко вздохнула и еще раз окинула себя быстрым взглядом, точно искала подтвержденья Настиным словам. – Да ведь и ты... выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то... – Катя искала, что еще можно отметить в Настиной наружности, и не находила. Мальчишеский задор Настина лица ей не нравился. – Нет, а ты, вообще говоря, хорошенькая! с внезапным хохотом открыла она. – Ты не красней... право же, такие им нравятся! Только вот тут у тебя мало... – мельком указала она на грудь. – Знаешь, ты на Дианочку похожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!
– Ты не говори мне так, – тихо попросила Настя. – Мне стыдно от твоих слов...
– А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?
– Я сама себе найду, – загоревшись, вскочила Настя.
– Вот какие дела! А может, уж и нашла... Какой-нибудь такой, а? – и подмигнула.
– Катя! – попросила Настя, присаживаясь рядом. – Закрой глаза...
– Да зачем? Чудная ты.
– Потом скажу... я спросить хочу. Ну, закрой...
– Ну вот, закрыла... ну?
– Нет, ты совсем закрой, – настаивала Настя.
– Ну!
– Ты вчера видела что-нибудь или нет?
– Нет, не видела. Я мимо прошла, – сказала просто Катя. – Это в воротах-то? Нет, не видела.
– Ну, как же ты жила... рассказывай! – быстро прервала начатый разговор Настя, неспокойно усаживаясь на стул и прикладывая руки к лицу.
– Да я, может, и не жила совсем, – поиграла круглым плечиком Катя и вдруг расхохоталась. – Любовь! Ах, Настька, как это смешно...
– Что смешно?
– Да любовь эта самая... Ухаживал там поэт один, Василий Федорыч, а волосищи – во! Глуп, понимаешь, как... Ну, вот, еще глупей меня. Все про какие-то медвяные руки да захарканные дали мне читал. Я сперва-то притихла, совести не хватало сказать... Чуть с души, бывало, не рвет, а слушаю. Вот он однажды мне про полюсы мрака читал. А тут, на грех, собака выть стала. Я спрашиваю: у вас что, живот болит?
– А что это значит, полюсы мрака?.. – спросила Настя.
– Да не знаю. Да он и сам не знает, я спрашивала... Я хохочу, и он со мной вместе... Ужасно весело!
– Дурачок, что ли? – не понимая, спросила Настя.
– Дурачок? – всплеснула Катя руками. – Верблюд какой-то, от войны в писарях прячется. Я уж потом попривыкла. Как придет, я и прошу: про захарканные руки почитайте, пожалуста! Я-то, конечно, знала, чего ему хочется! – Катя блеснула глазами и поиграла кружевной оборкой рукава.
– Ну, дальше-то что же?
– ...гуляли раз, про кровяные кирпичи читал... А я уж и щеку, понимаешь, выбрала, по какой его огреть, если целоваться полезет. Прочел он мне и говорит: хочу, говорит, прикоснуться. Я отвечаю: попробуй!
– Ну-ну, – захлебывалась Настя смехом.
– Вот-те и ну! У меня рука хоть и медвяная, а громко вышло. Стихи, понимаешь, с тех пор бросил писать!..
Обе хохотали, белая комнатка повеселела. Даже и лампа стала гореть как-то ярче.
– А у тебя тут славно, – все еще смеясь, сказала Катя. – Ты в зеркало-то часто глядишься? Я перед сном люблю... Нет, тебе непременно надо больше есть. Во глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь! Ну, не буду, не буду! – Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.
Вошла Матрена Симанна.
– Кушать, Настенька, иди, – сказала она. – Папенька сердится.
– Я потом. Я не хочу.
Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.
– Матрена Симанна, – крикнула Настя в догонку. – Вы чего хлопаете? Вон хочется?..
Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.
– Едят целый день, ровно в трубу валят, – сумрачно обронила Настя.
– Если ты и с мужчинами так, это хорошо! – деловито вставила Катя и, вдруг вздернув рукав, поглядела себе на руку. Там, повыше локтя, на внутренней стороне, виднелся лиловый овал.
– Что это?.. – нагнулась Настя.
– Один был, курчавый... Укусил, – сухо объяснила Катя и со злобой опустила рукав.
– Зачем укусил?.. – не понимала Настя.
– Горячий был! – повышенным тоном сказала Катя, кусая ногти. Потом встала и подошла к зеркалу, к Насте спиной.
– Значит у тебя жених есть? – догадалась Настя, заливаясь краской.
– Он уже женился...
Настя со смущеньем и жалостью поглядела на Катю. Та не знала, что Настя через зеркало видит ее лицо. На ровных, напудренных Катиных щеках вдруг обозначились две темные продольные полоски. Катин взгляд был грустен и пуст.
Через минуту она обернулась.
– Ну, прощай. У меня тоже папенька есть, – она зашуршала платьем и стала быстро одеваться.
– Ты бы посидела, – тихо сказала Настя, чувствуя себя старшей в ту минуту.
– Нет, теперь ты приходи... Я по-прежнему в доме Грибова!
Настя проводила подругу до дверей.
...Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, была полная ночь. Настя полежала минут десять, укрывшись с головой и старательно закрывая глаза. Сон не приходил. Тогда она просто улеглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в голове.
Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, нашарила там спички и зажгла свечу. Она подошла к зеркалу – поясное, в ореховой раме – и приспустила перемычки сорочки. Из зеркала глянула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, со свечей в одной руке, а другой придерживающая сорочку, чтоб не соскользнула на пол. Обе – и та, которая в зеркале, и та, которая перед ним – боялись взглянуть друг другу в глаза. Глаза у обеих были опущены.
Настя увидела, что у смотревшей на нее из зеркала грудь была маленькая, робко наклоненная вверх. Девушка в зеркале была спокойна, стройна и строга. Настя подняла глаза на нее, и обеим сразу стало стыдно. Настя улыбнулась той, та ответила ей тем же, но вся залилась краской и состроила презрительную гримаску. Настя повторила... С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та угадала Настин порыв и протянула Насте свои губы. Настя еще не хотела, но та уже поцеловала ее.
И тотчас же, вспугнутая соображением, что из противоположного дома могут подглядеть ее тайну, она быстро задула свечу и отскочила от окна. С минуту она стояла в темноте, посреди комнаты, и с бьющимся сердцем прислушивалась к шорохам позднего часа. Крупный дождь колотился в окно и звенело в ушах: больше звуков не было.
Она засмеялась, как смеялась девочкой лихой проделке. Зябко ежась, она влезла под одеяло, и почти тотчас же захлестнуло ее сном. Засыпая все еще смеялась, тихо и непонятно. – Сокровеннее всех тайн небесных нетронутой девушки ночной смех.
XIII. Дудин кричит.
Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне бесстрастно и ровно: поздняя осень.
Осенью закисало Зарядье, – так закисает в забытой плошке творог. Просыревшие насквозь, соединялись запахи в тесные клубки, плодились и размножались, а все вместе пахли щенком, обсыхающим у огня. В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул в таком топком месте городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он в корне Зарядской тишины.
Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового Зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семен с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове, пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравненьи с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие – сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.
...Снаружи – все по-прежнему. И никакой, кажется, непогоде не разбавить крепкого настоя Зарядской жизни. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало, – кит, на котором стояло Зарядское благополучие, закачался. Василий Андреич Бровкин, Быхаловский племянник, приехал с войны. Бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем. Губы Василью Андреичу отстрелило немецким осколком вместе с зубами и челюстью: осталась вместо рта дырочка для манной кашки. Так и не целовались на радостях. Потом еще один приехал, полные сроки родине отслужа, Серега Хренов, Зарядский хреновщик. Как и прежде – цельный весь, больших размеров человек, а только трястись стал – безостановочно и сильно. Его, входящего, встретила на пороге мать, старушоночка, – тоже тряслась, от старости.
– Сережечка... – зашамкала мать, – лебедочек моей жизни, – ну, как ты?
А сын урчит всей грудью да язык показывает:
– А-а... гы-и... бя-а...
Старуха и обиделась:
– Да что ж это ты собственную мать дразнишь, стервец?.. Я тебя девять месяцев в себе носила, собой кормила... Так-то, паскудень, матери плотишь!? – Но взглянула в глаза сыну и закричала так, словно пронзили ее железом...
...Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а ныне другой – высокий и егозливый встал. Всякая радость порохом стала отдавать. Кстати и винишко отменили, нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.
К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Уже не оставалось в скорняке прежнего пьяного обличья, но весь каким-то черным стал: и пиджачок черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.
Даже посмеялся Быхалов:
– Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро ради будут!
– А и что ж! – заклохтал сиплым злым смехом Дудин. – Не все ль равно, в кого палять! В меня и стрелять-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру... и починки не потребую. Я сухой, без вони... Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!
– Ну-ну, я твоему пустословью не слушатель! – сердится Быхалов. – Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.
– Отчалю, будет время! – смиряется Дудин, и вдруг опять лезут из Дудина вместе с кашлем злые лохматые слова. – Ведь вот они взяли друг друга за ножку да и тянут... котора нога слабже окажется, тому и вянуть. Ну, а ежели вот я, Ермолай Дудин, не желаю своей ноги отдавать, а?.. Аль меня свинья рожала, а не матушка, что я голоса не могу иметь? Может, она, ножка-то, мне и самому нужна!.. Может, я свою ножку-то как дочь родную обожаю, а?.. Ну-ка, смекни, кто может, насчет Дудина Ермолая!..
Народ в лавке прислушивается, оборачиваясь к Дудину. Зосим Васильич беспокоится:
– Ну, ладно, ладно. Уж больно вертляв стал. Заберут еще с тобой, – и оглядывается, нет ли в лавке опасливых людей.
– Заберу-ут?.. – крикливо вспыхивает Дудин и ударяет себя во впалую грудь. – Не за то ль и заберут, что меня матушка рожала! Ну и заберут, так что поделают-то? На колбасу меня пустят? Так ведь у скорняка и мясо-то с тухлиной! Я ни червя, ни мухи не боюсь, мне все нипочем, вот я какой!! А тюрьмы Дудин, вре-ешь, не страшится... Там и получше меня люди живут. Эвон, сынок-то твой... ты его оттолкнул, а я преклоняюсь! Может, ему и наплевать на меня, а я преклоняюсь. А почему я преклоняюсь? Он свою точку нашел! И я найду. Каб я с ним-то посидел, и я б ума нажил. А каб у меня ум-то был... – Дудин надрывно кричит и рвет на себе рубаху, ...весь мир Дудин наискосок бы поставил!.. Ка-ак бы дернул за вожжу, стой, становись по-моему! – И Дудин всем телом дергает за вожжу, за воображаемую.
Быхалов тревожно машет на него руками, а народ уже посмеивается, задорит, просовывает глаза, схожие с тестяными пузырями.
– И, конечно, что с бедным человеком поделать можно: он возьмет да на зло тебе и помрет! – говорит кто-то.
– Вали-вали, Дудин, стой за веру и отечество, не щади живота! – насмешливо кричит какой-то, прыщеватенький.
– Да у него и живота-то нет... на пустом месте штаны носит!..
– У-лю-лю-у-у...
– Ты намелешь! – негодует Быхалов. – На твоей мельнице и из полена мука выходит. Тебе помалкивать надо, на себя-то взгляни: помрешь скоро!
– Помру-у?.. – почти воет Дудин. – Не хочу я, не хочу!.. Ничего не хочу! – он рывком хватает керосин и бежит из лавки. В дверях его долго и упорно треплет кашель. Когда перестает, – лицо у него измученное, маленькое, вызывающее на жалость.
При выходе столкнулся с молоденьким офицером, входившим в лавку.
– Господин Быхалов... вы? – вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.
– Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильев, действительно, мое имя, вразумительно поправляет бакалейщик.
– Я от сына к вам... – прапорщик подтянулся, точно рапортовал... – У вас есть сын, Петр Зосимыч?..
– Не ранен ли? – лоб Зосима Васильича пробороздился морщинками.
– Как вам сказать, – замялся прапорщик. – Я бы попросил дозволения наедине с вами...
– Лавку запирать, – приказывает Быхалов. – А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупке живем, прошу прощения...
– Ничего-с, пожалуста, – с холодноватой вежливостью жмется прапорщик, идя за Быхаловым.
Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замусленную поддевку. Потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.
– Грязь у нас везде... сало, – пояснил он и спросил, усаживаясь напротив. – Ну, какие же вы мне новости привезли?..
Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.
– Видите, дело совсем просто. Две недели назад...
– Постой, постой... чтоб не забыть! – перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. – Петр тут в письме шахматную игру просил прислать да бельеца пары две... Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.
– Никак... нет, моя фамилья Немолякин, – торопливо поправил прапорщик. – Я с Иевлевым не знаком. Да я и с Петром Зосимычем тоже в особой дружбе не состоял... Я по другому делу, совсем наоборот!
– Иевлев-то, значит, не приедет? – тупо спросил Быхалов, выставляясь лбом.
– Да уж как вам сказать... пожалуй, и не приедет, – странно усмехнулся прапорщик и очень внимательно, несмотря на сумерки, осмотрел себе ногти... – Видите ли, он уже, вероятно, умер... Иевлев. – Так сказав, прапорщик издал горлом непонятный звук и четко хлопнул себя по коленям.
– Умер, а-а... Вишь, как люди теперь! Так может чайку со мной попьете? Я прикажу заварить?.. – угрюмо заворочался Быхалов.
– Нет, нет... – испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова. – Я очень спешу... Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то-есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое. Названье, одним словом, Чортово поле... Солдаты так прозвали... Солдаты так прозвали, а посреди – пик! Ползем на брюхе... – прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. – Налезаем, проволока в три кола. – Голос прапорщика принял вдруг высокий женский тон. – Это, кстати, очень интересно, когда проволока комбинируется с фугасом... – он перешел на скороговорку. – Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как это устраивается... Очень интересно!..
Быхалов не останавливал, а у прапорщика в руках уже белела страничка записной книжки. Гость чертил огрызком карандаша прямые углы, кривые линии, какие-то запятые, очень много запятых, наклоняясь над книжкой и пряча лицо.
– ...вот тут, извольте видеть, узел... узелок. А тут фугасное поле. Вот это – пулеметное гнездо, вот это... видите? – сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. – Вот тут мы и шли... то-есть ползли.
– Погоди, я газ зажгу. Ничего мне тут у тебя не видно, – тихо остановил Быхалов.
– Не зажигайте... не зажигайте, прошу вас! – встрепенулся прапорщик, и мгновенно спрятал книжку чуть ли не в рукав. – Мне право же бежать нужно!..
– А ты не спеши! – сурово окрикнул Быхалов, стоя на табурете. Газовый свет буйно наполнил комнату. – Успеешь, и без того всякая спешка к смерти. И у меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!
– Ничуть не бывало, ничуть не бывало! – закричал прапорщик стонущим голосом. – Я когда уезжал, Петр Зосимыч в полном покуда здоровьи был, волновался прапорщик. – Ну, и так дальше!.. Я и говорю денщику: ползи, говорю, вперед, с телефоном...
– Постой, ты что-то врешь, – резко дыша, перебил Быхалов. – Ведь сам же сказал, что вас всего двое было!
– Я не говорил, виноват... я не говорил! – оторопело сказал прапорщик и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. – Не могу, не могу, виноват!.. – почти простонал он.
– Чего не можешь?
– Врать не могу-с! – жилы на прапорщиковом лбу надулись как веревки. – Полковой командир с меня слово взял, что сообщу... Он велел, чтоб я и чертежик вам сделал для очевидности... А я не могу-с! – Он жал плечами и строил жалкие гримасы, прося снисхождения к своей бесталанности. – Вот наврал, а как дальше – не умею! Вы только не расстраивайтесь, прошу вас. Он, может, еще в окружной попадет, а не в военно-полевой. Дело у него, видите, двойное... Против войны высказывался солдатам. Я его, поверьте мне, даже отговаривал, а он все высказывался!..
– Так что ж ты меня за нос-то водишь... как тебе не совестно!! – тяжело встал с места Быхалов. – Тебя за делом послали, ты и делай дело! Ты за меня не бойся. Ты мальчишка, щенок, а я в гроб гляжу! У меня сын... а ты мне чертежики!.. Злой ты человек...
Прапорщик, утеряв всякую военную выправку, сидел сутуло и грыз конец наплечного ремня. Быхалов сидел плотно, глядя гостю между колен, на сапоги. Сапоги были новые, ногу обхватывали стройно и гладко.
– Не жмут?.. – с кривой улыбкой спросил Быхалов и сильно выдохнул.
– Чего вам?.. – почти с ужасом вскинулся тот.
– А ничего-с. Иевлев-то с ним, значит, был?
– С ним да. Вы уж меня извините, не сумел, моя вина... – растерянно шептал прапорщик и в сотый раз подымал плечи. – Бесталанен, не отрицаю, бесталанен! Вот хоть бы чертежик! Командир сам мне показывал, а я и забыл... Пулеметное гнездо нужно было влево отнести, а не вправо!.. А я вправо отнес... Тут я и спутался, потому что влево! – и он тоскливо водил пальцем по страничке записной книжке, вновь появившейся в руках.
– Может, чайку со мной попьешь?.. – брюзгливо спросил Быхалов, Как-никак, – лестно героя чайком попоить! Попей уж со мной!
– Нет, нет... не могу, простите! Вы только уж извините меня!..
– Да ведь я тебя не укоряю. – Быхалов встал и странно погудел грудью. – Вот ты мне сказал, и словно полоски по мне сразу пошли... – Он, жалко кривя лицо, повертел в руках приготовленную посылку. – Ну, беги, пожалуй. Небось и девчоночка есть?.. Смотри, не бунтуй. Девчоночка плакать будет...
– Я когда уезжал, он еще жив был, – грустным шопотом подал последнюю надежду прапорщик. – Под арестом сидел, в ожидании...
– Куда ж мне теперь игрушку-то девать? – задумчиво и наружно-спокойно вертел в руках посылку Зосим Васильич. – На, хоть ты, играй там... За услугу тебе. – И он пошел проводить гостя, сжавшегося и цеплявшегося шашкой за кадушки, чаны и бочки. Гость уходил на цыпочках, не смея надеть папахи на голову.
Когда гость ушел, начался ужин. После ужина, оставшись один, Зосим Васильич подошел к масляной проплесневелой стене и стал снимать с нее несуществующие пушинки.
– ... эх, Петруша, Петруша... – вслух сказал он, и вдруг лицо его сморщилось.