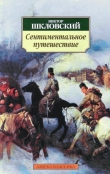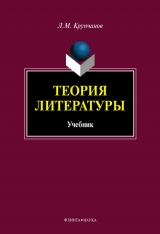
Текст книги "Теория литературы"
Автор книги: Леонид Крупчанов
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 2
Социологическое направление в литературоведении
Социологическое направление представлено в России целым рядом литературоведческих школ, в методологии которых отмечались приоритеты общественных, социальных проблем. Это прежде всего революционно-демократическая школа, народническая система и несколько вариантов марксистской методологии. При разнообразии философских и литературоведческих подходов эти школы характеризовались общностью их основных мировоззренческих ориентиров, которые заключались в идеях народности и демократизма.
Сама по себе проблема народности литературы в Европе и в России возникает в постклассицистический период, в литературе сентиментализма и романтизма первоначально как тенденция, а с возникновением реализма – как литературоведческая система.
В философии социологическое направление тяготело к материализму, в социологии выступало против крепостничества и его атрибутов, в литературе предпочитало реализм.
К социологическому направлению относится радикально-демократическая школа – В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и близкие к ним по духу Н.А. Некрасов, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, а также некоторые примыкавшие к ним критики и литературоведы: Г.З. Елисеев, В.А. Зайцев, Н.В. Шелгунов, М.А. Антонович, П.Н. Ткачев.
Социологические принципы в литературоведении и критике разделяла народническая школа Н.К. Михайловского, П.Л. Лаврова, А.М. Скабичевского.
Марксистская школа в литературоведении, помимо классиков марксизма, представлена именами А.В. Луначарского, В.В. Воровского, М.С. Ольминского, а также Г.В. Плеханова, В.М. Фриче, В.Ф. Переверзева.
Радикально-демократическая школаВ.Г. Белинский(1811—1848). Один из основоположников русской литературоведческой науки, радикальный просветитель и демократ. В его работах проанализированы и получили адекватную оценку важнейшие явления русской литературы, оформляется литературоведческая наука.
Философско-эстетические, социально-исторические и литературные позиции Белинского отмечены несколькими этапами развития, из которых наиболее значимыми явились 30-е годы и период 40-х годов XIX в. Во взглядах Белинского получил живое выражение процесс творческого осмысления русской мыслью важнейших явлений западноевропейской гуманитарной науки, осуществлен стремительный выход русского литературоведения на уровень мировой науки.
Исходные философские позиции Белинского определились двумя приоритетными принципами его мировоззрения: глубокой убежденностью (уже в первой половине деятельности) в устарелости классицистической эстетики и в необходимости всеобъемлющего просветительства во всех сферах российской жизни – в образовании, литературе, философии, социологии.
В первый период своего творчества Белинский высоко оценивает Руссо как противника французского классицизма.
Идей отрицания современной цивилизации, а также идеализации древней истории народов у Руссо Белинский не разделял. Утопическими считал он мысли Руссо, содержащиеся в его «Общественном договоре». Белинский справедливо замечает относительно этих мыслей, что история до сих пор не знает ни одной народности, которая возникла бы в результате взаимного согласия людей или же по внушению какой-либо выдающейся личности. Вообще, по мнению Белинского, в России XVIII в. Руссо знали только как сентиментального писателя, а о Канте не слышали совсем.
Основательно познакомился Белинский с эстетической теорией Канта, разделял в течение некоторого времени его идею бессознательности творческого акта. Что касается критического отношения Канта к выводам «чистого разума» (одного из позитивистских принципов), то Белинский считал это положение Канта «рассудочным» и не принимал его.
Белинский высоко оценивал идеи гуманизма в учении Гердера, связывая их с эстетикой романтизма, а не с историческими взглядами Гердера. Именно романтики обожествляли искусство, считая его уделом избранных (жрецов или богов). Для Белинского «великий Гердер» – «предвозвестник» того времени, «когда люди убедятся, что науки и искусства суть достояние общее, человеческое, но преимущественно жреческое». Критик видит в Гердере просветителя, предшественника немецких романтиков и философских идеалистов.
Рассматривая классицизм XVIII в. как «ложный», Белинский отвергает его философскую базу – «материализм XVIII века», подчеркивает метафизичность, механистичность этого материализма, указывая на коренную причину его ограниченности. Материализм, по словам Белинского, старался «объяснить происхождение мира механическим сцеплением атомов». И все же для Белинского 1830-х годов наиболее высокая ступень философско-эстетического развития не метафизический материализм, не Руссо и Гердер, а немецкая идеалистическая философия, которую он считал последним словом в науке.
Белинский в этой связи упоминает имена Канта, Шеллинга и Гегеля, особенно выделяя при этом Канта и Гегеля, в которых, по его словам, была заключена «чудовищно огромная сила разума и эстетического чувства». Ступени философского развития для него определяются отрицанием метафизического материализма, осмыслением вершин немецкого идеализма (в том числе эстетики и диалектики Гегеля).
Для Белинского наиболее ценным из трудов Канта является его трактат «О высоком и прекрасном» и «рассудочна» работа «Критика практического разума». У Белинского широкая общефилософская и общеисторическая позиция в оценке немецкой науки. Он отграничивает по значительности труды «германцев» – Лессинга, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шиллера и Гёте – от «немцев-филистеров» – Коцебу, Бахмана, Круга, Менцеля и других сторонников устаревших эстетических теорий.
У Белинского сложилось в целом неблагоприятное впечатление о позитивизме О. Конта. Он не рассматривал позитивизм как последнее слово в науке. Об одном из последователей Конта – Э. Литтре – Белинский сначала отзывается положительно. Он пишет о своей работе «Важность и успехи физиологии», опубликованной в «Современнике»: «Статья о физиологии Литтре – прелесть!» «Хотя Литтре и ограничился смиренною ролью ученика Конта, но сейчас видно, что он – более богатая натура, чем Конт». Белинский сочувствует критике некоторых сторон учения Конта со стороны Литтре. Но он далек от одобрения позитивизма в его основных принципах. Он не видит смысла в замене Контом слова «идея» словом «закон». Для Белинского термин «идея» более приемлем, так как он появился в результате закономерного исторического развития философской науки и к тому же является исходным термином для понятия «идеал», важного для Белинского. Белинский в последний период деятельности был противником любой (выдающей себя за универсальную и неизменную) философии, не принимая ни «абсолютных законов» Конта, ни «абсолютных идей» Гегеля, так как и в том и в другом случае из жизни исключалась всякая случайность.
Рассматривая литературные взгляды Белинского, следует отметить, что он высоко ценил как народное творчество, так и древнерусскую литературу. Он считал «народную поэзию таким важным предметом, о котором должно или все сказать, или ничего не говорить», и посвятил ей целый цикл статей. Критик дает положительную оценку «Русским народным сказкам» и «Сказаниям русского народа» И.П. Сахарова, изданным в 1841 г. Не считая Сахарова теоретиком, он видит пользу его трудов в собирании литературных материалов, фактов и сведений. «Давайте нам материалов, фактов, больше фактов: критика не замедлит явиться, и тогда само собою обнаружится, кто прав, кто виноват, новая ли, все критизирующая историческая школа… или старая, готовая верить на слово и летописи…» – пишет Белинский. Он сочувственно отзывается о деятельности в этом направлении первых собирателей и издателей фольклора: М.Д. Чулкова, П.М. Строева, К.Ф. Калайдовича.
Особенно высоко оценивает критик просветительскую деятельность Н.И. Новикова. Белинский восторженно отзывается о нем в «Литературных мечтаниях», решительно опровергая мнение о том, что Новиков был только книгопродавцем, и доказывая, что он имел сильное влияние на развитие русской литературы. Не будучи художником-«архитектором», Новиков, по утверждению критика, был строителем-чернорабочим, который своей просветительской деятельностью «приготовлял только строительные материалы и строительных мастеров». Белинский относил Новикова к тому направлению в русской литературе XVIII в., из которого развилась затем натуральная школа.
Вместе с тем, по мнению Белинского, «художественная поэзия всегда выше естественной, или собственно народной. Последняя – только младенческий лепет народа, мир темных предощущений, смутных предчувствий». Даже в период, когда история для Белинского представлялась модификацией абсолютной идеи, она воспринималась им как «фактическое жизненное развитие… в форме политических обществ». А поскольку русская литература допетровской эпохи выступала в основном в безымённом виде, она тоже могла восприниматься Белинским как коллективное творчество народа. Поэтому Белинский начинает русскую литературу «Одой на взятие Хотина» М.В. Ломоносова, т. е. с 1739 г. Отсюда и более резкое, чем к народному творчеству, отношение Белинского к древней литературе. «Нужно ли доказывать, что “Слово о полку Игореве”, “Сказание о донском побоище”… и другие исторические памятники, народные песни и схоластическое духовное красноречие имеют точно такое же отношение к нашей словесности, как и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, к санскритской, греческой или латинской литературе».
Придавая большое значение собиранию литературных памятников, Белинский был решительным противником поклонения «факту», «опыту», подмены обобщений мелочами. Разве имеет значение, «какого цвета были доспехи Святослава и на которой щеке была родинка у Игоря», спрашивает он. Белинский справедливо утверждает, что преклонение перед фактом ведет к эмпиризму и эклектизму в науке. «…Наши ученые сословия… за немногими исключениями, бесплодно возделывают каменную ниву опытных знаний, не оживленных никакою идеею», – говорит критик.
В противовес «фактистам», как называет он Н.И. Надеждина и С.П. Шевырева, которые любят «букву», Белинский готов был выдвинуть свой «инстинкт истины».
Белинский не отвергал культуры допетровской Руси, но и не идеализировал ее. Демократизм исторических взглядов Белинского был далек от славянофильских иллюзий.
В письме К.Д. Кавелину в 1847 г. Белинский пишет в связи с этим вопросом: «Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с Вами едва ли расхожусь. Как и Вы, я люблю русского человека и верю великой будущности России. Но, как и Вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры… Вы же пустили в ход идею развития личного начала как содержания истории русского народа… Личность у нас еще только наклевывается, и оттого гоголевские типы – пока самые верные русские типы».
С самого начала своей деятельности Белинский ставит вопрос о народности литературы. Он утверждает, что «поэзия народа есть зеркало» его жизни «и его сознания», что народность – «выражение субстанции народа, а не тривиальной простонародности». Критик связывает степень народности литературы с определенным художественным методом. Утвердившись на примерах творчества Гоголя и Пушкина в преимуществах «совершенной объективности изображения» в творчестве истинного художника, критик решительно заявляет, что если художественное произведение «верно», то оно и «народно».
Научные сведения об искусстве и его специфике пришли к Белинскому из немецкой идеалистической эстетики Канта, Шеллинга, Гегеля. Основные определения искусства Белинский формулирует самостоятельно уже в 1830-х годах. В этих определениях акцент приходился на духовный аспект творчества. К этому периоду восходят такие его определения: искусство – это «мышление в образах», «непосредственное созерцание истины», «бессознательное выражение творящего духа».
Нельзя сказать, что Белинский совершенно отказался от этих определений, вернее, он дополнил их, подчеркнув в 1840-х годах практическую сторону творчества: искусство есть «воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир». Содержание науки и искусства, по мысли Белинского, одно и то же – действительность. Разница – в формах: ученый мыслит силлогизмами, понятиями, поэт – образами. Белинский утверждает, что образная специфика искусства не отграничивает его от других сторон духовной деятельности. Искусство нельзя считать, как он говорит, «умственным Китаем», «наш век особенно враждебен» идее «искусства для искусства, красоты для красоты». Белинский отличает такие «области литературы»: наука, искусство (поэзия), беллетристика и пресса, журналистика. Беллетристика, с его точки зрения, – «низшая поэзия», «то же золото, только низшей пробы». Беллетристику он рассматривает как главный предмет публичного чтения и жалеет, что беллетристика не получила в России должного развития. Беллетристика – результат «красноречия», низшего творческого таланта. «Красноречие» и «художественная поэзия», «поэзия формы», – это два способа выражения истины. Между ними – идея, «философский элемент», или «поэзия содержания». В борьбе «философского элемента» с художественным возможны различные их соотношения, которые и определяют степень художественности произведения. Художественность – результат общечеловеческих законов прекрасного, и поэтому, с точки зрения Белинского, сословные подходы к анализу художественных произведений, как и различение их художественности по принадлежности авторов к тому или другому полу, недопустимы. Он решительно отклоняет выдвинутые Шевыревым в качестве критерия художественности категорию «светскости», как и понятие «дамской» литературы.
Законы искусства, развитые Белинским на основе гегельянской эстетики, вместе с тем вполне оригинальны. Основные законы искусства – «бесцельность», «бессознательность», независимость от воли человека, закон типизации и характерности. Из закона свободы творчества, пишет критик, «основанной на непреложной необходимости», выходит «закон конкретности», «слияния идеи с формой» в конкретной, целостной («тоталите») образной идее. Целостная образная идея инстинктивно ощущается во «вдохновении», которое является принадлежностью природного «творческого дара», т. е. таланта. Белинский выдвигает применительно к творчеству понятия «бессознательный разум» и «сознательное чувство», характеризующие всю тонкость подходов к творчеству, когда есть возможность определить, «почему» имеется тот или иной результат, но остается тайной «самый процесс творчества», т. е. остается неразрешимым вопрос о том, «каким образом» создано произведение. В художественном произведении, с точки зрения критика, идея «всегда истинна, если вышла из души», явилась бессознательным выражением творящего духа.
По утверждению Белинского, русской литературе пока недостает подготовленной «почвы» для формирования законов творчества. История русской литературы, по его словам, пока лишь «каталог книг». Понятия «прогресс», «истинность», «самобытность» неприменимы к русской литературе. История науки, по мнению критика, должна входить в историю литературы. Образцом искусства он считает действительность, «природу», а благороднейшим предметом ее – человека, в том числе и «мужика» – представителя низшего сословия. В поэте Белинский видит прежде всего человека, затем «гражданина своей земли, сына своего времени». Талант дается от природы, равно как и «эстетическое чувство» восприятия прекрасного. Однако «эстетическое чувство» с помощью науки может возвыситься на степень «эстетического вкуса». Время поверхностной «литературщины», по мнению Белинского, проходит, и, начиная с третьего десятилетия XIX в. (с появления произведений Грибоедова и Пушкина), в России возникла «потребность искусства». К середине 1830-х годов завершается и «переходный» период (романтизм) в литературе и критике: возникает истинно художественная литература – реализм. «Идея искусства» появляется в России, полагает Белинский, не в науке, не в философии или эстетике, а в критикетретьего десятилетия XIX в. Речь идет о работах Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина, А.С. Пушкина и самого Белинского. Тем не менее это не означает, что критика была свободна от проблем эстетики. Напротив. Говоря о функциях критики, Белинский прежде всего указывает на ее эстетическую функцию, называя литературную критику «движущейся эстетикой» и тем самым подчеркивая динамизм теоретического аспекта русской литературной критики, которая мужала, научно оснащалась в процессе своего становления и эволюции. Критика «собирает данные» для науки и не только вбирает в себя законы изящного, но и затрагивает проблемы смежных наук, имеющих косвенное отношение к искусству. Белинский разграничивает понятия «критика» (цель которой – «высокая поверка фактов умозрением») и «полемика» (цель которой – «низшая – защита здравого смысла»). Полемикане брань, а рецензия, мнение о деятельности и характере, например, литературного журнала или литератора. Белинский указывает на «всеобщий» характер художественной литературы в России, обозначенный позднее Чернышевским как ее «энциклопедизм», синтетичность. Для России, утверждает Белинский, важна не только научная, но и образовательная функция критики, которая, по его словам, должна быть «гувернером общества», его воспитателем. Критика должна в популярном изложении доносить до читателя элементарные истиныпоэзии, морали, нравственности, соединяя в себе черты высшей, «трансцендентальной» немецкой критики и эмпирической («исторической») французской критики. Критика не выражение мнения частного лица, а «выражение господствующего мнения эпохи в лице ее представителей, которое есть результат прежде бывших мнений… опытов и наблюдений». Анализ «внутренних» законов «духа», характерный для немецкой философской критики, при этом дополняется приложением фактов биографии поэта, относящихся к «внешней» стороне критики. Анализ произведения состоит из двух актов: ученый сначала как бы отрывает идею от формы, проводит ее через все образы, а затем сочленяет идею и форму, убеждаясь в целостности произведения. Такой литературовед должен располагать «современными ему знаниями», «стоять наряду с веком». Как на один из аспектов критики и на ее дополнительную функцию Белинский указывает на необходимость «уяснения характеров отдельных лиц» произведения – задачу, решаемую «психологической» критикой. Белинский допускает возможность «личного вкуса» в критике, однако личный вкус не может быть «нормою для всех». Он не устает повторять мысль о необходимости нелицеприятных оценок и мнений, независимых от личных связей и симпатий; он против незаслуженного расхваливания и бездоказательных ниспровержений, «кумовства». Иначе говоря, для Белинского приемлемы только научные выводы «по убеждению», а не по какому-либо расчету. Как любая истинная наука, «критика есть сестра сомнению». Он решительно выступает против вкусовщины, бездоказательности, субъективизма в литературоведении. Поднимая литературную науку до уровня всеобъемлющего значения, Белинский называет литературную критику «интеллектуальным сознанием… общества».
Осенью 1839 г., с переездом в Петербург, начинается новый период в жизни и творчестве Белинского. Приглашенный в качестве ведущего критика в журнал «Отечественные записки» издателем журнала А.А. Краевским, он впервые получил в свое распоряжение трибуну – отдел критики одного из авторитетных столичных изданий.
Белинский работает очень много, откликаясь на все явления тогдашней российской литературной и общественной жизни, рецензирует публикации по всей отраслям знания.
В первые два года пребывания в Петербурге он находится под влиянием так называемых «примирительных» настроений, считая закономерным монархическое государственное устройство России, самодержавие. Эти настроения особенно ярко проявилось в его статьях «Бородинская годовщина…», «Очерки Бородинского сражения…», «Менцель, критик Гёте». Но уже в работах 1840 х – начала 1841 г. («Горе от ума…», «Герой нашего времени…», «Стихотворения Лермонтова») под влиянием петербургской действительности, бесед с Герценом критик постепенно начинает отходить от примирительных идей, принимая пафос «субъективности» художественного творчества и как возможность, и как данность (у Гоголя и Лермонтова). В 1841—1842 гг. Белинский пишет работы теоретико-литературного характера: «Разделение поэзии на роды и виды», «Общее значение слова литература», «Речь о критике». Традиционными для работ Белинского становятся его годовые обзоры литературы. В 1843—1846 гг. он пишет работу монографического характера о Пушкине, опубликованную в «Отечественных записках» как цикл из одиннадцати статей под названием «Сочинения Александра Пушкина». В работе дается развернутый очерк истории русской литературы до Пушкина, генезис и эволюция творчества Пушкина, утверждаются в качестве основных признаков его таланта гуманность и национальное своеобразие.
В начале 1840-х годов в ряде статей Белинский раскрывает значение творчества Гоголя как художника, реалистически изображающего российскую действительность, основоположника нового направления в литературе.
В жесткой полемике с Ф.В. Булгариным, О.П. Сенковским, С.Е. Шевыревым, К.С. Аксаковым, опираясь на творчество Гоголя, критик отстаивает мысль о закономерности возникновения реализмав русской литературе (статьи «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя», «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мертвые души”», «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”»). В 1841—1846 гг. Белинский пишет статьи о творчестве А.И. Полежаева, А.Н. Майкова, Г.Р. Державина, А.В. Кольцова, И.А. Крылова, Я.П. Полонского. Весной 1846 г. критик уходит из «Отечественных записок» ввиду резких расхождений во взглядах с издателем журнала. С начала 1847 г. и до конца жизни он публикуется в качестве ведущего теоретика и критика в журнале «Современник», приобретенном Некрасовым и Панаевым у Плетнева.
С середины 1840-х годов Белинский ведет систематическую борьбу против славянофилов и западников. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он подвергает критике и преувеличение национальной идеи славянофилами, и крайние формы западничества, имея в виду в данном случае концепцию исторического развития в работах В.Н. Майкова и К.Д. Кавелина. Критик утверждает мысль о необходимости опираться в отношениях между людьми на чувства любви, гуманизма, но не в отвлеченном их выражении (какое он видел у Майкова и Кавелина), а в конкретно-национальной форме. «Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения, – пишет Белинский. – В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики… Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому».
Склоняясь в 1840-е годы к материализму Фейербаха в философии, Белинский и в эстетике выдвинул материалистическую формулу сущности искусства как отражения жизни, положив ее в основу теоретической концепции натуральной школы. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», анализируя произведения писателей натуральной школы – А.И. Герцена, И.А. Гончарова, И.С Тургенева, В.И Даля, Д.В. Григоровича, Белинский не только выступает против «чистого», «абсолютного» искусства, но и против самой возможности такого искусства.
Это, однако, не противоречит мысли критика о том, что искусство должно развиваться по своим законам, отражая действительность не в понятиях, а в образах.
Широкое распространение в списках получило письмо Белинского к Гоголю в связи с выходом его «Выбранных мест из переписки с друзьями». Письмо показало, что взгляды великого русского писателя и великого русского критика на способы и пути развития России различались коренным образом. Один проповедовал терпимость, классовый мир, уважение к религии, другой призывал к активной общественной борьбе и был атеистом. Но многие ли сейчас знают или помнят о том, что в споре с Гоголем Белинский воспользовался именем Христа как мученика и спасителя людей в борьбе за свободу. «Но Христа-то зачем Вы примешали тут? – спрашивает он Гоголя. – Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». Как видно, не все просто в отношениях Белинского и Гоголя, и истории еще не раз придется возвращаться к их спору.
В 1850 – 1860-х годах критики и писатели радикально-демократического направления, возглавляемого Чернышевским и Добролюбовым, сосредоточились в журнале «Современник». Поэты-демократы этого направления группировались вокруг журнала «Искра», издаваемого В.С. Курочкиным и Н.А. Степановым.
Н.Г. Чернышевский(1828—1889). В философии Чернышевский был ранним русским материалистом, признававшим первичность материи, бытия и вторичность сознания; в общественных взглядах – социалистом-утопистом, мечтавшим о переходе к социализму через крестьянскую общину; по своим политическим убеждениям – радикальным демократом. Он был противником русского самодержавия и монархии вообще.
Взгляды Чернышевского на сущность искусства изложены им в работе «Эстетические отношения искусства к действительности».
С точки зрения материалиста Чернышевского, не «идея» прекрасного и вообще не прекрасное в искусстве, а прекрасное в природе, в жизни и сама эта жизнь являются мерилом и образцом прекрасного.
С точки зрения демократа Чернышевского, идеал искусства – в жизни народа. «Хорошая жизнь», «жизнь как она должна быть» у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: «жить без работы нельзя».
С точки зрения радикала Чернышевского, искусство должно содействовать преобразованию действительности в интересах народа.
Писателю или художнику отводилась при этом активная роль. «Существенное значение искусства» не только «воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности», не только объяснение действительности, но и вынесение «своего приговора» изображаемым явлениям, утверждал Чернышевский, ставя художественное творчество «в число нравственных деятельностей человека», т. е. рассматривая его как средство формирования духовного облика личности. Литературно-критические принципы Чернышевского находились в соответствии с его демократическим мировоззрением. Для него важно было не только определить место и значение литераторы в целом или отдельного ее явления, но и нацелить литературу на решение коренных общественных вопросов. Чернышевский писал: «Два важные принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие». Раскрывая содержание первого принципа, Чернышевский утверждал, что литература должна быть «служительницей того пли иного направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре, – назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться». Так Чернышевский проводит мысль о непосредственной связи литературы с жизнью общества в «Очерках гоголевского периода русской литературы».
Словом, первая задача аналитика – выяснить, в какой мере литература отвечает потребностям общества в ту или иную эпоху. При этом прежде всего следовало уяснить характер самих потребностей. Чернышевский очень четко определил главные цели «передового» общества своего времени: «У каждого века есть свое историческое дело…Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления… гуманность и забота об улучшении человеческой жизни».
Второй принцип – «положение» и «условия» развития литературы. Чернышевский не мог прямо сказать об ограничениях и трудностях, испытываемых русской литературой, находящейся под цензурным гнетом. Но его выводы ясны были тогдашнему читателю.
С этими положениями тесно связано требование историзма, соблюдения «закона исторической перспективы», по выражению Чернышевского. В соответствии с принципом историзма каждый предыдущий период развития служит приготовлением к следующему, более высокому. По «закону исторической перспективы» нельзя говорить о предмете, не имевшем исторической важности, «с такою же подробностью, как о тех… идеях, которые оказали сильное влияние на ход умственного развития». Научность литературного анализа должна заключаться, по словам критика, «в проведении… основного взгляда через все факты». Сам Чернышевский всегда настойчиво и последовательно проводил свои демократические взгляды через все анализируемые им литературные явления. Литературно-критические статьи Чернышевского имеют значение научных работ. Обобщение в них основывается на фактах, определявших литературные и жизненные процессы. Это придавало его работам убедительный, глубоко аргументированный характер.
Литературная и публицистическая деятельность Чернышевского, продолжавшаяся около десяти лет, в основном связана с некрасовским журналом «Современник», в котором сохранялись демократические литературные традиции, заложенные в 1840-х годах В.Г. Белинским. Именно в «Современнике» были опубликованы основные труды Чернышевского. Вся его легальная деятельность укладывается в рамках десятилетия – с 1853 по 1862 г. Чернышевский вошел в литературу человеком сформировавшимся, поэтому о развитии его взглядов и периодизации творчества можно говорить лишь условно, выделяя на первый план не столько этапы эволюции мировоззрения, сколько преобладающую направленность творчества, его ведущий признак, характерный для того или иного периода. В основу данной систематизации положены наиболее значительные труды Чернышевского. Так, для 1955 г., судя по содержанию его крупнейшего труда этих лет – «Эстетические отношения искусства к действительности», основной тенденцией явилась разработка и защита материалистических принципов искусства. Работа направлена против теории искусства немецкого философа-идеалиста Гегеля и его последователей в России (таких, например, как критик журнала «Библиотека для чтения» А.В. Дружинин), которые в качестве критерия красоты выдвинули отвлеченную «идею» прекрасного. Чернышевский производил в этой теории коренной переворот. «Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете – это жизнь. Как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль… была поставлена основной мыслью вместо фантастического отыскивания полноты проявляемой идеи!» – писал Чернышевский в своей работе, опровергая тезис «искусство для искусства» как противоречащий самой сущности искусства, порожденного жизнью и воспроизводившего жизнь в художественных образах.