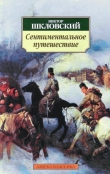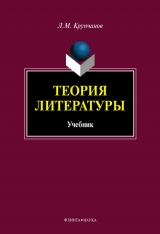
Текст книги "Теория литературы"
Автор книги: Леонид Крупчанов
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Последователями идей и методов культурно-исторической школы были многие русские ученые конца XIX – первой половины XX в.: А.А. Шахов, М.Н. Сперанский, Н.А. Котляревский, С.А. Венгеров, Н.К. Гудзий, П.Н. Сакулин, Е.А. Ляцкий, Е.И. Стороженко.
Психологическая школаВозникновение русской психологической школы связано с именем харьковского ученого А.А. Потебни(1835—1891), и в частности с его книгой «Мысль и язык», вышедшей в 1862 г. Благодаря деятельности ученых мифологической и культурно-исторической школ Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонравова, А.Н. Пыпина, к этому времени был подключен к активному изучению огромный фактический материал – памятники устного народного творчества и древнерусской литературы; осуществлен их анализ на текстологическом, биографическом, историческом уровнях; подготовлен выход литературной науки к проблемам внутренней специфики художественной литературы как вида словесного искусства. Потебня опирался на работы своих предшественников – русских ученых академического направления. Он цитирует Буслаева, Афанасьева, О. Миллера, Я. Гримма. Но наибольшее воздействие на Потебню оказали работы немецкого языковеда и эстетика В. Гумбольдта «О языке кави на острове Ява» (Введение), «О сравнительном изучении языков» и др. В них Гумбольдт связывал проблемы языка и мышления. Потебня в своей книге «Мысль и язык» дает оригинальную разработку этих проблем. Закономерности развития языкознания как науки через сравнительно-историческое языкознание к психологическому подтверждается самим Потебней, который пишет: «Прежде чем языкознание стало нуждаться в помощи психологии, оно должно было выработать мысль, что и язык имеет свою историю и что изучение его должно быть сравнением его настоящего с прошедшим… что историческое языкознание нераздельно со сравнительным».
Ставя своей задачей «внести причинный взгляд на душевную жизнь», т. е. определить специфику, закономерности бытия человеческой психики, Потебня утверждает, что переход «образа предмета в понятие о предмете, в… человеческую форму мысли может совершиться только посредством слова». «Посредством слов» осуществляется общение между людьми, взаимопонимание, более того, – понимание самих себя. Вслед за Гумбольдтом Потебня рассматривает язык как деятельность, движение, проявляющееся в живой речи, произведением которой являются результаты деятельности языка, «произведения» его – словарный состав, грамматика и мысль. Неразделимость объективного и субъективного в слове есть единство двух его противоположностей – речи и понимания. В слове возникает понятие, в понятиях развивается мышление. Несмотря на то что мысль отдельного человека возникает в слове, каждый человек, как сын своего народа и шире – человечества, способен понять других и даже самого себя, «только испытавши на других людях понятность своих слов», т. е. в общении.
Обнаруживая в слове единство мысли и образа, Потебня заключает, что «и слово есть искусство», искусство поэтическое. Ссылаясь на первичное восприятие значений слов в детских играх, он утверждает мысль о том, что слово – «первообраз и зародыш» не только «позднейшей поэзии», но и науки. Рассматривая вслед за Гумбольдтом язык как деятельность, как «орган мысли», Потебня тем самым переносит вопрос о происхождении языка в область психологии, полагая при этом недостаточными методы и выводы «логической» и «опытной» науки. Рассматривая в качестве «первичных» три «области душевной жизни» – разум, чувства и волю, Потебня исходной ступенью понимания считает чувство. В интеллекте нет ничего такого, что предварительно не проявилось бы в чувстве, полагает он. Результатом первичного общения «души» с «миром» становится впечатление о мире, или «представление», – понятие, центральное в учении Потебни. Память «удерживает и воспроизводит» «представления», фантазия группирует их, рассудок преобразует в понятия и суждения. При этом никаких других сил, управляющих «психо-механическим» процессом и определяющих его «законы», кроме «взаимодействия» самих этих восприятий («представлений»), Потебня не признает. В данном случае сами по себе слова для него не имеют значения, так как забывание или запоминание «представлений» определяется большим или меньшим «давлением», испытываемым «представлениями» в процессе их взаимодействия. «Это нисколько не противоречит опыту, – утверждает Потебня. – Представления восстают из глубины души, сцепляются и тянутся вереницами, слагаются в причудливые образы или в отвлеченные понятия, и все это совершается само собой, как восхождение и захождение светил, без того двигателя, который необходим для кукольного театра».
В дальнейшем, однако, Потебня вынужден был признать зависимость чувства от мысли, объясняя процесс перехода из чувств удовольствия или неудовольствия через чувства «стремления», «ожидания», «желания» к актам «воли», свершения. Содержание чувства, его специфика зависят от содержания «представлений». Эта специализация особенно ярко отмечается, по мнению Потебни, в эстетических и нравственных чувствах. Словесное выражение чувства возникает в звуке, который сам по себе связан с «представлением». Потебня строит свою концепцию об исходной образности слова на основе теории о трех формах, трех значениях практически каждого из слов в том или ином языке: 1) звук, служащий в слове «внешней формой»; 2) «содержание», т. е. понятие, выраженное в чувственном образе; 3) «внутренняя форма», т. е. «представление», «ближайшее этимологическое значение слова», – не образ самого предмета, а «образ образа». С понятием «внутренней формы» в слове как бы возникает дополнительная (эстетическая) функция. В слове столможет быть много конкретных чувственных значений, зависящих от функции, материала, величины, являющихся его субъективными признаками, но лишь один, общий для всех столов признак, зафиксированный в глаголе стлать, будет его «внутренней формой» (или «представлением»), «представляющей» все столы.
Рассматривая «представление», или «внутреннюю форму», как знак, «символ», «ближайшее этимологическое значение», «представляющее» человеку «его собственную мысль», Потебня предостерегает от ошибочности попыток отделить «внешнюю форму» (звук) от «внутренней формы» («представления»). Возможность понимания заложена в нераздельности «внешней» и «внутренней формы», в единстве звука и выраженного им этимологического значения («представления»). «Представляя» субъективную мысль («содержание»), «внутренняя форма» служит «указателем» этого содержания. В слове Потебня, таким образом, отмечает наличие двух содержаний: «Первое содержание есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли» («внутренняя форма»), второе содержание – выраженная «представлением» мысль.
Потебня распространяет предложенную им концепцию структурного состава слова на структурный состав произведения искусства. В литературном произведении, по словам Потебни, «образ относится к содержанию, как в слове представление к чувственному образу или понятию». Содержанию в произведении соответствует «идея»; к «образу, представлению содержания» (т. е. к «внутренней форме») относятся характеры и их отношения, события; к «внешней форме» относится не только звук, но и его значения, т. е. слово в его единстве. Разъясняя и уточняя данную концепцию, Потебня закрепляет за понятием «содержание» художественного произведения «ряд мыслей» автора, за понятием «внутренняя форма» – образный ряд, за понятием «внешняя форма» – словесно-речевой уровень. Этот подход Потебни к анализу литературного произведения оказался продуктивным и широко используется в литературоведческой критике. Потебня считает, что переход от чувственного образа (содержания) в слове к его «представлению» или символу («внутренняя форма») возможен только в форме сравнения. В слове «представление» и значение, таким образом, – два члена сравнения. Символика ассоциативности, заложенная в слове в форме скрытого сравнения, и является, согласно учению Потебни, источником эстетичности слова, как и словесного искусства, т. е. художественной литературы, в целом.
В словах всех языков Потебня отмечает процесс постепенной утраты поэтичности, эстетических качеств, так как словам всех языков свойственно стремление «стать только знаком мысли», освободиться от «внутренней формы», от «представления». Параллельно с потерей поэтичности идет процесс развития понятия, «сгущения мысли». Наглядное значение слов при этом забывается. «Степень поэтичности» языка зависит, по мнению Потебни, от количества «формальных», «прозаических» слов в языке, слов, лишившихся поэтичности. Эти слова переходят в «прозу», которая выступает у Потебни антиподом поэтичности. Проза характеризует особенно разговорную речь, где слова в основном – знаки значений. Прозаизация слов для Потебни – процесс психологический, зависит от мысли, возникающей в момент произнесения слова. Наглядное (эстетическое) значение может быть восстановлено посредством «эпических выражений», т. е. «постоянных сочетаний слов», указывающих на их «внутреннюю форму». Это особенно характерно для народной поэзии. В качестве примеров таких сочетаний Потебня приводит слова с постоянными эпитетами ( красна девица, ясная заря), где утраченная «внутренняя форма» восстановлена подключением чаще однокоренных слов. Потебня полагал, что можно в языке выйти на проблему «единства человеческой природы», если «возвести все слова к первой по времени внутренней и внешней форме». Эту задачу он считал «почти неисполнимой», оставляя, как видно, на отдаленную перспективу возможность ее решения. В своих работах «Мысль и язык», «Из лекций по теории словесности», «О некоторых символах в славянской народной поэзии» и других Потебня задолго до Э. Эннекена с его теорией «эсто-психологии» установил специфику связей между явлениями языка, психологии и искусства.
Психологическую школу в России представлял и другой ученый харьковской группы – лингвист и литературовед, ученик Потебни Д.Н. Овсянико-Куликовский(1853—1920). В своих работах «Очерки науки о языке», «К психологии понимания», «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве», в большом программном труде «История русской интеллигенции», а также в работах о русских классиках Овсянико-Куликовский поставил задачу создать систему художественно-психологических типов творческих талантов и типологию созданных русскими писателями образов-характеров.
Овсянико-Куликовский заостряет тезис Потебни: «Всякое понимание есть непонимание». Ссылаясь на известное поэтическое утверждение Ф.И. Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь» и подчеркивая тем самым языковую неадекватность мысли, он добавляет к этому идею о замкнутости, психической несовместимости людей: «Душа человеческая замкнута и непроницаема, ее содержание, включая сюда и мысль, не передается, не переносится от человека к человеку, взаимное понимание, даже при наилучших условиях, может быть только относительным…» Овсянико-Куликовский видит в понимании лишь иллюзию; он разграничивает сферу чувства и сферу мысли, утверждая, что чувство – процесс «окрашенный», а потому «эгоцентричный», мысль – процесс, в основном совершающийся «за порогом сознания», «бессознательный».
Процессы мышления осуществляются в подсознании автоматически. В бессознательной сфере, и тоже «автоматически», происходят речевые, языковые процессы. В этих двух уровнях человеческой психики действуют два «закона»: в «психике чувствующей», бессознательной – «закон забвения», в «психике мыслящей» – «закон памяти».
Овсянико-Куликовский, независимо от Фрейда, выходит на понятие «психической силы» (у Фрейда – Libido), которая накапливается и сберегается в абстрактных процессах мысли и расходуется в живой деятельности конкретных чувств. Чувства получают у него следующую классификацию: 1) органические (биологические) чувства(жажда, голод, половое чувство), 2) надорганические (любовь), 3) социальные (семейные, правовые, политические), 4) надсоциальные (религиозные и нравственные, т. е. творческие, социальное происхождение). Определяя параметры личности, Овсянико-Куликовский выделяет в ней черты, относящиеся к форме (национальные, классово-сословные, исторические, профессиональные), и черты, определяющие содержание личности («физиологический строй», темперамент, нравственность, воля, вкусы, стремления, характер). «Доличностная особь» не имела национальной, классовой принадлежности и лишь «с развитием общества», в процессе синтеза всех свойств человека возникает понятие личности. Итоговая формулировка, определяющая личность, включает у Овсянико-Куликовского в качестве основных психологический и социальный факторы: « Личность есть конечный результат психологической переработки индивида силами осложняющейся, прогрессирующей общественности».
Личность художника Овсянико-Куликовский не склонен резко отличать по типу мышления. Подобно Потебне, он видит различия между поэтом и ученым, скорее, в словоупотреблении и в специфике самого слова, которое, обладая свойством обобщать, как бы уже само по себе, своим лексическим содержанием выводит на «конкретные представления», либо на уровень «типичных образов (это путь искусства, кроме лирики)», либо на уровень абстрактных понятий («путь науки»). Типические образы в искусстве возникают как результат использования особых «приемов» «художественного мышления», при котором воссоздается не просто сумма черт характера человека, а их цельный психологический синтез. При этом раскрывается «душевный склад» человека в его глубинных чувствах и мыслях. Главное в художественном познании не суммирование, а « создание» через синтез «неразложенных образов данного человека» типического «душевного склада» личности. «Художественный строй» есть ряд воплощенных художественных образов, степень художественности которых зависит от уровня художественной типичности. И в обыденном сознании имеются «образные элементы мышления», которые могут переходить и в искусство.
Овсянико-Куликовский видит «два пути, ведущие к художественному познанию»: субъективный – только через «личный внутренний опыт», когда художник вживается в интимные черты изображаемого характера, и более редкий – объективный, при котором художник разгадывает характер изображаемого человека исключительно силой творческого воображения. «Художественный строй» не выступает при этом в качестве художественного метода, который у Овсянико-Куликовского “скорее” ближе к понятию художественного стиля, индивидуальной манеры. «Художественных методов столько же, сколько и художников», – пишет он. Тем не менее он группирует литературно-художественные таланты, выделяя «две формы художественного познания». Эти два типа, два начала воплотились, по его мнению, с одной стороны, в творчестве Пушкина, с другой – в творчестве Гоголя.
Каковы же специфические черты этих типов? Здесь Овсянико-Куликовский опирается на выдвинутую им всеобъемлющую концепцию специфики человеческого мышления, распространяемую им и на научное познание. Эти две универсальные формы познания – наблюдениеи опыт. Наблюдение и эксперимент дополняют друг друга, хотя они и разведены. Помимо Пушкина, к «наблюдательной» форме творчества Овсянико-Куликовский относит Тургенева, Лермонтова, Гончарова. Характер творчества в данном случае объективный, «неэгоцентрический», в отличие от субъективного, «эгоцентрического» творчества Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, которых он относит к писателям-«экспериментаторам». Данная классификация, предложенная Овсянико-Куликовским, не получила развития в литературоведении ввиду ее субъективизма. Однако труды его в целом представляют значительный вклад в развитие науки о художественной психологии. Представляют интерес и работы Овсянико-Куликовского, посвященные специальным литературоведческим проблемам. Такова, например, его статья «Лирика – как особый вид творчества».
Сравнительно-историческая школа(компаративизм)
Основоположник сравнительно-исторической школы – А.Н. Веселовский(1838—1906), европейски образованный ученый, академик, знаток славянских, немецкой, итальянской культур; вошел в науку в последней трети XIX в. В своих работах опирался на достижения мифологической школы Я. Гримма и своего учителя Ф.И. Буслаева, на труды ученых культурно-исторической школы Н.С. Тихонравова и А.Н. Пыпина, а также на работы представителей психологической школы А.А. Потебни и Д.Н. Овсянико-Куликовского. Ранние работы Веселовского, включая в себя методологические посылки культурно-исторической системы (широкий общеисторический охват материала), уже характеризовались интересом к проблемам сравнительно-исторического изучения культур. Таковы его «Вилла Альберти» (1870) и «Славянское сказание о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» (1872). «Вилла Альберти» – вариант магистерской диссертации Веселовского. Имеются свидетельства того, что еще до выхода Предисловия Т. Бенфея к немецкому переводу древнеиндийского эпоса «Панчатантра» (1859), где была изложена идея заимствования, Веселовский уже рассматривал иные, более основательные возможности изучения литературы. Еще в период пребывания в Европе, а затем в лекциях он намечает контуры своего метода изучения литературы (лекция 1870 г. «О методе и задачах истории литературы как науки»). Следует вместе с тем отметить, что относительную завершенность проблемы исторической поэтики получили в работах Веселовского, опубликованных в конце ХIХ – начале XX в. Так, работа «Из введения в историческую поэтику» опубликована в 1893 г., «Эпические повторения как хронологический момент» – в 1897 г., «Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» – в 1898 г., «Три главы из исторической поэтики» – в 1898 г., а «Поэтика сюжетов» – лишь во втором томе Собрания сочинений Веселовского, издававшегося в 1908—1938 гг. Из других работ Веселовского могут быть названы «Опыты по истории развития христианской легенды» (1875—1877), «Разыскания в области русских духовных стихов» (1879—1891), «Южно-русские былины» (в двух томах, соответственно 1881 и 1884 гг.), «Из истории романа и повести» (два тома, соответственно 1886 и 1888 гг.), «Из истории эпитета» (1895). К этому времени были широко известны не только работа Бенфея, но также и работа Э. Тейлора «Первобытная культура» (1871), где была заложена идея самозарождения, труды И. Тэна «Философия искусства» (1865), «Об уме и познании» (1870), Д.Н. Овсянико-Куликовского, А.А. Потебни, В. Гумбольдта. Это не только не умаляет оригинальности литературно-эстетических концепций Александра Николаевича Веселовского, но, напротив, позволяет рассматривать их как высшее достижение не только русской, но и европейской филологической науки в целом.
«Историческая поэтика» Веселовского вобрала в себя, переработала, придала ускорение многим продуктивным направлениям гуманитарных наук прежних эпох и открыла новые научные горизонты. Научное лидерство Веселовского было сразу же, с появлением его первых работ, признано не только его современниками-учеными, но и старшим поколением ученых (А.Н. Пыпиным, Н.С. Тихонравовым), в том числе и его учителем Ф.И. Буслаевым. Сравнительное изучение явлений культуры к концу XIX в. получило широкое распространение в Европе и в России в различных областях и сферах. Начатое Я. Гриммом и Ф.И. Буслаевым на уровне народно-поэтической мифологии, сравнительное изучение позволило утвердить в качестве научного генетический принцип сравнения, отыскания сходства или различия явлений на основе общности их предка. Ф.И. Буслаев, опираясь на идеи сравнительного языкознания, «путем генетическим», старался объяснить «низшую», «мифологическую ступень в языке», «генеалогию» «корней и слов» «первоначальным их значением», а в литературе ставил задачей выход на «древнейшее предание». Веселовский учитывает этот способ сравнительного изучения, предложенный его учителем, сохраняя понятие «предания» для обозначения продуктов коллективного творчества в противовес творчеству «личному», индивидуальному. Теория заимствования Бенфея объясняла сходство близких, рядоположенных явлений, но не годилась, с точки зрения Веселовского, для изучения проблем возникновения и генезиса родовых литературных категорий. Возможности взаимовлияния литератур ограничены к тому же, как полагает Веселовский, определенным уровнем их «внутреннего» соответствия. Теорию миграции, «переселения» сюжетов он также ограничивает, распространяя ее лишь на простейшие сюжеты, не закрепившиеся в прочные «схемы». Ближе всего Веселовскому концепция самозарождения, выдвинутая Тейлором, хотя и она целиком не определяет его научный метод. Возникновение или сходство литературных явлений выступает в этом случае как «продукт равномерного психического развития, приводившего там и здесь к выражению в одних и тех же формах одного и того же содержания». Сходство же сложных разноплеменных мотивов, по мнению Веселовского, трудно объяснить «психологическим самозарождением». Здесь может идти речь о заимствовании.
На первый взгляд может показаться, что Веселовский концепцию самозарождения связывает только с психологическими («психическими») процессами. Сходство на уровне самозарождения возникает, по мысли Веселовского, в широком взаимодействии факторов быта, мифов, преданий в «результате исторического процесса». «Предание – это будто бы перепутье от истории к эпосу, устное органическое развитие исторического факта», – поясняет он. «Историческую народность и ее творчество» Веселовский рассматривает как «комплекс влияний, веяний и скрещиваний», «комбинации» устойчивых мотивов в новых исторических условиях. Что касается историко-психологического фактора развития, то он приобретает у Веселовского самостоятельное значение. Специфика народной психологии учитывалась им при изучении литературных мотивов и образов. Вслед за Буслаевым, изучавшим сравнения в форме параллелизмов, Веселовский создает учение о психологическом параллелизме как способе выражения отношений субъекта и объекта в их «волевой жизнедеятельности». При этом речь идет «не о сравнении», где соотносимые явления воспринимаются как раздельные, и не об «отождествлении человеческой жизни с природною», «а о сопоставлении по признаку действия, движения» (например: дерево сгибается, девушка кланяется). Накопленный «сложный комплекс» сходных признаков вызывал «вереницу сопоставлений», характерных для определенного национального типа восприятия, «спроса познавания». По мере исторического развития в дальнейшем у человека возникают «все новые аналогии» явлений окружающей действительности «с его внутренним миром» на основе «параллелизма-сопоставления». Веселовский разрабатывает систему параллелизмов, зависящих от количества и особенностей сопоставляемых явлений («мотивов»): одночленный (метафора), двучленный, многочленный, отрицательный параллелизмы. Помимо этого, он рассматривает своеобразие «формального» и «ритмического» праллелизмов. Психологический параллелизм Веселовский отличает от умозрительных, «психологически-отвлеченных», «банальных» подходов, построенных на отдельных «психологических и эстетических посылках», а не «на идее развития в широкой исторической перспективе».
Столь же отвлеченной, неприемлемой для себя считает Веселовский и идею «чистого искусства», «чистой красоты», которую он склонен связывать с преувеличением значения индивидуального («личного») вклада писателя в творчество, восходящего к эстетике Гегеля. В идеале Веселовскому близка неосуществленная поэтика В. Шерера, «построенная на массовом сравнении фактов, взятых на всех путях и во всех сферах поэтического развития». Ошибки в выводах исторического анализа основаны, по мнению ученого, на «неполноте» обобщений, т. е. на недостатках научного метода. Понятие причины и следствия Веселовский прежде всего распространяет «на ближайшие из смежных фактов». В новых «параллельных» рядах возникают и новые причинные связи. «Чем более таких проверочных повторений, тем более вероятия, что полученное обобщение подойдет к точности закона», – полагает Веселовский. Изучая эпоху, следует учитывать как крупные, так и мелкие факторы, сравнивая «разные группы фактов» и «взаимно» проверяя «несколько рядов выводов». «Восходя далее и далее, вы придете к последнему, самому полному обобщению, которое, в сущности, и выразит ваш конечный взгляд на изучаемую область. Если вы вздумаете изобразить ее, этот взгляд сообщит ей естественную окраску и цельность организма. Это обобщение можно назвать научным», – пишет Веселовский. Народно-исторические предания, психологические мотивы обобщались, по Веселовскому, в соответствующих «типах», устойчивых национально-исторических структурах, которые могли возникать в результате «механической работы народного предания», оформляясь в песенные, обрядово-ритуальные и другие «циклы». Формы обобщения обозначаются у Веселовского по-разному. Применительно к обобщению на уровне образно-речевого стиля он употребляет термин «формула», в котором также фиксируется определенная степень устойчивости. Так, требование «народного самосознания» у сарацин выражалось в типической «народно-песенной психологии и ритмике», а «стилистический прием» отрицательного одночленного параллелизма характеризовал «особый, элегический склад славянского лиризма». Стилевые «формулы» возникали на основе исконной «стилистики языка», отмеченной Потебней. У Веселовского эта символика выступает как «результат психологического процесса» и фиксируется в жестких, хотя и «условных» образно-психологических и речевых обобщениях: «формула желания», «формула пожелания», «формула невозможности», «формула ключа к сердцу», «формула птички в клетке» и т. д. «Формулы-сюжеты» Веселовский называет «схемами», наиболее устойчивыми типами обобщений. Теория сюжета изложена Веселовским в отдельном разделе – «Поэтика сюжетов». Сюжет у Веселовского основан на «мотиве», «простейшей повествовательной единице, образно ответившей на разные вопросы первобытного ума или бытового наблюдения», «одночленной», неразложимой «формуле» (в сказке, мифе), в которой природа открывается человеку, общественности. Таков, например, мотив похищения невесты. Сходные мотивы могут зарождаться в «разноплеменных средах» независимо от влияний, вполне самостоятельно. К мотиву «приращиваются» новые единицы (особенно во второй части мотива: невеста могла быть заколдована и т. д.), образуя сюжеты – «сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности». Таким образом, сюжет – это «комбинация мотивов», даже – «тема», синтезирующая «положения-мотивы». Мотивы и сюжеты, по словам Веселовского, «входят в оборот истории», образуя «обязательный стилистический словарь», которым «орудует» поэт. Личный вклад в творческий процесс, или «личный почин», как называет его ученый, сводится, таким образом, до минимума. Возникновение искусства в трех его родовых категориях – эпосе, лирике и драме – Веселовский связывает с коллективным, синкретическим началом, в котором были синтезированы хор, игра, пляска, обряд, действо, сказ, диалог, миф. С увеличением удельного веса личности запевала в хоре постепенно трансформируется в поэта.
В исторической поэтике Веселовский видел две задачи:
1) определить «законы поэтического творчества» и «критерии для оценки его явлений» не из «господствующих» «отвлеченных определений», а «из исторической эволюции поэзии»;
2) определить поэзию «со стороны объекта и психологического процесса» на материалах языка, образов, мотивов, типов, сюжетов.
С этой точки зрения современная Веселовскому художественная литература фотографична, так как не содержит того самого «лишка», который, по его мнению, и отличает искусство от фотографии. Эстетическое он рассматривает как условное изображение предметного мира в типической цельности, центром которой является личность, синтезирующая «ряды ассоциаций» по их смежности. Таким образом, и специфику творчества Веселовский рассматривает в широком контексте взаимосвязей и ассоциаций. Столь же широкое определение Веселовский дает и истории литературы, сближая ее с историей культуры. «История литературы в широком смысле этого слова, – пишет он, – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом». В этой системе историческая поэтика Веселовского выступает как методология истории литературы.
Сравнительно-историческую методологию развивали и другие ученые-литературоведы в России. Так, широкую известность получили многочисленные работы по русской и особенно западноевропейской литературе брата Александра Николаевича – академика Алексея Николаевича Веселовского. Целый ряд изданий, в частности, выдержала его известная работа «Западное влияние в новой русской литературе» (1883).