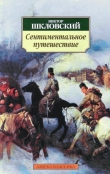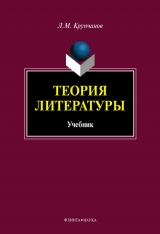
Текст книги "Теория литературы"
Автор книги: Леонид Крупчанов
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Филологическая школа обозначилась в России своими литературоведческими подходами еще во второй половине XIX в., но значение и название метода получила лишь к середине следующего столетия.
Занимаясь проблемами методологии литературоведческих исследований, академик А.Н. Пыпин указал на необходимость всестороннего, широкого подхода к изучению литературных явлений, который он назвал «филологическим». Этот подход Пыпин и продемонстрировал в своих статьях и четырехтомной «Истории русской литературы», привлекая к изучению факты общественной и культурной истории, сопутствующие литературе. По мнению Пыпина, «филологический» метод характерен для всех наук и существенно дополняет элементарный статистический подход, вырастая до определенной научной системы. А.Л. Гришунин включает филологический метод в систему других постстатистических подходов, называя их «вспомогательными дисциплинами» (см.: Русская наука о литературе в конце XIX – начале XX в. М.: Наука, 1982), и приводит примеры исследований филологического метода, в которых он называется «документально-биографическим», «библиографическим», «археографическим», «историко-фактическим».
Необходимость качественного издания вновь открытых литературных памятников и академических выпусков произведений современных писателей потребовала тщательной работы над текстами. Из «филологических» трудов выросла текстология – техническая наука со своими принципами и приемами. Основоположники культурно-исторической школы академики А.Н. Пыпин и Н.С. Тихонравов придали текстологии значение первичного фактора научности. Текстология являлась составным элементом филологической школы.
Выдвигая свои принципы широкого, филологического изучения литературы, Пыпин опирался на труды немецкого ученого Г. Пауля(1846—1921), прежде всего на его «Grundriss der germanischen Philologie» («Источники германской филологии»), где предлагается широкий, филологический подход к изучению литературных явлений. На базе глубокого текстологического изучения источников строят свои работы академик Н.С. Тихонравов и другие представители культурно-исторической школы.
Филологический подход наиболее ярко проявился в работах академика В.Н. Перетца(1870—1935). Он не отклоняет традиционных принципов анализа (в том числе стилевого и сравнительно-исторического) содержания и формы литературного произведения, но применяет их на втором этапе. На первом же этапе анализа у него – приемы, которые он называет «копанием на черном дне литературы», подразумевая под этим работу над текстом. Для Перетца прежде всего важен состав произведения, его подлинность, которую он считает обязательным доказать, как и авторство. К числу важнейших задач изучения он относит уточнение датировки создания произведения, его вариантов и родственные по жанру памятники.
Именно начиная с работ Перетца критика текста становится обязательной при подготовке к изданию литературных произведений. Проблемам принципов изучения литературы посвящена его книга «Из лекций по методологии истории русской литературы: история изучений. Методы. Источники» (Киев, 1914). Кроме того, Перетц – автор целого ряда других литературоведческих исследований, в их числе «Историко-литературные исследования и материалы. (Т. III. Из истории русской поэзии XVIII в. СПб., 1902); «Исследования и материалы по истории украинской литературы XV—XVIII вв.» (М.–Л., Изд-во АН СССР, 1962).
Второй этап изучения для Перетца – исследование проблемы за пределами текста: сравнительно-исторический анализ формы и содержания, стилевого своеобразия, композиции, симпатии и антипатии писателя. С этой точки зрения характерна его статья «О некоторых основных настроениях русской литературы в ее историческом развитии» (Университетские известия. Киев. 1903. № 10). У В.Н. Перетца – целый ряд работ по вопросам древней русской литературы, археографии, театру, в которых умело сочетаются конкретный (внутренний) и широкий (эстетический) анализ литературных явлений, который теперь мы называем филологическим.
Мифологическая школаОдна из ранних литературоведческих систем академического направления в России. Миф представляет собой вымышленное предание, результат коллективного общенационального творчества, в котором явления природы переносятся на жизнь человека. Мифология возникает и существует в форме образов языческого (дохристианского), христианского, постхристианского коллективного мышления народа, а в литературе связана с романтизмом, повсеместно установившимся в европейских странах в конце XVIII – начале XIX столетия. В это время широкое распространение получила мифология Древней Греции и Древнего Рима.
Принципы и приемы мифологической школы заложены в трудах немецких ученых – братьев Я. Гримма(1785—1865) и В. Гримма(1786—1859), стоявших у истоков немецкой литературоведческой науки. Особенно активен в этом отношении был Якоб Гримм, который собирал и издавал различные предания европейских народов, в том числе славянских. В 1812 г. братья Гримм издают свое знаменитое собрание «Сказок», а в 1819 г. Якоб Гримм начинает издавать многотомную «Немецкую грамматику», в которой взамен логического принципа он предложил исторический принцип преподавания и изучения языка.
В 1835 г. Якоб Гримм издает монографию «Немецкая мифология», в которой выводит из мифа все жанры народного творчества – былины, сказки, песни, легенды.
В России принципы сравнительно-мифологического изучения языка, вслед за Я. Гриммом, предложил Ф.И. Буслаев(1818—1897), известный российский филолог, основоположник русской мифологической школы, академик Петербургской Академии наук, профессор Московского университета.
Буслаева привлекает учение Я. Гримма о языке как носителе форм национального мышления, восходящих к древним преданиям и мифам. Работая преподавателем русского языка в гимназиях, в Московском университете, Буслаев создает сравнительно-мифологическую систему изучения и преподавания языка, которую демонстрирует в фундаментальном труде «Очерки преподавания отечественного языка», опубликованном в 1844 г. Принципы исторического изучения языка предлагаются Буслаевым и в работе «О влиянии христианства на русский язык. Опыт истории языка по Остромирову евангелию», опубликованной в 1848 г. по материалам его магистерской диссертации.
Как и Я. Гримм, Буслаев считает, что смысловые и поэтические формы языка восходят в своих истоках к заложенному в мифе первичному преданию. Расшифровав с помощью сравнительно-исторического метода изучения значение мифа, можно выйти и к образу. Буслаев занимается как бы языковой археологией: посредством сравнительной мифологии он осуществляет реконструкцию языковых источников, как бы восстанавливая их исконное значение. Значение это заложено в мифе. Система мифов, связанная с устным народным творчеством, в свою очередь, восходит к народному мышлению и выступает как результат его коллективного творчества. Как видно, мифологическая система Я. Гримма – Буслаева выстроена на трех уровнях: миф – язык – поэзия. Народная поэзия, по Буслаеву, тесно связана с языком. Буслаев активно работает в рамках языческой и христианской мифологии. В 1858 г. он издает «Опыт исторической грамматики русского языка», в 1861 г. – «Историческую грамматику церковно-славянского и древнерусского языков» и два тома «Исторических очерков русской народной словесности и искусства». Возникает в филологической науке «Буслаевская школа» сравнительной мифологии, к выводам которой проявили интерес крупные русские ученые – Н.С. Тихонравов, А.Н. Пыпин, С.П. Шевырев и др. Буслаев занимается проблемами литературы, особенно народного творчества, его символикой. Он разрабатывает проблемы жанров народного эпоса, в частности исторического рассказа, сказки. Он предлагает свою классификацию народного эпоса, разграничивая жанры теогонического и героического эпоса. Исследуя с помощью мифологической системы памятники литературы, он достигает больших успехов в восстановлении текстов, объяснении их поэтических значений.
Многое из работ Буслаева приобрело для современников значение глубоких открытий. Мифосистема Буслаева оказалась особенно адекватной в применении к памятникам древности, немалая часть которых была им открыта заново. Увлеченный своими успехами в мифоанализе, Буслаев готов был распространить свой метод на изучение современной ему художественной литературы. Экспериментируя в этимологической сфере языка, он как бы невольно ограничивал себя рамками формы с ее неизбежной односторонностью и субъективизмом. Он ищет возможность возвести значения слов к общему индоевропейскому языку. Имена героев русских былин Буслаев связывает с мифами, обозначающими реки. Дунай у него – символ великана.
Последователем Буслаева, продолжателем традиции мифологической школы в России явился его младший современник А.Н. Афанасьев(1826—1871).
В отличие от Буслаева, Афанасьев не достиг никаких ученых степеней, хотя и закончил Московский университет по юридическому факультету. Он занимал незначительные чиновничьи посты и печатался в различных журналах совсем не по юридической специальности, а по истории России и фольклористике. Проблемы народного творчества стали делом всей жизни Афанасьева. Он увлечен идеями сравнительной мифологии Буслаева. В 1850 – 1860-х годах он публикует статьи «Ведун и ведьма», «Колдовство на Руси в старину», «Зооморфические божества у славян: птица, конь, бык, корова, змея и волк». А в период с 1855 по 1863 г. по типу Я. Гримма Афанасьев издал в восьми томах собрание «Народных русских сказок», принесшее ему широкую известность.
Методологические принципы исследования произведений народного творчества представлены им в монографическом трехтомном труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1865—1869). Подобно Я. Гримму и Буслаеву, Афанасьев источником народного творчества считает миф. Но, в отличие от Буслаева, он не считает необходимым исследовать в деталях эволюцию от мифа через язык к образу: он принимает как данность мифологическую теорию и занимается сам мифотворчеством, обычно на уровне мифологических образов. Он воссоздает значение мифа не на основе этимологических разысканий, как это было у Буслаева, а посредством сближения и растворения религиозного ядра мифа в конкретном историческом событии или образе народного героя. Афанасьев возводил индоевропейские мифы в основном к арийским источникам.
В 1860-х годах сравнительно-лингвистический метод Я. Гримма – Буслаева осложняется у Афанасьева так называемой «метеорологической» («небесной») теорией мифа, выдвинутой немецкими учеными А. Куном, В. Шварцем и английским ученым М. Мюллером. Работа Мюллера, опубликованная в России в 1863 г., называлась, подобно афанасьевской, «Поэтические воззрения на природу греков, римлян и немцев в их отношении к мифологии». Современные мифы, по мнению Мюллера, принятому и Афанасьевым, явились результатом замены утраченного первоначального, древнейшего значения слова каким-либо явлением природы. У Афанасьева это были «небесные» явления: тучи, гром, дождь, облака, солнце. Стада арийских пастухов олицетворяются у него с дождевыми облаками, могучим Громовником. В работах Афанасьева зарождается русская демонология. Он олицетворяет Соловья-разбойника с демоном грозовой тучи, а богатырь Илья Муромец, идущий на борьбу со змеем, выступает как демонический посланец холодных облаков. Пушкинский Балда представлен у Афанасьева Богом-Громовником. Современники критиковали эти фантастические трактовки Афанасьевым значения мифов: субъективизм в анализе им образов народного творчества отмечали А.Н. Пыпин, Н.А. Добролюбов, Н.А. Котляревский, А.Н. Веселовский. Но при этом критики видели в работах Афанасьева огромную эрудицию, высоко ценили массу привлеченных им к изучению материалов народного творчества.
Афанасьев не только сохранил в своих мифах, но и приумножил высокий нравственный смысл русских былин, легенд, сказок. Он опубликовал целый ряд статей по вопросам истории русской литературы: о творчестве Кантемира, Новикова, Фонвизина, Пушкина, Батюшкова. В 1859 г. выпустил сборник «Народные русские легенды».
Концепции мифологической школы разделяли многие русские ученые, в том числе О.Ф. Миллер, Н.А. Котляревский. Под влиянием мифологов в первой половине XIX в. в России находились А.Н. Пыпин, А.А. Потебня, А.Н. Веселовский. Теория Я. Гримма – Буслаева давала положительные результаты, особенно при анализе памятников русской старины. Однако очень быстро была отмечена ее ограниченность, особенно при изучении произведений современных авторов. Не всегда она давала достоверные ответы и на вопросы об исторических источниках литературных явлений старины. К тому же во второй половине XIX в. стали выходить работы ученых сравнительно-исторической школы, выдвинувших теорию заимствования. И для самого Буслаева, с появлением работ А.Н. Веселовского, основоположника русской компаративистики, стала видна ограниченность мифологического метода. Это можно отметить в его работах «Сравнительное изучение народного быта и поэзии» (1872) и «Странствующие повести и рассказы» (1874).
Современник Буслаева и Афанасьева В.И. Даль определяет миф в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» более широко, связывая его с действием и типом человеческой личности. «Миф, – говорится в словаре, – происшествие или человек баснословный, небывалый, сказочный». И дополнительное определение: «иносказание в лицах, вошедшее в поверье». Даль видит в мифе перелицованную драму.
Миф и мифология продолжают интересовать ученых и в дальнейшем. Почти столетие спустя после Буслаева в работе «Диалектика мифа» А.Ф. Лосев дает мифу такое определение: «Миф есть в словах данная чудесная личностная история». От Буслаева здесь почти ничего не осталось. Этимологическая основа исследования исчезла: «в словах данная» – это лишь способ фиксации, форма. Лосев ближе к Далю. В центре у него – «история» («происшествие»). Далее: у Лосева – «чудесная», у Даля – «небывалая», «баснословная». Но самое главное: Лосев лишает буслаевско-гриммовский миф его источника – коллективного автора. Для Лосева миф не результат коллективного мышления народа, народного творчества, а история – «личностная», т. е. индивидуальная. А здесь возможно двоякое истолкование природы мифа: миф как личное восприятие чуда и миф как личное сотворение мифа, т. е. мифотворчество. Таким образом, Лосев как бы дает мифу вторую жизнь, создает новую науку – мифопоэтику. Мифопоэтическое своеобразие с тем или иным успехом теперь рассматривается на уровне индивидуального стиля писателя.
Культурно-историческая школаВ литературоведении понятием «культурно-историческая школа» покрывается многочисленная, разветвленная, продолжительная во времени совокупность общественно-литературных явлений, включающая в себя большое количество имен и трудов.
Терминологию, принятую в литературоведении для характеристики своеобразия форм академической науки (в том числе и культурно-исторической школы), нельзя считать устоявшейся. Термин «школа» характеризует как систему, так и группу ученых, ее разрабатывавших. Наряду с термином «школа» содержание академических научных систем определяется понятиями «метод», «направление», «течение», «способ», «теория». Такое обилие взаимозаменяемых терминов свидетельствует о широте содержания, вкладываемого в эти понятия самими представителями академической науки.
Возникновение в России культурно-исторической школы как системы взглядов относится к середине 1840-х годов и обусловлено целым рядом факторов, характеризовавших особенности развития общественной мысли в Европе и в России. При этом следует разграничить факторы, относящиеся к общим предпосылкам, тенденциям в историческом развитии, истокам системы, и факторы, непосредственно обусловившие появление культурно-исторической школы. Важно учесть и то, как сами представители культурно-исторической школы в России представляют свою родословную. Они рассматривают исторический процесс в рамках просветительской демократии и, принимая в расчет национальные, социальные, исторические, культурные и литературные традиции, обозначают свою систему как «народознание», «народоведение». Ранее всего российские представители культурно-исторической школы обнаруживают «народоведческие» тенденции в трудах Ж.Ж. Руссо («Об общественном договоре…», «О воспитании…»), а также в его художественных произведениях. Имеется в виду ориентация Руссо на народную культуру, ее национальные истоки, на новые, сентименталистские, принципы в художественном творчестве. К «дальним» предпосылкам школы относятся работы И.Г. Гердера, «И еще одна философия истории человечества», «Письма для поощрения гуманности», «Дневник моего путешествия» так же хорошо известные в России, как и работы Руссо. В этих работах предлагается «естественно»-научный принцип истории как своеобразия развития народов, провозглашаются идеи гуманизма. Один из основоположников движения «Буря и натиск» в Германии, Гердер выступает провозвестником романтизма, решительным противником рационалистического, нормативного искусства классицизма. Но наиболее значимый шаг Гердера по пути к «народоведческой» системе ученые российской культурно-исторической школы видят в его практической деятельности по собиранию памятников немецкого и славянского фольклора и древней литературы.
Как видно, этапы движения общественной мысли к культурно-исторической системе связаны с эволюцией европейской цивилизации вообще. Это характерно и для немецкой классической философии Фихте, Канта, Шеллинга, Гегеля, влияние которой признается как сторонниками, так и противниками культурно-исторической методологии, в зависимости от того, что импонировало или соответствовало их взглядам. У немецких идеалистов в культурно-исторической школе импонировало критическое отношение к «метафизике» и «ложному» классицизму. Влияние на культурно-историческую школу философского позитивизма О. Конта, Литтре, Милля, несколько преувеличенное в некоторых работах отечественных литературоведов, состояло более в стихийном тяготении русских ученых к «опытной», фактологической методологии позитивистов (в противовес «эстетическому» подходу), чем в теоретических воззрениях.
Ближе культурно-исторической школе искусствоведческий позитивизм И. Тэна, отразившийся в его работе «Философия искусства». Для русских ученых более приемлемы социально-исторические концепции искусства Тэна, который связывал характер искусства с условиями жизни народа, с его психологией. Учение Тэна о« расе», « среде» и« моменте» – трех факторах, якобы определяющих судьбы и специфику художественного творчества, – не абсолютизируется в России. В противовес положению Тэна о «неизменном» национальном характере выдвигается идея эволюции «культурного типа» нации. Идя за Тэном, ученые российской культурно-исторической школы вводят в гуманитарные науки понятие закономерности исторического развития, строгой зависимости между фактом, причиной и следствием.
Собирательская и просветительская деятельность российских ученых, осуществлявшаяся в XVIII – первой трети XIX в. параллельно процессам в западноевропейской науке, также может быть отнесена к общекультурным предпосылкам культурно-исторической школы. В XVIII в. это собирательская, источниковедческая, библиографическая и издательская деятельность И. Прача, М.Д. Чулкова, Н.И. Новикова, П.И. Рычкова, В.В. Крестинина, В.Н. Татищева; в XIX в. – работы Ф.Г. Баузе, Е.А. Болховитинова, Р.Ф. Тимковского, К.Ф. Калайдовича, П. М. Строева, А.Х. Востокова, И.М. Снегирева, И.П. Сахарова, первых историков литературы – Н.И. Греча, В.Т. Плаксива, И.В. Киреевского, П.Е. Георгиевского и др.
Факторы, определявшие развитие литературы и литературной науки, выстраиваются учеными культурно-исторической школы в один ряд, как бы различны они ни были. Это религия, философия, нравы, обычаи, история, местность, язык. Здесь обнаруживается однопорядковость, однолинейность в системе аргументации, что является особенностью историко-литературной методологии культурно-исторической школы.
К началу 1840-х годов в трудах русских ученых были подготовлены условия и заложены основы культурно-исторической школы. Ее предпосылки оказывались общими с целым рядом других наук. Историко-литературные изыскания включались в эту науку как составная, но далеко не ведущая часть. Она лишь дополняла многочисленные направления историко-культурных исследований.
В работах русских ученых этого периода намечается процесс соединения общекультурного принципа изучения с общеисторическим. Российская наука выходила на оригинальные творческие решения. В 1844 г. вышла работа Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка», в которой автор, учитывая труды Я. Гримма, заложил основы сравнительно-исторического языкознания и сравнительной мифологии. Он обратился к восстановлению, посредством исторической реконструкции, памятников фольклора и древнерусской литературы. Работу Буслаева следует считать уже непосредственной предпосылкой культурно-исторической школы в России. Исторический принцип изучения был в ней основополагающим.
Первым по времени представителем культурно-исторической школы ученики и последователи назвали профессора словесности Московского университета С.П. Шевырева (1806—1864) с его «Историей русской словесности, преимущественно древней» (1846), представляющей собой цикл его университетских лекций. В ней Шевырев первым из ученых-литературоведов обратился к рассмотрению русской литературы в историческом аспекте. Принцип историзма, положенный им в основу указанной работы, явился несомненной заслугой Шевырева, хотя при этом он идеализировал религию и некоторые формы жизни Древней Руси, сближаясь в этом отношении с официальной идеологией и славянофильством.
Один из классических выразителей идей культурно-исторической школы, ее московской ветви, – ученик и последователь Шевырева, а впоследствии ректор Московского университета академик Н.С. Тихонравов(1832—1893). Его работы («Задачи истории литературы и методы ее изучения», «Памятники отечественной литературы», «Русские драматические сочинения (1672—1725)», о житиях, о «Слове о полку Игореве», о протопопе Аввакуме, Гоголе, Ростопчине, «Летописи русской литературы и древности» и др.) составили трехтомное собрание сочинений. В трудах Тихонравова представлены основные принципы культурно-исторического метода изучения литературных явлений: изучение творчества всех писателей, а не отдельных представителей того или иного периода развития литературы; изучение всех, а не только выдающихся в художественном отношении произведений; исторический анализ литературы вместо (а не в дополнение) эстетического анализа; изучение исторических взаимосвязей литературных явлений в процессе непрерывного эволюционного пути развития («без скачков»); уяснение роли и значения литературного явления в умственном и нравственном развитии общества; конечная цель всякого исследования – определение вклада в развитие народного самосознания, внесенного тем или иным литературным явлением.
В связи с этими принципами исследования Тихонравов выдвигает и соответствующие приемы, сгруппированные им в два цикла: начальный, малый, цикл научного изучения литературного явления, который можно было бы назвать техническим уровнем. И второй цикл изучения, собственно исторический, включающий исследование «отношений литературного факта к действительности, различные отражения его в последующие периоды; особенности стиля и языка». В результате такого всестороннего изучения литературного произведения должен был определиться не только его «состав», но и особенности эпохи его возникновения. Тихонравов проявляет особый интерес к древней русской литературе, связывая ее развитие с историей народа.
Виднейшим представителем культурно-исторической школы был профессор Петербургского университета, затем академик А.Н. Пыпин(1833—1904). Будучи просветителем, он видел в изучении национальной истории важнейший путь развития общественного самосознания. Он всегда был горячим противником крепостного права. Он объяснял исторический прогресс «требованиями времени», «нравственными потребностями человеческой природы», «инстинктом цивилизации» народа. Признавая возможность переворотов и кризисов в истории человечества, Пыпин не считал эти «перевороты» закономерными: основной формой исторического развития был для него эволюционный процесс постепенного накопления человечеством и народами запасов знания. По Пыпину, жизнь народов в «эпохах», «веках», «периодах» определяется не только климатом, географической средой, но и биологическими причинами – сменой поколений; ведущими политическими средствами социального развития является не революции, а реформы и распространение научных знаний во всех слоях народа. Он понимал, что в основе возникновения государств лежит насилие, но не принимал его как средство разрешения противоречий; отсюда восторженная оценка им реформы 1861 г. Пыпин категорически отвергал официальную формулу «православие, самодержавие, народность», резко отрицательно относился к религиозно-мистическим утопиям славянофилов. «Народное благо – высшая цель и критериум государственной и общественной деятельности», – утверждал он. Различая в современном ему обществе три сословия (крестьянство, буржуазию, дворянство), Пыпин считал возможным разрешение социальных проблем в общенациональных рамках: народ был для него надклассовым, «четвертым» сословием.
Пыпин выравнивал исторические условия по культурному уровню, а роль классов – по культурному вкладу. Определенная модель научного миросозерцания получает у него название «школа». «Старые» научные школы также сменялись сначала «новыми», а затем «новейшими». Показатель образованности важен для Пыпина и в литературе. Философские основы науки остаются для него как бы вне времени, неизменными; совершенствовались лишь способы и приемы частнонаучного анализа.
Не отрицая специфики литературы, Пыпин вместе с тем видел в ней область культурной истории; для него литература (как и ее изучение) не самоцель (и в этом он решительно противостоит сторонникам «чистого искусства»), а средство для познания многогранной истории народной культуры. Изучая литературные явления в одном ряду с историей быта, нравов, археологией, правом, Пыпин считал эти факторы одинаково важными в научном исследовании. Суммируя задачи литературного изучения, он формулирует их следующим образом: 1) «изложить судьбы национального труда в области художественного творчества»; 2) изучить «сопредельные проявления народной и общественной мысли и чувства»; 3) изучить литературу «сравнительно в международном взаимодействии». Таким образом, историю литературы Пыпин ставит в непосредственную связь с историей народа.
Жанрово-стилевое своеобразие литературы определялось Пыпиным в связи с ее историческим содержанием. Проблемы, формы также выступали у него в категориях «исторической поэтики». Критерием же оценки содержания и формы служила степень их народности: «народное» («русское») содержание требовало адекватных форм. Наиболее глубокое воплощение, по справедливому мнению Пыпина, народность получила в произведениях писателей реалистического направления, начиная с Пушкина и Гоголя, изображавших жизнь народа в типических характерах.
Каких-либо коренных изменений в миросозерцании Пыпина на протяжении второй половины XIX в. не обнаруживается. В предисловиях к переизданиям своих работ на неизменность своих позиций указывает и сам автор. Этот вывод распространяется на принципы его мировоззрения: он оставался ученым академического склада с ярко выраженными просветительско-демократическими взглядами.
Вместе с тем можно отметить определенные различия в глубине оппозиции, степени демократизма взглядов Пыпина от 60-х к первой половине 70-х годов XIX в. Более радикальными как по существу, так и по форме изложения являются его выступления 60-х – начала 70-х годов. Два крупных периода: 1) 60-е – первая половина 70-х годов и 2) конец 70-х – начало 90-х годов – определяют эволюцию мировоззрения Пыпина. Рассматривая вопрос об эволюции его мировоззрения, следует иметь в виду, что такие крупные работы, как «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов», «Белинский, его жизнь и переписка», опубликованные первоначально в «Вестнике Европы» в первой половине 70-х годов, были задуманы Пыпиным гораздо раньше. Материалы для этих работ собирались и обобщались в течение ряда лет и отражали радикальные настроения Пыпина 1860-х годов. Это подтверждается также резкими выпадами против указанных работ критики, без достаточных оснований воспринимавшей Пыпина как продолжателя идей Белинского и Чернышевского.
Следует отметить постоянство интереса ученого к концепции, обозначенной им как «народоведение» («популярная философия», по словам Пыпина), его стремление рассматривать все общественно-научные проблемы с точки зрения интересов народа. Именно в России культурно-просветительские идеалы опирались на эту чрезвычайно последовательную в своем приложении и развитии теорию. Данное обстоятельство объясняется специфическими социально-историческими условиями, в которых находилась Россия того времени, тяжелыми формами эксплуатации народа, ставшими одной из причин, вызвавших к жизни народоведческую теорию как своеобразную реакцию академической науки на засилье крепостничества.
Другой источник методологии культурно-исторической школы – новые философские веяния, доносившиеся в Россию из Европы и воспринимавшиеся как оппозиция классицизму и метафизическому материализму. Сознательно уклоняясь в своих трудах от какой-либо цельной философской системы, первые ученые культурно-исторической школы придали своим научным изысканиям конкретно-народоведческую направленность, означавшую своеобразный сплав стихийного материализма со стихийным позитивизмом. В этом состоит третья особенность становления культурно-исторической школы в России.
У Пыпина свыше 1200 публикаций. Среди них – работы о Некрасове, Пушкине, Щедрине, Екатерине II, о масонстве, «Обзор славянских литератур», «Общественное движение при Александре I», многотомная «История русской литературы», история русской и украинской этнографии. До настоящего времени сохраняет свое значение анализ Пыпиным творчества Новикова, Грибоедова, Пушкина, Белинского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина; представляет интерес оценка им романтизма, славянофильства, масонства, народничества. Культурно-демократическая, народоведческая, социально-историческая и литературная концепция Пыпина оставалась в рамках мировоззрения передовой русской интеллигенции, сохраняя свою специфику.