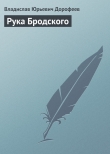Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Аронзон
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Валерий Шубинский
Игроки и игралища
Очерк поэтического языка трех ленинградских поэтов 1960—1970-х годов
Современное искусство часто само себя определяет как искусство “концептуальное”. Распространено мнение, что современному художнику мало умения хорошо (и даже в индивидуальной, отличимой от иных манере) рисовать, а современному поэту – писать. Все это не имеет смысла при отсутствии определенной концепции. Вся конкретная работа с цветом, объемом, словом и звуком объявлена ремесленной. А художник в современном мире – не ремесленник, а мыслитель, изобретатель модели, в которой приобретают сиюминутное значение элементы “дизайна”. Текст и артефакт вне контекста – ничто.
Недавно ушел один из главных проповедников этой точки зрения, Дмитрий Александрович Пригов. И оказалось, что созданный им образ поэтической личности тоже мгновенно исчез, жизненная и творческая маска, одноименная автору, ушла вместе с ним. А стихи остались. Более того, тексты тридцатилетней давности пережили тот контекст, в котором они создавались, тот язык, который они, как будто, пародировали. Оказалось, что не образ автора порождает произведение, а само оно (при условии художественной полноценности, конечно) создает своего автора и определяет расстояние между ним и житейской персоной художника (расстояние, кстати, в каждом случае различное). Ведь даже Козьма Прутков как законченный образ был придуман задним числом, как результирующее из совместного стихотворного, драматургического и афористического творчества Толстого и Жемчужниковых.
Используя аналогию из мира живописи: едва ли можно сказать, что у Вермеера или Сезанна не было собственной концепции пространства. Но она не предзадавалась акту творчества, а возникала в его процессе. Сезанн стремился адекватно передать свое видение яблока или берега Марны, но каждый новый положенный им на холст мазок создавал новую систему перспективы, конструировал новое понимание материальности.
В поэзии такую функцию исполняет язык. Однако роль языка как способа моделирования персонального микро– и макрокосма, задания дистанции между субъектом и объектом речи применительно к русской поэзии второй половины XX века до сих пор освещалась мало. Пока идет процесс накопления фактического материала и его первичного анализа (решающую роль здесь играют работы Л.В. Зубовой). Именно поэтому предлагаемая ниже попытка анализа поэтического языка трех петербургских/ленинградских поэтов может, при всем своем дилетантизме, оказаться небесполезной.
БРОДСКИЙ: НОВЫЙ ОВИДИЙ ИЛИ ВИЗАНТИЕЦ?Иосиф Бродский принадлежал к тем сравнительно немногим поэтам своего поколения, кто понимал, что многомерный и открытый язык Серебряного века, который был родным для Ахматовой и даже еще для Арсения Тарковского, уже невозможно ни унаследовать, ни выучить, и что язык советской поэзии отличен от него принципиально – даже в тех случаях, когда на фактурном уровне он достаточно богат и своеобразен (как у Твардовского, например). Собственно, в этом и была проблема: легко было первым символистам отказаться от бессильного лирического наречия надсоновской эпохи, не только не открывавшего пути в четвертое измерение, но и в мире трех измерений работавшего из рук вон плохо; но советская эстетика позволяла создавать – на определенном уровне – вполне качественные тексты, и поиск чего-то принципиально, радикально “другого” первоначально означал жертву этого качества. Роальд Мандельштам, если на то пошло, писал “хуже” Евтушенко, не говоря уж о Слуцком или Самойлове. У Николая Шатрова и особенно Станислава Красовицкого что-то начало получаться, почти случайно.
Бродский тоже первоначально двигался наобум, мечась между “строгим стилем” Слуцкого и наивным романтизмом, взятым из переводного Гарсия Лорки, между входящей в моду Цветаевой и пролистанным на коленке в запасниках Публичной библиотеки (или в “Букинисте” на Литейном) Мандельштамом (не Роальдом, разумеется). В сущности, то, до какого уровня удалось ему при этом подняться, само по себе достойно восхищения. “Рождественский романс”, например, – один из шедевров русской поэзии второй половины XX века, хотя от “настоящего”, зрелого Бродского там немного. Удивительный эффект изменения пространства-времени достигается там, в сущности, мандельштамовским приемом, о котором писал еще Эйхенбаум, – “химией слов”, стилистически и семантически необычным соединением определяемого и определителя:
…ночной кораблик негасимый
…ночной фонарик нелюдимый
…пчелиный хор сомнамбул, пьяниц
…любовник старый и красивый…
– (и, конечно, магией повторяющихся, с небольшими вариациями, строчек: молодой Бродский стремится “заговорить” читателя, погрузить его в транс; полная противоположность его зрелой эстетике).
Переломное стихотворение – “Я обнял эти плечи и взглянул…” – датируется февралем 1962 года. Помимо характерного “медленного” взгляда на вещи, остраняющего и отчужденного, здесь впервые появляется тот подчеркнуто книжный, письменный, рациональный, аналитический синтаксис, длинные сложноподчиненные и сложносочиненные фразы, с неизбежностью порождающие знаменитые, ставшие визитной карточкой Бродского анжамбеманы. Этот подробный синтаксис задает расстояние между говорящим и предметом речи, определяет строго субъектно-объектные (не диалогические) отношения между ними. Уход от диалога связан у Бродского с программным индивидуализмом, с пафосом одиночества и суверенности, которой угрожает всякое по-настоящему сильное чувство. Поэтому чем сильнее исходный эмоциональный импульс, тем более необходимо его отстранить, объективизировать, подвергнуть аналитическому расщеплению.
Характерно в этом отношении стихотворение “Любовь” (1971):
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель… —
длинная фраза на своем протяжении меняет характер наррации (которая в противном случае звучала бы сентиментально), создавая возможность лирической иронии. (Характерна первая строфа этого стихотворения:
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Фраза оборвана, неокончена, поэтому поэт во сне беззащитен перед своими чувствами, ему нет “утешения”. Наяву он защищен синтаксической броней. Правда, в данном случае сон оказывается сильнее яви и одерживает победу над поэтом, вовлекая его в собственную версию завершенности, где нет одиночества, а есть нежность и зависимость. Но это не очень характерный для Бродского исход.)
Речь, которая самими своими оборотами, самой грамматической структурой побеждает мучительное чувство, делая его выносимым, а поэта (или лирического героя) свободным: свободой Улисса, более не стремящегося на Итаку, Овидия, не тоскующего по Риму, – главная тема (если не главное действующее лицо), скажем, “Сонетов к Марии Стюарт”:
Пером простым – неправда, что мятежным! —
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
а) был ли он учеником прилежным,
в) новую для русского среду,
с) слабость к окончаниям падежным.
В Непале есть столица Катманду
Однако парадокс заключается в том, что синтаксические конструкции, которыми Бродский воспользовался для построения индивидуалистической утопии, генетически связаны с надличными сущностями, с которыми у Бродского были, мягко говоря, непростые отношения: с имперской государственностью и Православной Церковью. Книжная русская грамматика восходит к церковнославянской, а та, в свою очередь, – к греческой. Михайло Ломоносов, деист и симпатизант лютеранства, но выученик Славяно-греко-латинской Академии, узаконил эту связь. В этом смысле любой русский книжник не только слуга Третьего Рима, но и наследник Второго – тем в большей степени, чем более привержен он книжной, оторванной от разговорной стихии механике языка. Понимал ли это Бродский? Думается, понимал. Хотя в его знаниях, как у всех шестидесятников, были пробелы (прочитав в его предисловии к антологии отечественной поэзии, что большинство русских стихов XVIII века написано силлабикой, веришь поневоле, что попадающиеся в его стихах глагол суть в единственном числе и еси в третьем лице – не намеренные приемы), он обладал гениальной интуицией и огромным кругозором. И, хотя он порвал со Вторым и Третьим Римом, “сменил империю”, а в добровольно избранном Западном Риме [4]4
Который виделся ему “империей императива”, достойной свободного служения интеллектуала-индивидуалиста.
[Закрыть]преуспел и даже стал на год поэтом-лауреатом, он не мог не осознавать своего византийского бэкграунда. Что, несомненно, придавало дополнительный трагизм его мироощущению.
Будущий вождь национал-большевиков назвал Бродского “поэтом-бюрократом”. Все так, но он – великий бюрократ на службе великой Империи. А еще точнее – император из бюрократов (в Византии такие бывали), Август, расширитель империи, распространяющий ее юрисдикцию на неотесанных варваров. Советская культура, ориентированная на среднее в человеке, канонизировала средний речевой слой, почти табуировав высокие славянизмы, с одной стороны, вульгаризмы и сленг – с другой. Бродский вернул оба этих слоя, высокий и низкий, поэзии. Но непокорные слова, говорящие о плотском и злом, он подчинил железному имперскому кодексу. Слова бунтуют, напряжение между “верхом” и “низом” до предела натягивает ремни филологического государства, рождая непредсказуемость – опасную для империи, но спасительную для поэзии. “Пространство то, где рыщут астронавты” рискует в любой момент обернуться “мокрым космосом злых корольков и визгливых сиповок”, в котором “накалывает свои полюса” московский поэт-сутенер. На службу к Августу пошли и доселе ненужные гуманитарному государству естественно-научные слова, милые ему своей холодной физиологической конкретностью и своими латинскими корнями. Их ожидает непривычная компания. “Пейсы” соседствуют в одной строке с “гениталиями”, дабы забронзоветь вместе со своим хозяином – пейсатым сатиром. Здесь тоже есть поле для непредсказуемости. Поэт постоянно осматривает свое хозяйство, проверяя синтаксические ремни на крепость, идиомы – на реализуемость, созвучия на – звон, и сам не замечает, как становится из государя подданным. Из игрока – игралищем.
И все-таки у этой непредсказуемости есть граница. Неслучайно в империю Бродского допущен словарь пролетария из Веселого Поселка, но не “деревенские” слова, не диалектизмы; и неслучайно словам в его царстве запрещено менять свою природу путем злоупотребления приставками и суффиксами. Бродский хорошо знает о “синтетической (точнее – не аналитической) сущности русского языка”, особенно устного, и о его способности создавать подвижные, волшебные и страшные миры, в которых уже ничем не защитишься от развоплощения. Он восхищается прозой Андрея Платонова, но завидует языку, на который этого писателя нельзя перевести. И если он скрепя сердце примиряется с имперской и византийской природой своей миссии, то лишь потому, что “дикая” языковая стихия ему не в пример страшнее.
СОСНОРА: АНАРХИСТ И САМОДЕРЖЕЦХотя Виктор Соснора всегда избегал (и избегает) радикальных политических высказываний, его отношения как с “византийством совиных икон”, так и со стихийным народным бытием были с самого начала довольно сложными и конфликтными (как, впрочем, и у большинства шестидесятников). Индивидуалистический проект поколения был им воспринят в самых радикальных формах. Анархисту и ницшеанцу, Сосноре было бы тесно в рамках институционального индивидуализма современной западной цивилизации. Единственный за семьдесят четыре года поэт, сначала бывший советским, а потом переставший им быть (не по месту жительства, не по способу бытования текстов, не по политической идеологии, а по эстетике), он не для того в известный момент “выпал из гнезда”, чтобы просто “сменить империю”.
Для него куда характерней байронические ноты – которые странно и обветшало смотрелись бы у другого поэта второй половины XX века и которые у него (в лучшей части его творчества) оправданы и осмыслены: и общей, ни на что не похожей культурной ситуацией поколения, и индивидуальными голосовыми и интонационными особенностями. (Есть, правда, у него и стихотворения, в которых эти ноты звучат вполне пародийно). Общеинтеллигентский язык ему не подходит: ведь он не хочет быть “интеллигентом”, – но не подходит и “народный”.
В основе подхода Сосноры к языку лежит воля и страсть к самоутверждению. Неслучайно он, даже при обращении к любимой, использует выражения “моя” или “не моя”. Принадлежность/не принадлежность говорящему оказывается важнее имени и всех прочих примет. (В конвенциональном языке такое обращение, разумеется, невозможно, в третьем же лице выражение употребимо, скажем, в бытовой пролетарской беседе: “Моя никак носки не постирает”). Стремление застолбить языковое пространство выражается и в своеобразном “маньеризме”, настойчивом употреблении одних и тех же “авторских” приемов, маркирующих речь как “сосноровскую”; здесь и характерные синтаксические инверсии, и навязчивая аллитерация:
Осваиваю свой освенцим буквиц,
напрасность неприкаянности. Зла
залог…
(“Риторическая поэма”, 1972)
Но Соснора не просто “метит” язык (эти “метки”, кстати, легче всего воспроизводились и воспроизводятся эпигонами) – он в самом деле подчиняет его своей воле, иногда радикально деформируя. Степень этой деформации в разные годы различна, сильнее всего – в стихах конца 1970-х – начала 1980-х годов. Именно из них и стоит взять пример.
Над Евангельским ранцем
откуют совы свиста
в русском, в райском и в рабском —
в трех синонимах смысла.
(“Семейный портрет”, 1979)
Сказать просто: “русское, райское и рабское – синонимы” – значит произнести сомнительный трюизм, усиленный лежащей на поверхности аллитерацией. Но почему “синонимы смысла”? “Смысловые синонимы” – это было бы пусть тавтологией, но хотя бы грамматически привычной. Но что за “Евангельский ранец”? Что за “совы свиста”? Фактически поэт создает собственный язык, с собственной логикой и собственными, присвоенными словам смыслами, которые нам предстоит разгадывать. Наше воображение, разумеется, может себе представить “сов”, которые не ухают, а свистят, или даже (хотя и с большим трудом) синонимы, которые не непременно являются смысловыми; мы можем ассоциировать “ранец” с заплечным мешком проповедника или даже с крестом. Труднее привыкнуть к постоянным сочетаниям именительного и родительного падежа существительных, заменяющим прилагательные [5]5
Очень часто и во многих стихотворениях: “Мефистофели флегмы”, а не “флегматичные Мефистофели”, “Лилит столиц” – вместо “столичная Лилит”.
[Закрыть]и причастия (как раз пришедшие из церковнославянского). Видимо, прямое обладание чем-либо в этом мире дозволено лишь автору, всем остальным явлениям мира предоставляется довольствоваться косвенным. Даже Богу (в данном случае – нарисованному):
У Бога у губ киноварь и мастика…
(“В зале живописи”, 1976)
Не у “Божьих губ”, даже не у “губ Бога” (что в данном контексте было бы слишком привычно), а “у Бога у губ”. У губ (которые есть) у Бога, но не “Божьи”, а “мои”.
Эта грамматика создает новый, скошенный, остраненный мир со своими не только логическими, но и физическими законами, и делает убедительными сюрреалистические образы: здесь, в Соснории, совы свистят – и что?
Корни своеволия Сосноры, как часто пишут, в русском футуризме… Может быть, формально это и так, но к его присягам на верность Хлебникову стоит подойти с осторожностью. Хлебников был предельно вовлечен в языковую стихию, зависим от ее архаического пласта, от ее атавизмов. У Сосноры, несмотря на его юношеское увлечение “Словом о полку Игореве”, совпадения новоизобретенных грамматических форм с архаическими либо случайны, либо являются результатом эстетского выбора поэта-одиночки. Язык у Сосноры выключен из своей исторической жизни. Именно потому он так пугающе гибок:
…Но ты простишь меня – за двух колен,
Мне поданных рабынью для измен…
(“Когда меня в законы закуют…”, 1979)
Колени, поданные (женщиной мужчине) для измены – уже резкий и сильный образ. Но тут и колени становятся одушевленными, и рабыня меняет окончание и грамматическое склонение, а язык подчиняется этому так послушно, будто и он – “рабынь”. Такое отсутствие сопротивления материала перед авторским напором почти уродливо: в лучших стихотворениях Сосноре удается остановиться на границе этого “почти”. Созданный им мир часто чарует, хотя и болезненным очарованием. Его речь – это обрывочный монолог безумного царя-изгнанника, Лира, требующего, чтобы слова и фразы сами на ходу приспосабливались к его изменчивым ощущениям:
Ходит, складной (с кляпом? каникулы?)
и никак самого себя не сложить.
(Как в слезах! Как в глазах!). Стало жить невмоготу…
Но наготу ни лезвия не боится
и что ему чьи-то “нельзя”, но не готов ноготок.
(“Бессмертье в тумане”, 1976)
Бродский – если не конституционный монарх, то принцепс, правящий в огромной империи на основе римского права и традиции. Соснора – деспотичный правитель небольшого королевства, возможно, что и воображаемого. Язык Бродского претендует на общеобязательность, но оставляет некую свободу; язык Сосноры не обязателен ни для кого, но если ты хочешь его понять, ты должен беспрекословно подчиниться его причудливым законам.
ЛЕОНИД АРОНЗОН: ПОЧТИ-ЛИЦОЛеонид Аронзон, один из крупнейших поэтов, дебютировавших между 1956 и 1968 годами, остался в целом чужд глобальным проектам своего поколения, как в массовом, так и в элитарно-андеграундном изводе. Несомненно, он, как и почти всякий писатель, не был чужд суетных мечтаний и сожалений – ему было досадно, что его стихи не печатают (в том единственном смысле, который могли иметь эти слова в то время: не печатают за государственный счет массовыми тиражами), но пафос противостояния социуму был ему чужд. Будучи изначально, на антропологическом уровне, в удивительной для той эпохи степени “несоветским” человеком (в большей мере, чем Бродский), он, по-видимому, не испытывал необходимости специально подчеркивать свою суверенность, дистанцируясь от окружающего.
Некоторые отличия зрелой (с 1962–1963 годов начиная) поэтики Аронзона от поэтики Бродского сразу бросаются в глаза: это богатый (у Бродского)/лаконичный (у Аронзона) словарь; это аронзоновская любовь к рефренам, словесным повторам, кольцевым структурам – в то время как большинство текстов Бродского (“среднего”, но особенно позднего, начиная с середины 1970-х), и повествовательных, и медитативных, движутся “по прямой”, не замыкаясь, не ограничивая себя, не зная о своем завершении.
Несомненно, эти отличия связаны с различиями мироощущения, прежде всего – с разным пониманием времени. Здесь кстати очень выразительная цитата из “Путешествия в Стамбул” Бродского:
“Единицей – основным элементом – орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка – и у нас в этот момент – абстракции, – отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его – за счет ритмичности, повторимости – постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.
Я бы заметил еще, что единица этого орнамента – день – идея дня – включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрчика греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, ковер и попирающую его стопу – даже свою собственную – включая”.
Более отчетливого гимна линейному (западному) типу времени русская литература не знает. Но это время дорого Бродскому не своей направленностью во вне-временное (в чем на самом деле и заключается смысл и оправдание его линейности), а как процесс непобедимого линейного движения, бесконечного освобождения от себя-прошлого, только потому, “что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт”. Опыт отчуждения и расставания. Поэтому сказанное слово для Бродского – окончательно, непоправимо сказано. Поэтому ему надо больше слов. Поэтому он ненавидит тавтологичность (известно, что он не мог простить Блоку строчки “красивая и молодая”).
Для Аронзона же цель противоположна: предельное замедление времени и в идеале – его остановка, мгновенный выход во вневременное, в “рай”. Поэтому и слов должно быть мало; важно наполнить каждое из них максимумом смыслов.
Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
(“Есть между всем молчание. Оно…”)
Но какие именно слова остаются – кроме абсолютного минимума общеупотребительных? Из “нижнего слоя” поэт берет лишь два-три простейших слова, “сигнализирующих” о плотской стороне бытия: они необходимы Аронзону, потому что и его собственная поэзия, при всей своей возвышенности, вполне конкретна и чувственна, не меньше, чем у его великого соперника; его Прекрасная Дама – одновременно Ева, и у нее должны быть “и пах, и зад”. Гораздо интереснее с “верхним” слоем. Пренебрегая отдохнувшей “под паром” славянщиной, Аронзон спускается на один регистр ниже – и обнаруживает там полный склад романтических поэтизмов, отживших свой век в высокой лирике, потом отслуживших нестроевую в жестоком романсе и годных уже, казалось бы, только для кавказских тостов.
Красавица, богиня, ангел мой,
исток и устье всех моих раздумий,
ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой,
я счастлив от того, что я не умер
до той весны, когда моим глазам
предстала ты внезапной красотою.
Я знал тебя блудницей и святою,
любя всё то, что я в тебе узнал.
Всерьез или “понарошку” это говорится? Есть ли в этих словах элемент иронии? (Ведь строки про “блудницу и святую” – это, если на то пошло, прямая цитата из статьи Жданова про Ахматову.) Или – сформулируем вопрос иначе: кто является субъектом речи и насколько он тождествен автору? Ответ должен звучать, видимо, так: если лирический герой стихов, скажем, Олейникова или Пригова – “почти-маска”, то у Аронзона – “почти-лицо”. Текст чуть-чуть закавычен, и именно это, как ни парадоксально, позволяет читателю воспринимать его с полной мерой серьезности и прямоты.
Но что же выступает в качестве “кавычек”?
Мы до сих пор ничего не сказали о синтаксисе Аронзона. В этом отношении он гораздо ближе к Хлебникову (воспринятому и непосредственно, и через Заболоцкого), чем Соснора. Неожиданные синтаксические конструкции, пришедшие из разных, в том числе и архаических, эпох русского языка, сталкивающиеся друг с другом и порождающие неожиданные повороты смысла (но при этом органические, спонтанные, а не порожденные настойчивой авторской волей) – этого в его стихах немало, особенно в стихах середины 1960-х:
Не сю, иную тишину,
как конь, подпрыгивая к Богу,
хочу во всю ее длину
озвучить думами и слогом,
хочу я рано умереть
в надежде: может быть, воскресну,
не целиком, хотя б на треть,
хотя б на день, о день чудесный…
(“Не сю, иную тишину…”, 1966)
О, как осення осень! Как
уходит вспять свою река!
Здесь он стоял. Ему коня
подводят. Он в коня садится
и скачет, тело удлиня…
(“О как осення осень…”, 1968)
Ближе к концу таких оборотов становится меньше, и они существуют в “нейтральном контексте”. Иногда достаточно одной, слишком усложненной, витиеватой фразы, чтобы придать речи нужное ощущение странности. Например, в процитированом выше стихотворении “зеркальная” конструкция (“Я знал тебя блудницей и святою, любя всё то, что я в тебе узнал”) маркирует некую самоиронию, или точнее – легкое удивление тому, что высказываемое чувство и в самом деле существует и может быть выражено, да еще такими обветшалыми, скомпрометированными словами. Удивление собственной поэтике – которое эту поэтику и приводит в действие.
Нечто подобное происходит и в других стихотворениях Аронзона. Поэт, в 1968 году осмеливающийся начать один из своих лирических шедевров словами
Уже в спокойном умиленье
смотрю на то, что я живу.
Пред каждой тварью на колени
я встану в мокрую траву… —
спустя строфу “остраняет” их заверченным оборотом:
Мне все доступны наслажденья,
коль всё, что есть вокруг – они…
Это не wit в британском вкусе: Аронзон не Бродский. Здесь и иронии почти уже нет, есть лишь полуулыбка над “зеркальностью”, над как будто достигнутым, зримым блаженным состоянием мира, над собственной безоглядной нежностью и смелостью – не упраздняющая эту смелость, но позволяющая сохранить связь с контекстом, с реальностью эпохи и языка, связь, которая только и делает смелость реальной.
“Я” Аронзона (в его вершинных стихах) – это лишь нечто, результирующее из безоглядной смелости речи и чувства и из помянутой “полуулыбки”, из легкой закавыченности сказанного. Индивидуальность поэта и житейский “образ автора” – вещи совершенно разные, не имеющие между собой ничего общего; в шестидесятые этот трюизм осознавался немногими, и в этом одна из причин, по которым Аронзон не был вполне оценен при своей короткой жизни.
Однако в семидесятые годы его имя стало одним из важнейших для ленинградской “второй культуры”. И неслучайно именно в эти годы взаимная подвижность и взаимозаменяемость лица-маски становится одним из важнейших принципов в поэзии Елены Шварц и Сергея Стратановского. Правда, этих поэтов отличают от Аронзона две важнейшие особенности: во-первых, драматургическая, программно полифоническая структура большинства их стихотворений, во-вторых – то, что смена лица говорящего (или изменение степени “закавыченности”, отчужденности речи) у них маркируется не столько грамматикой, сколько смешением лексических пластов. Впрочем, все это может стать темой отдельной статьи, как и язык Олега Григорьева (которого часто сближают с концептуалистами и которым он на самом деле противоположен), и поэтика Олега Юрьева, нацеленная на максимальное раскрытие именно тех возможностей русской речи, от которых пытался уйти Бродский. Ленинградский андеграунд 1970—1980-х годов был, пожалуй, в большей степени погружен в язык и мотивирован языком, чем московская неомодернистская поэзия той поры. Но пути этих поисков были во многом намечены еще ленинградскими шестидесятниками – самыми талантливыми из них. [6]6
Опубликовано в журнале: «Знамя» 2008, № 2
[Закрыть]