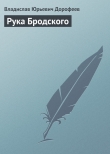Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Аронзон
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
1999, 2004
Олег Юрьев
Об Аронзоне
(в связи с выходом двухтомника)
Вырастание Аронзона
Выходом лимбаховского двухтомника завершается тридцатипятилетный процесс «подземной”, “незримой” канонизации» Леонида Аронзона.
Что стало понятно сразу, как об этом стало известно – и я почему-то страшно разволновался. Разумеется, выход двухтомника сам по себе Аронзона никак не "санкционирует" – у издательства Ивана Лимбаха (и ни у кого другого) пока что (и слава Богу) нет никакого "ресурса санкционирования", "права возведения в классики" и т. п. Но это издание как бы обозначает границу, как бы раздергивает завесу и впускает свет, разом освещающий и весь пройденный (после гибели) путь, и весь аронзоновский "райский" ландшафт.
Почему, собственно, меня так интересует история вырастания Аронзона (а он действительно вырастает, как дерево – и будет дальше расти, но теперь уже в свету, у всех на виду)?
Кажется, ни с какой стороны я не нуждаюсь во внешних подтверждениях для своей личной любви и для своей личной картины мира – даже если бы я был единственным или одним из очень немногих, считающих Леонида Аронзона великим поэтом (как оно в свое время и было), меня бы это ничуть не встревожило – в "советской вечной ночи" я вполне научился обходиться своим собственным мнением. Настолько, что меня даже не смущает, если оно вдруг совпадает с мнением многих.
Так почему же?
Я думал, думал, ворочался, не мог уснуть, а потом вдруг понял: да потому что это меня трогает. И заснул счастливый.
Меня трогает это вырастание Аронзона, эта его не только неуничтожимость – а наперекор всему: наперекор самым неблагоприятным историческим и прочим обстоятельствам —, его, я бы сказал, расширяющееся бессмертие, которое, кстати, ни в коем случае не является "торжеством справедливости". Справедливость – понятие чересчур относительное. Кто чего заслуживает – пусть каждый решает для себя сам. Поскольку в мире справедливости вообще мало (по общему мнению), то с чего бы она должна торжествовать в литературе? Нет, я просто чувствовал в последние годы, как невидимого Аронзона становится все больше – его самого, его ландшафта, его света. И вот порог перейден: Аронзон стал видим.
Вырастание Аронзона – это феномен увеличения количества жизни, расширения обитаемого мира. Оно пойдет дальше.
И наблюдать за этим – радость.
Вырастание с Аронзоном
Предисловие («Вместо предисловия» Петра Казарновского и Ильи Кукуя) – очень достойное по сжатости и равновесности тона. Фактология – как для кого, а для меня безумно интересная. Оказалось, например, что Аронзон вырос там, где я жил с 12 лет – на 2-й Советской. Его дом был № 27, это дальше к пл. Александра Невского, наш – № 21. То есть почтовый адрес у нас был, конечно, по Невскому, № 134, но ближний выход был на 2-ю Советскую. Там все дворы проходные.
А потом они с женой поселились в "доме Достоевского" на углу Владимирского и ул. Марии Ульяновой. До моих 12 лет, до переезда на Староневский, мы жили на Колокольной, в т. н. "красивом доме" № 11, а в школу ходил я № 216 (“энгельгартовскую”), через несколько домов по Марии Ульяновой. На лестнице "дома Достоевского" – на подоконниках – играл в орлянку и трясучку, курил первые сигареты, выпивал из газировочного стакана первые кавказские портвейны и молдавские вермуты.
…То есть сразу же вдруг выяснилось, что все свое детство я провел "поблизости от Аронзона". Это, конечно, никому, кроме меня, не интересно, меня зато почему-то взволновало.
Об Аронзоне и Бродском
В предисловии затронута и базовая мифологическая коллизия ленинградской поэзии: Бродский – Аронзон. И не только в биографическом разрезе (дружба – ссора). Краткое сравнение поэтик весьма проницательно и очень остроумно и уместно демонстрируется (в примечании) кратким сопоставлением двух «холмов» – у Бродского с холмов спускаются (“В тот вечер они спускались по разным склонам холма…”, «Холмы»), у Аронзона на холм поднимаются (“Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма…“, «Утро»).
Кстати, об “основополагающей” этой коллизии сам Леонид Аронзон (по рассказу Дм. Авалиани, сохраненному Германом Лукомниковым в его блоге http://lukomnikov-1.livejournal.com) говорил следующее: “Он <т. е. Бродский, конечно> пишет членом. Если ему отрезать член, он перестанет писать. А если мне – я не перестану”.
Сказано хорошо и хорошо, что сказанное сохранено, но – по некотором размышлении я пришел к выводу, что сказано все же в сердцах и неправильно.
Мне кажется, оппозиция «"с холма" (Бродский) – "на холм" (Аронзон)» гораздо вернее. Ты забрался на вершину холма и куда дальше? – только на небо. Ты спустился с холма и идешь себе, пока не надоело.
Но, может быть, мне просто не хочется дальше размышлять об этом противопоставлении. Что оно преследовало Аронзона, так это понятно. И по общей литературной ситуации 60-х гг., и по личным биографическим обстоятельствам Аронзона – дружба с Бродским, ссора…..А каково было выступить в знаменитом фельетоне в качестве “распространителя стихов Бродского”? Кто, интересно, подставил его в таком оскорбительном качестве? Как это вообще получилось?
Несомненно, все эти коллизии в будущем еще будут оживленно обсуждаться, но свою точку зрения выскажу уже сейчас: в конце 50 – начале 60 гг, когда Бродский и Аронзон познакомились и подружились, они – с точки зрения моей личной мифологии, являлись одним и тем же человеком (сами того, разумеется, не зная) – своего рода зачаточным платоновским шаром. А потом это существо – но не совершенное существо, а как бы зародыш совершенного существа – распалось на две половины и они двумя корабликами поскользили в совершенно разные стороны, не только не ища друг друга, но, я бы сказал, совершенно наоборот. Мне кажется, непредвзятый взгляд на стихи и того, и другого этого времени отчасти объясняет этот мой мифологический образ.
Об аронзоновском Рае
В письмах Аронзона – соответствующие места открылись сразу же, практически на расхлоп! – несколько раз употребляется выражение «сиамские близнецы». По отношению к нескольким (разным) людям, включая знаменитого Швейгольца, «убившего свою любовницу из чистой показухи» (письмо на зону). В смысле: мы с тобой (или таким-то), как разделенные сиамские близнецы. Очевидно, во внутреннем языке Аронзона «сиамскими близнецами» обозначалось то примерно, что я назвал выше «зачаточным платоновским шаром». Само же представление о том, что он был с кем-то одно существо и теперь отделен, оказалось у него очень отчетливо присутствующим. Я не претендую лучше Аронзона знать, с кем он был сиамским близнецом и сколько их вообще было – мое наблюдение касалось того, что меня единственно касается, т. е. стихов. Так что я при нем пока и остаюсь.
Вообще поражает степень (само)отчетливости этой "райской птицы". Цитата на развороте перед титулом (это не форзац, а просто вторая и третья страницы):
"Материалом моей литературы будет изображение рая… Тот быт, которым мы живем, искусственен, истинный быт наш – рай…".
Уже только ради этого – ради этой удивительной отчетливости, ради прямого взгляда на осознанное понимание автором собственной "литературы", стоило заглянуть в эту книгу. Совсем не лишнее напоминание о том, что большие поэты никогда не бывают дураками. Не бывали, не бывают и не будут бывать.
Ну, и конечно, очень хорошо сделали составители, выставив эту цитату (я ее прежде не знал) на самое видное место.
Она в каком-то смысле решающая.
Не когда Р. M. Пуришинская (“Рита”, его вдова) говорит, что он был "жителем Рая", не когда Елена Шварц это говорит, не когда я это говорю – не когда мы все это говорим, а когда он говорит это сам – и со всей возможной отчетливостью.
Об Аронзоне и “второй культуре”
По аппарату нашего издания (по цитатам и ссылкам в статьях и комментариях) можно сделать вывод, что «неофициальная» или, как это еще очень неудачно тогда называлось, «вторая» культура, по крайней мере, в сегменте (достаточно большом), идеологом и руководителем которого старался быть (и, конечно, был) Виктор Кривулин, выдвигала Аронзона в качестве противовеса Бродскому. Вывод совершенно правильный: так оно в очень значительной степени и происходило. Или хотело происходить.
В качестве примера можно рассмотреть доклад Виктора Кривулина на аронзоновской конференции 1975 г. (републикован в 4-м за 2006 г. номере журнала “Критическая масса”, http://www.artpragmatica.ru/km_content/?auid=89– О. Ю.)
Помимо тонких и очень верных мыслей о поэтике Аронзона (и в некоторых случаях даже как бы поверх этих мыслей, одновременно с ними), содержатся и очень простые, относящиеся к "социологии литературного процесса" утверждения. В том числе, когда Кривулин говорит об Аронзоне, сидящем в центре и т. д., имеется в виду одна очень простая вещь: при жизни Аронзон был центром своего рода небольшой "секты" (не в прямом смысле, ни в коем случае! но иногда было очень похоже на своего рода хлыстовский корабль с Ритой – “богородицей” и Аронзоном – верховным жрецом), вход в его круг был достаточно ограничен (по многим причинам и многими способами). Для людей извне это все выглядело закрыто, театрализовано и часто не очень серьезно. Поэтому Кривулин говорит о “красоте” и “артистичности” Аронзона, “не имеющих прямого отношения к поэзии”. После смерти Аронзон сделался предметом поклонения нескольких очень узких кружков (в основном двух – собственного посмертного и круга с 67-го года отвергнутого, но преданно любящего Владимира Эрля). Чтобы сделать Аронзона "противовесом", не только Бродскому, но и обоим флангам официальной ленинградской поэзии – т. е. Кушнеру и Сосноре, нужно было для начала "обобществить" Аронзона, как минимум, отнять его у Эрля и сделать его "одну из самых перспективных в мировой поэзии" (смешное место!) поэтик как бы патронажной доктриной всей ленинградской (неофициальной) поэзии. Это Кривулин прекрасно понимал. Но сделать этого он как раз и не мог (хотя на момент доклада явно собирался). И по субъективным причинам (просто сравните его собственную поэтику с описываемой и скажите, к кому она ближе – к Аронзону, или к Бродскому), и по причинам объективным – "кружковое бытование" культа Аронзона и социально-культурная самоидентификация большинства участников неофициальной культуры этому препятствовали.
И снова об аронзоновском Рае
Несколько дней я размышлял над строчкой Аронзона «Мгновенные шары скакалок» (из раннего стихотворения «Полдень»). Иногда мне казалось, что строчка гениальная по пластике и демонстрирует то богатство возможностей, от которого Аронзон постепенно отказывался, «всходя на холм». А иногда, что в строчке есть «небольшая погрешность», некоторый – переводя на язык людей шестидесятых годов – изобразительный «дерибас», и это-де намекает, что вещность все равно была не совсем «его вещь». Сейчас, после консультаций с лицами, более прикосновенными к скакалке, чем когда-либо я прикосновен был, склоняюсь все же к мнению, что со зрительностью там все в порядке: одиночные скакальщицы скакнут (создадут тем самым мгновенный шар), остановятся, а потом снова скакнут. Удвоенных, вертящих для третьей, касаться это, само собой разумеется, не может.
Но тут-то и обращает на себя внимание, что в "Раю Аронзона" – на вершине холма, которой он достиг в 68 – 69 – 70 гг., люди – со скакалками или без – практически отсутствуют. Не считать же людьми богиню-Риту, демона-Михнова, зайчика-Альтшулера или себя-Аронзона, ослепленное красотой мира дыхание.
Совершенно прекрасно сказал об этом кишиневский поэт Олег Панфил (в своем блоге http://silversh.livejournal.com):
“Аронзон (особенно поздний) – это рай чуть ниже живота, рай ланей и оленей, животного, телесного, инстинктивного. Прозрачное золото этого рая обугливает краешек жизни, которым удалось соприкоснуться с ним – мимо пожизненных таможен и полосы отчуждения. На этом обугленном краешке безмыслие граничит с безумием, любовь – с западней”.
И хотя я сейчас уже не думаю (согласившись, в том числе, с доводами авторов предисловия и цитируемого ими Анри Волохонского), что Аронзон действительно совершил сознательное самоубийство, но выносить соприкосновение с этим безмысленным (но, конечно, не бессмысленным), бессловесным (но не немым) раем и каждый раз возвращаться оттуда со звуком и смыслом было, наверняка, мучительно трудно.
О возвращении Аронзона
В общем и в целом я не мог бы сказать, что мое личное представление об Аронзоне-поэте лимбаховским двухтомником решительно перевернуто (ну и слава Богу! оно меня совершенно устраивало!), что круг любимых стихов существенно расширен (а вот это жаль; с другой стороны, несущественно, но расширен – и уже это редкое счастье!).
Сказанное, конечно, не только не отменяет, a наоборот, усугубляет необходимость издания «Малого Аронзона», и не одного, а скорее даже нескольких. Но публикация во 2-м т. настоящего издания списка из 71 стихотворения, составленного в сентябре 1970 г. самим Леонидом Аронзоном, требует первоочередного выпуска именно этого «Избранного» (с присовокуплением "последнего" «Как хорошо в покинутых местах…») в качестве выполнения авторской воли. А дальше посмотрим…
Итак, я все-таки остался при исходном своем представлении: при всей несомненной и чрезвычайной талантливости сравнительно ранних стихов Аронзона (талантливости, неуклонно нараставшей от года к году) его личность в 1968–1970 гг. по тем или иным причинам перешла в некоторое качественно иное состояние. Или можно сказать и так: его, Аронзона, существование в значительной степени переместилось в иные области, в ландшафт того, что он (а вслед за ним Рита Пуришинская, а вслед за ней – все мы) называл Раем. Результатом этого перемещения стали, с одной стороны самые его волшебные, самые прозрачные, самые ни на что не похожие, самые счастливо-одинокие во всех смыслах стихи, а с другой стороны, постоянно увеличивающаяся трудность существования, просто-напросто физического нахождения где-либо помимо этого ландшафта.
Быть может, я возьму сейчас назад свои недавно сказанные в другой связи слова (не полностью возьму назад, а оставлю как возможную гипотезу и, по крайней мере, объяснение в рамках чисто литературного разговора, который не может вестись в "терминах рая") о том, что “Аронзон не вынес перепада давлений – все его великие стихи написаны в последние два-три года жизни. До того он был в целом “один из многих” <…>Выдержать внезапно обрушившееся на него величие он оказался не в состоянии. Вот если бы это произошло раньше… Или позже…”
После знакомства с двухтомником я готов допустить, что все было несколько по-другому…
Дело в том, что в этой книге, в двух ее зеленых томах, почти физически ощущается личное, человеческое присутствие Леонида Аронзона. Прочитав ее, можешь совершенно ответственно сказать, что знаком с ним как с человеком, и не просто знаком – а знаешь его в его жизненном развитии: как будто вырос с ним вместе на Второй Советской улице, как будто ходил с ним в институт на лекции, ездил в отпуск, писал сценарии для научпопа, видел, как он одиноко ходит по Раю. Не знаю, когда я в последний раз сталкивался с таким эффектом физического присутствия какого бы то ни было человека в какой бы то ни было книге (если вообще сталкивался). Так вот, этот человек, пожалуй, мог выдержать любое "обрушившееся на него величие". Сильный, красивый, музыкальный, остроумный, удачливый в любви и друзьях, способный противостоять несчастьям, во всем с избытком талантливый (достаточно взглянуть на его рисунки и каллиграммы). Но к "соблазну Рая" и он не был готов. Вряд ли кто-либо вообще может быть готов к этому соблазну (из немногих, способных его почувствовать). И – хотя, как уже говорилось, я и согласен с представленными в предисловии доводами против версии самоубийства – он ушел от нас в Рай, потому что хотел этого. Не сорвись тогда в Средней Азии курок, ушел бы в другой раз…
А теперь вот – и это на сегодня самое главное! – вернулся из Рая, чтобы снова жить среди нас. Я говорю это совершенно серьезно, это (и последующее) не оборот речи, а образ, что означает полную и даже бoльшую реальность.
Этот двухтомник есть прежде всего акт физического возвращения Леонида Аронзона. Это его дом, где он теперь живет, куда мы можем придти к нему. Теперь все будет по-другому – с нами, с нашей поэзией, с нашим языком. Я думаю, мы спасены. [2]2
Опубл.: “Критическая масса” (Москва), 4, 2006
[Закрыть]
Валерий Шубинский
Аронзон: рождение канона
Леонид Аронзон. Собрание произведений: В 2 т. Сост., подготовка текстов и примечания П. А. Казарновский, И. С. Кукуй, В. И. Эрль. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006
Выход двухтомника Леонида Аронзона стал событием во многих отношениях этапным. Дело в том, что именно посмертная судьба этого поэта – лучший пример условности и подвижности общепринятых культурных иерархий. Для поэтов ленинградского андеграунда (причем для достаточно разных его направлений) Аронзон стал бесспорным классиком уже в первые годы после своей безвременной гибели в 1970 году. Именно Аронзон (а не другие поэты, чьи имена куда в большей степени были на слуху у сколько-нибудь широкого читателя) открыл для двух поколений поэтов пути, альтернативные пути Бродского, и, возможно, в некоторых отношениях более плодотворные. Ситуация Бродского и Аронзона отчасти близка к ситуации Блока и Анненского. С одной стороны – гений, заслуженно любимый читателями при жизни и после смерти, породивший многих эпигонов, но скорее закрывающий, чем открывающий некие возможности; с другой – поэт мало написавший, безвестный при жизни, а после смерти оцененный лишь в узком кругу, однако ставший черенком, из которого выросло несколько мощных и при этом различных ветвей поэтического древа.
Вне профессионального сообщества Аронзон и сейчас известен мало. В первых томах обоих версий новой Большой Российской энциклопедии статей о нем нет. Возможно, выход двухтомника изменит ситуацию. Но прежде всего он важен тем, что безвозвратно переводит творчество Аронзона из спорного настоящего в каноническое прошлое культуры. Видимо, в этом есть некая мрачно-насмешливая историческая логика: ведь именно сейчас, скорее всего, подошел бы к концу творческий путь поэта, не оборви его жизнь роковой выстрел в горах в окрестностях Газалкента. Впрочем, может быть, и не подошел бы: Аронзону, родившемуся в 1939 году, сейчас еще не было бы семидесяти.
Главное, что делает двухтомник событием и заставляет сказать спасибо его составителям, – тексты, выверенные по рукописям (а не по машинописным копиям, пусть и авторизованным, как это имело место в предыдущих изданиях), с ранними редакциями и вариантами. Это важнее любых вопросов, которые могут возникнуть у читателя книги. А вопросы есть, конечно. Например: первый том состоит из двух разделов – первый включает стихи 1964–1970 годов, второй – 1956–1963 годов. Почему граница проходит именно по началу 1964, а не 1963 или 1965 года? И почему, если уж мы делим том надвое, не скомпоновать его первую половину по авторскому списку, составленному в сентябре 1970-го, незадолго до смерти и напечатанному во втором томе? Надо ли включать в основной раздел наброски и шуточные экспромты, если, скажем, стихи для детей вообще не вошли в собрание (их предполагается напечатать в гипотетическом третьем, дополнительном томе)? Правильно ли, что из киносценариев научно-популярных фильмов, которые Аронзон писал для заработка, включен лишь один? Почему 40-строчное “Листание календаря” и 70-строчный “Демон” названы “поэмами” и отнесены во второй том? Наконец, стоило ли перегружать примечания притянутыми за уши цитатами, например, из такого не самого близкого Аронзону писателя, как Евгений Звягин?
Вероятно, на часть этих вопросов у составителей есть вполне убедительные ответы, но – повторимся – это даже не так важно: существенно, что благодаря проделанной ими огромной работе у нас появилась возможность для углубленного, итогового взгляда на творчество Аронзона. Теперь, поставленные в большой контекст, его стихи сами выбирают себе родню и собеседников в прошлом, и его генеалогия может оказаться совсем не такой, какой представлялась при жизни или вскоре после смерти (а в случае Аронзона это “вскоре” растянулось на десятилетия).
Ранний Аронзон (как и ранний Бродский), разумеется, эклектик, но это очень обаятельный эклектизм. Сперва Маяковский, Гумилев и какая-то продвинутая переводная поэзия из “Иностранки”, потом Мандельштам, Пастернак, Хлебников, Заболоцкий, и Тютчев с Баратынским – все идет в ход. К 1962–1963 годам вырабатывается элегически-созерцательная поэтика, которая была бы близка к тогдашней поэзии Бродского, если бы не иная модель взаимоотношений с миром и иная вырастающая из нее интонация. Поэт не отделяет себя от реальности, не вглядывается, как меланхолический метафизик, в отчужденный мир “вещей”, а растворяется в их взволнованном бытии:
И медленен, как колокол, покой,
распластанный по выгнутым озерам,
но, не достав до родины рукой,
я прижимаюсь к мертвому простору
ночных полей. Как брошенный сосуд,
гудят поля далекими пирами,
и нища речь, и бык, застывший камень,
лежит в траве, уставившись в росу.
В течение следующих нескольких лет, с чудесными удачами (“Послание в лечебницу” и “Утро” – стихотворения, которых уже достаточно для бессмертия), но и с отступлениями, учась у Хлебникова и “Столбцов” Заболоцкого, Аронзон обретает наконец свой подлинный, вполне индивидуальный голос (индивидуальный в той степени и в том смысле, как мало у кого в поколении). Однако хоть его зрелая поэтика и укоренена в обэриутско-футуристической традиции, она не подразумевает ни подчеркнутого алогизма, ни экспрессивного гротеска, ни языковых игр.
Если говорить об обэриутском влиянии, то зрелый Аронзон ближе всего к тому очень своеобразному “неоклассицизму”, к которому пришли во второй половине 1930-х годов и Хармс, и Введенский, и Заболоцкий, и Олейников. Это был классицизм по ту сторону авангарда и с учетом опыта авангарда – высокая утопия воссоздания Золотого века культуры на руинах века Серебряного. С этой утопией связан был наметившийся в творчестве этих поэтов переход от полуиронического, игрового, “масочного” употребления банальных, как будто скомпрометированных культурой поэтизмов к их серьезному освоению. Соответственно меняется контекст – из подчеркнуто нелепого и абсурдного он становится лишь чуть-чуть непривычным.
…Настала ночь. И люди дышат,
В глубоком сне забыв дела.
Их взор не видит, слух не слышит,
Недвижны вовсе их тела….
…Кричит петух. Настало утро.
Уже спешит за утром день.
Уже и ночи Брамапутра
Шлет на поля благую тень.
“Опыты в классических размерах” – не самое знаменитое у Хармса, и знакомство Аронзона с этими стихами сомнительно: ведь во второй половине 1960-х годов изучение наследия обэриутов лишь начиналось. Но то сочетание традиционной гармонии и еле заметного остранения, придающего сто раз употребленным словам свежесть, к которому Хармс стремился в этом цикле, воплотилось, быть может, именно у Аронзона. Во всяком случае, впечатляет даже чисто интонационное сходство только что процитированных строф с одним из лучших аронзоновских стихотворений:
Уже в спокойном умиленье
смотрю на то, что я живу.
Пред каждой тварью на колени
я встану в мокрую траву.
Я эту ночь продлю стихами,
что врут, как ночью соловей.
Есть благость в музыке, в дыханье,
в печали, в милости твоей.
Мне все доступны наслажденья,
коль всё, что есть вокруг – они.
Высоким бессловесным пеньем
приходят, возвращаясь, дни.
Сегодня, когда перечитываешь эти строки, понимаешь, что “житель рая”, уйдя к себе, оставил калитку приоткрытой для следующих поколений поэтов. Его смелость указала путь многим, но еще никто не был так же смел, как сам он. И в прозрачной, простодушной по видимости лирике, и в более напряженных стихах, построенных как мантры, основанных на многократном повторении одних и тех же фраз, он оказывается одновременно смелым авангардистом, прорывающимся в неведомые области языка, и строгим консерватором, бросающим вызов энтропии, вступающим в спор с опустошающим слова временем. Не надменный странник, проходящий мимо бесконечно разнообразных и неизменно уходящих в прошлое образов, а визионер, прозревающий мир в его подлинном (райском) состоянии единства и вневременности:
Все – лицо. Лицо – лицо,
Пыль – лицо, слова – лицо.
Все – лицо. Его. Творца.
Только Сам Он без лица.
И именно поэтому – несмотря на все сказанное в начале рецензии о влиянии Аронзона на следующие поколения поэтов – в некоторых (и, быть может, самых существенных) сторонах своей индивидуальности он был одинок при жизни и не имел прямых наследников после смерти. “То, что искусство занято нашими кошмарами, свидетельствует о непонимании первоосновы Истины”. Эти слова Аронзона, вынесенные на фронтиспис первого тома, многое объясняют. Русская поэзия за тридцать пять-сорок лет прошла большой и славный путь. Поэты, в том числе блистательные, находили сложные и окольные пути в рай – через преобразование непросветленной материи, через адские области собственного сознания. Путь самый прямой и простой, по которому шел Аронзон, по-прежнему заколдован. Почему – вопрос отдельный; но слава тому, кто его расколдует вновь.
К числу достоинств двухтомника нельзя не отнести и воспроизведение рисунков и картин поэта. Одаренность его в этой области несомненна. В живописных произведениях на него явно влиял Михаил Шварцман, в графике он был ближе к Евгению Михнову-Войтенко, своему близкому другу, но иные графические композиции, включающие тексты стихотворений, на редкость своеобычны и тонки. Подробно и дельно изложена биография Аронзона; чуть ли не впервые в подробностях освещены обстоятельства его гибели, которая, возможно, и не была сознательным самоубийством. Статья Александра Степанова “Живое все одену словом”, написанная в первой редакции в 1983 году, для своего времени очень достойна, но на нынешнем этапе изучения русской поэзии второй половины XX века, в том числе творчества Аронзона, уже не вполне удовлетворительна. Главные ее недостатки: во-первых, при множестве тонких наблюдений нет понимания поэтики Аронзона как цельной системы и, во-вторых, нет историко-литературного контекста; впрочем, это лучше, чем контекст ложный.
Но работа, проделанная составителями двухтомника, открывает дорогу новым интерпретаторам и исследователям поэзии одного из самых сильных и высоких русских лириков второй половины XX века. Эта работа была бы невозможна без тех усилий, которые в течение многих лет прилагали друзья, близкие, поклонники поэта, хранители его памяти – прежде всего его вдова Рита Аронзон-Пуришинская и ее второй муж, режиссер Феликс Якубсон. Отрадно, что составители нашли возможность в той или иной форме выразить признательность и им, и брату поэта В. Л. Аронзону, и Елене Шварц, составившей первую посмертную книгу Аронзона (что уже само по себе говорит о той роли, которую играла его поэзия в андеграунде 1970–1980-х годов), и многим другим. [3]3
Опубликовано в журнале:
«Нева» 2007, № 6
[Закрыть]