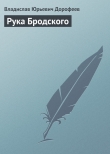Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Аронзон
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
" Когда безденежный и пеший "
Когда безденежный и пеший
бегу по улицам один,
осенней площадью помешан,
осенним холодом гоним,
и всадник мечется по следу
на чудно вылитом коне,
стихи случайные, как беды,
они всего верней во мне.
Но так недолог я над миром,
когда с утра скользит река,
когда последнее мерило
к лицу прижатая рука,
когда стою, и мир развернут,
скользит река, и под мостом
плыву, раскачиваясь мёртвый,
на воду сорванным листом,
но счастье всё-таки страшнее
среди друзей, в тени жены.
Беги тех радостей, Евгений,
мы перебьёмся до весны!
1961
" Лицо – реке, о набережных плеск, "
Лицо – реке, о набережных плеск,
вся эта ночь, как памятник бессонна,
и осень, обнажённая как крест,
срывается на мокрые газоны.
А я – изгой, река моя во мне,
скользит по рёбрам, ударяя в душу,
и мост уже не мост, не переезд,
а обморока длинный промежуток.
Срывая плащ, подрагивает мост,
и фонари предутренние ранни,
я подниму лицо твоё, как тост,
за самое высокое изгнанье
в поэзию, а тучи в облаках
к над-берегу сбиваются и тонут,
и тихая шевелится река,
и мост над ней, как колокол, изогнут.
Звони, мой мост, мой колокол, мой щит,
соломинка моя, моя утрата,
когда кричу я, осенью распятый,
как страшно мне и горестно не жить.
1961
" По вестибюльной скуке города "
По вестибюльной скуке города
передвечернего, по скуке
к дождю приподнятого ворота
я узнаю о Петербурге
подробности, и с ними в саду
иду и мыслю непрестанно,
пока слагается в осадок
рассказ о буднях арестанта.
1960
ВАЛААМ
1.
Где лодка врезана в песок,
кормой об озеро стуча,
где мог бы чащи этой лось
стоять, любя свою печаль,
там я, надев очки слепца,
смотрю на синие картины,
по отпечаткам стоп в песках
хочу узнать лицо мужчины.
И потому как тот ушедший
был ликом мрачен и безумен,
вокруг меня сновали шершни,
как будто я вчера здесь умер.
2.
Где бледный швед, устав от качки,
хватался за уступы камня,
где гладкий ветер пас волну,
прибив два тела к валуну,
где шерстяной перчаткой брал я
бока ярящихся шмелей,
и чешуя ночных рыбалок
сребрила с волн ползущий шлейф,
и там я, расправляя лик твой,
смотрел на сны озер и видел,
как меж камней стоял великий,
чело украсивший гордыней.
[Весна] 1965
" Вега рек на гривах свей, "
Р.П.
Вега рек на гривах свей,
пряжа пчел лесных – Онега,
нега утренних церквей
на холмах ночного брега…
Где колеблющимся зноем,
утопив стопы в песок,
ты стояла предо мною,
глядя Господу в лицо.
[Июль 1965]
СОНЕТ В ИГАРКУ
Ал. Ал.
У вас белее наши ночи,
а значит, белый свет белей:
белей породы лебедей
и облака, и шеи дочек.
Природа, что она? Подстрочник
с языков неба? и Орфей
не сочинитель, не Орфей,
а Гнедич, Кашкин, переводчик?
И право, где же в ней сонет?
Увы, его в природе нет.
В ней есть леса, но нету древа:
оно – в садах небытия:
Орфей тот, Эвридике льстя,
не Эвридику пел, но Еву!
Июнь 1967
" В поле полем я дышу. "
В поле полем я дышу.
Вдруг тоскливо. Речка. Берег.
Не своей тоски ли шум
я услышал в крыльях зверя?
Пролетел… Стою один.
Ничего уже не вижу.
Только небо впереди.
Воздух черен и недвижим.
Там, где девочкой нагой
я стоял в каком-то детстве,
что там, дерево ли, конь
или вовсе неизвестный?
[1967?]
" Дурна осенняя погода: "
Дурна осенняя погода:
кругом тоска и непогода.
Понур октябрь в октябре,
и в скуке не отыщешь брода.
Одно спасение – колода.
Или, колоды не беря,
сесть перечитывать себя.
[1968]
" Есть между нами молчание. Одно. "
Есть между нами молчание. Одно.
Молчание одно, другое, третье.
Полно молчаний, каждое оно —
есть матерьял для стихотворной сети.
А слово – нить. Его в иглу проденьте
и словонитью сделайте окно —
молчание теперь обрамлено,
оно – ячейка невода в сонете.
Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
[1968?]
" Боже мой, как все красиво! "
Боже мой, как все красиво!
Всякий раз как никогда.
Нет в прекрасном перерыва,
отвернуться б, но куда?
Оттого, что он речной,
ветер трепетный прохладен.
Никакого мира сзади —
все, что есть – передо мной.
[Весна 1970]
" Не ты ли, спятивший на нежном, "
Не ты ли, спятивший на нежном,
с неутомимостью верблюжьей
прошел все море побережьем,
ночными мыслями навьюжен,
и не к тебе ли без одежды
спускался ангел безоружный
и с утопической надеждой
на упоительную дружбу?
Так неужели моря ум
был только ветер, только шум?
Я видел: ангел твой не прячась
в раздумье медленном летел
в свою пустыню, в свой надел,
твоим отступничеством мрачный.
[Весна? 1970]
" Как хорошо в покинутых местах! "
[Сентябрь 1970]
Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
лесных деревьев, поднятых холмами.
И дождь идет, и мокнет красота
лесных деревьев, поднятых холмами, —
как хорошо в покинутых местах,
покинутых людьми, но не богами.
[Сентябрь 1970]
" Да, ночь пространна! "
Да, ночь пространна!
За изгибом веток
изгиб дорог,
изгиб моей судьбы,
о тишина путей,
ночей, ветвей,
мне ведом
тот путь путей,
коснувшийся стопы.
Ночь как туннель,
и в мире какофоний
ночных дорог,
где оживает страх,
стоят спокойно
царственные кони
в зеленом сгустке
сумеречных трав.
Ночь – воскресенье душ,
и четкость очертаний
я с каждым шагом вынужден терять,
и смутность мира
за чертою званья,
как дикое пространство бытия.
Там круговерть ветвей,
стопа, коснись дороги,
где круговерть судьбы
роняет след.
Не бойся звезд,
идущие как боги,
как в день творенья,
выйдем на рассвет.
1958 (1959)
" Еще, как Гулливер, пришит я "
«За жар души, растраченный в пустыне…»
Лермонтов
Еще, как Гулливер, пришит я
к тебе двужилием любви,
и в этой стуже необжитой
прости мне горести мои!
Нет, не тебе случайный жребий
моей судьбы, твоих: прощай!
сырого неба одобренья
и ложной тяжести в плечах.
За тихий выкрик умиранья,
за весь разор – благодарю,
за холод набожных окраин,
за страх и горечь к январю.
Благодарю за то, что ведом
тебе уют февральских вьюг,
за все привязанности к бедам,
за тихий свет благодарю!
" Ты приняла свое распятие, "
Ты приняла свое распятие,
как грех стыда осатанелого,
не угрожая мне расплатами,
но восклицая: что я делаю?
Вот только комната – не озеро
(там лилия была, Офелия,
цветок корон), но не вопросами
измучила меня – несмелостью,
и только стыд, как след преследуя,
останется, чтоб память мучая,
водить любить, смущать пленерами
и обнаженных тел могуществом,
но жен мы не забыли, празднуя
измену, вечным ритуалом
мы проклинать себя опаздывали,
а впрочем, что нам оставалось?
Мы жен любили как любовники,
им изменяли как любовницам,
а ты была лишь слабой кровлею,
а если больше – это вспомнится,
так помни след стыда, не сетуя
на роль вторую, из статистов
мы начинали путь, поэтому
прости меня за то неистовство.
1959 (1961–1962)
" В пустых домах, в которых все тревожно, "
В пустых домах, в которых все тревожно,
в которых из-за страха невозможно, —
я именно в таких живу домах,
где что ни дверь, то новая фобия,
в них я любил, и в них меня любили,
и потерять любовь был тоже страх.
Любое из чудовищ Нотр-Дама
пустяк в сравненье, ну хотя бы с дамой,
что кем-то из времен средневековья
написана была на полотне,
затем сфотографирована мне,
как знак того, что мир живет любовью.
Не говорю уже об утвари другой,
но каждая могла бы быть тоской,
которой нет соперниц на примете:
любая вещь имеет столько лиц,
что перед каждой об пол надо, ниц;
ни в чем нет меры, все вокруг в секрете.
Не смею доверяться пустоте,
ее исконной, лживой простоте,
в ней столько душ, невидимых для глаза,
но стоит только в сторону взглянуть,
как несколько из них или одну
увидишь через время или сразу.
И если даже глаз не различит
(увы, плохое зрение – не щит),
то яыный страх на души те укажет.
И нету сил перешагнуть черту,
что делит мир на свет и темноту,
и даже свет, и тот плохая стража.
Не смерть страшна: я жить бы не хотел —
так что меня пугает в темноте? Ужели инфантильную тревогу
мой возраст до сих пор не победил
и страшно мне и то, что впереди,
и то, что сзади вышло на дорогу?
<1966 или 1967>
" Мое веселье – вдохновенье. "
Мое веселье – вдохновенье.
Играют лошади в Луне, —
вот так меня читают Боги
в своей высокой тишине.
Я думал выйти к океану
и обойти его кругом,
чтоб после жизни восхищаться
его нешуточным умом.
Но дождь, запутавшийся в листьях,
меня отвлек от тех идей.
Уснув, не перестал я слушать
шумящих лиственных дождей.
<1969 – весна 1970>
Лесничество
Не вожделеясь расстояньем
с Холма, подъемлющего бор,
как бы в беспамятстве стоял я
один в лесничестве озер.
Июль. Воздухоплаванье. Объем
обугленного бора. Редколесье.
Его просветы, как пролеты лестниц,
Олений мох и стебли надо лбом.
Кусты малины. Папоротник, змей
пристанище, синюшные стрекозы.
Колодезная тишь. Свернувшиеся розы.
Сырые пни. И разъяренный шмель.
Таков надел, сторожка лесника.
Я в ней пишу, и под двумя свечами
мараю, чиркаю, к предутрию сличаю
с недвижным лесом, чтоб любовь снискать
у можжевельника, у мелкого ручья,
у бабочек, малинника, у ягод,
у гусениц, валежника, оврага,
безумных птиц, что крыльями стучат.
В сырой избе, меж столбиками свеч,
прислушиваюсь к треску стеарина,
я вспоминаю стрекот стрекозиный
и вой жука, и ящерицы речь.
В углу икона Троицы, и стол
углами почерневшими натянут,
на нем кухонный нож, бутыль, стаканы,
пузатый чайник, пепельница, соль.
Кружат у свеч два пухлых мотылька.
Подсвечник, как фонтан оледенелый.
Хозяин спит, мне нужно что-то сделать,
подняться, опрокинуть, растолкать
хозяина, всю утварь, полумрак,
там, за спиной скрипящие деревья,
по пояс в землю врытые деревни,
сырой малинник, изгородь, овраг,
безумных птиц, все скопище озер,
сгоревший лес, шеренги километров…
Так вот вся жизнь, итог ее засмертны,
два мотылька, малинник, свечи, бор.
1960
Псковское шоссе
Белые церкви над родиной там, где один я,
где-то река, где тоска, затянув перешеек,
черные птицы снуют надо мной, как мишени,
кони плывут и плывут, огибая селенья.
Вот и шоссе, резкий запах осеннего дыма,
листья слетели, остались последние гнезда,
рваный октябрь, и рощи проносятся мимо,
вот и река, где тоска, что осталось за ними?
Я проживу, прокричу, словно осени птица,
низко кружась, все на веру приму, кроме смерти,
около смерти, как где-то река возле листьев,
возле любви и не так далеко от столицы.
Вот и деревья, в лесу им не страшно ли ночью,
длинные фары пугают столбы и за ними
ветки стучат и кидаются тени на рощи,
мокрый асфальт отражается в коже любимой.
Все остается. Так здравствуй, моя запоздалость!
Я не найду, потеряю, но что-то случится,
возле меня, да и после кому-то осталась
рваная осень, как сбитая осенью птица.
Белые церкви и бедные наши забавы,
все остается, осталось и, вытянув шеи,
кони плывут и плывут, окунаются в травы,
черные птицы снуют надо мной, как мишени.
1961
" Мы – судари, и нас гоня "
Эрлю
Мы – судари, и нас гоня
брега расступятся как челядь,
и горы нам запечатлеют
скачки безумного коня.
И на песок озерных плесов,
одетый в утренний огонь,
прекрасноликий станет конь,
внимая плеску наших весел.
1965
" Хорошо на смертном ложе "
Хорошо на смертном ложе:
запах роз, других укропов,
весь лежишь, весьма ухожен,
не забит и не закопан.
Но одно меня тревожит,
что в дубовом этом древе
не найдется места деве,
когда весь я так ухожен.
1967
СТИХИ ДЕТЯМ
У МЕНЯ ЧЕТЫРЕ БРАТА
У меня четыре брата.
Ну, а я, конечно, пятый!
Когда мне давали соску,
Сшили старшему матроску!
Старший брат носил матроску,
И второй носил матроску,
Ту же самую матроску,
Когда вырос старший брат
Третий брат носил матроску,
Ту же самую матроску,
Ту же самую матроску,
Из которой вырос брат.
А когда и третий вырос,
То ее надел четвертый,
Ту же самую матроску,
Из которой вырос брат.
Наконец, подрос четвертый,
Наконец, четвертый вырос,
И в желанную матроску
Нарядился я тотчас!
Только я надел матроску,
Как сказала мама: “Ах!”
Как сказала мама: “ Ах!
Две дыры на рукавах!”
Может быть, от этих слов
Разорвался сбоку шов.
Дружно лопнули заплаты,
Проступили всюду пятна.
Ничего не говоря,
Отвалились якоря!
И остались от матроски
Только дырки и полоски!
“Ну и ну, – сказала мама, —
Самый младший – трудный самый.
Все четыре старших брата
Были очень аккуратны.
Старший брат носил матроску,
И второй носил матроску,
Двое братьев предпоследних
Надевали столько раз.
Ты же раз надел матроску,
Только раз одел матроску,
И остались от матроски
Только жалкие обноски
Только жалкие обноски,
Только дырки и полоски!”
ИГРА
Вместо утренней зарядки
мы играли с мышкой в прятки.
Я водил —
считал до ста,
потом искал
во всех местах:
в дырках,
норках,
в каждой щели,
в сумке,
в тумбочке,
в постели.
Я смотрел во все глаза:
нету мышки! Чудеса!..
До сих пор бы я искал,
если б брат не подсказал:
– Ты пока считал до ста,
мышка спряталась в кота.
ТАКСИ
Шум и хохот в гараже:
заяц едет на еже.
Еж у нас теперь такси,
хочешь ехать – попроси!
КТО ВИНОВАТ
Двойку,
двойку,
двойку,
двойку
получила я опять.
Виновата в двойке клякса,
что попала мне в тетрадь.
Как она туда попала,
не могу никак понять.
Виновато одеяло,
и подушка и кровать
в том, что в школу опоздала
Я
опять.
опять,
опять.
В том, что я стакан разбила,
виновато только мыло:
ведь когда стакан я мыла,
мыло слишком скользким было.
Я вчера подралась с братом,
но ничуть не виновата:
ну, с какой, скажите, стати
он пускал по ванной катер?
Ведь собралась куклам платья
в это время постирать я.
Виноват, конечно брат,
только он и виноват.
Виновато все вокруг.
Кто обжег меня? Утюг!
Кто мешал решать задачи?
Телевизор, кот и мячик.
До сих пор мне непонятно,
кто на форму ставит пятна!
Но ведь что бы не случилось,
попадает только мне!
ВЕТЕР
Ветер тучи к нам пригнал,
долго бился у окна
и стучал и хлопал дверью,
гнул траву, ломал деревья
и, свистя,
ревел от злобы.
Нарисуй его!
Попробуй!
НЕ ХВАСТАЙ
Хвастал дым: “Я выше крыши,
из огня живым я вышел! “
Грянул гром ему в ответ,
ветер дунул – дыма нет.
ИЗ ЯНА БЖЕХВЫ
Муха шла по потолку
и сказала пауку:
– Посмотри-ка: там, под нами,
люди ходят вверх ногами!
ПОД ЗОНТОМ
Хлынул дождь. Малышка гриб
крикнул: “Мама, я погиб!”
Но сказала мама-гриб:
“Нам не страшен дождь
и грипп:
наши шляпки как зонты,
под дождем не мокнешь ты.
Мы под солнцем и дождем
и полнеем и растем!”
СТАНУ ВЫШЕ ВСЕХ
Завтра встану рано,
встречу великана,
и как только встречу —
прыг ему на плечи!
Вот когда я стану
выше великана!
ОБ АВТОРЕ
Валерий Шубинский
ПОЭТИКА ЛЕОНИДА АРОНЗОНА
(тезисы)
1
Одна из важнейших проблем, возникающих при анализе любого литературного явления последних десятилетий – проблема контекста. По отношению к поэзии Аронзона она замечательно иллюстрируется тремя его книгами, вышедшими посмертно.
Наиболее полное собрание стихотворений Аронзона появилось в 1998 году в издательстве "Гнозис". В предисловии к этому собранию, написанном поэтессой Викторией Андреевой, сказано: "Среди послевоенных теркиных и под бдительным оком отцов-попечителей… самое большее, что могли себе позволить шестидесятые – это конформный тенорок Окуджавы, наигранную искренность Евтушенко, пугливый авангард Вознесенского и пароксизмы женственности Ахмадуллиной да дюжину интеллигентски-робких Кушнеров… По существу это были все те же проявления маяковско-багрицкой советчины… Наряду с этим… дозволенным цензурой искусством возник мир "отщепенцев", поднимавшийся совсем на иных дрожжах."
Легко узнается здесь знакомая схема. "Послевоенные теркины" и "маяковски-багрицкая советчина" выступают в роли ненавистного самодержавия, "пугливые авангардисты" и "робкие кушнеры" (непроизвольно аукающиеся с "глупым пингвином", который что-то там "робко прячет" в утесах) – в роли меньшевиков и эсеров, а андеграунд – в роли ленинско-сталинской партии. Очевидно, что Аронзон при этом оказывается в длинном ряду "старых большевиков", героев эстетического противостояния режиму (пусть и занимает в этом списке одно из первых мест), а о его внутреннем споре с кем-то из собратьев по неофициальной культуре и речи быть не может.
Небольшая книга, составленная Владимиром Эрлем и вышедшая в 1990 году (это первое издание Аронзона в России) задает более узкий контекст. Главными именами "новой русской поэзии", помимо Аронзона, являются, с точки зрения составителя Станислав Красовицкий, Роальд Мандельштам, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Иосиф Бродский, Алексей Хвостенко, Константин Кузьминский. Список весьма субъективный, но задающий определенные эстетические рамки. Стоит заметить, что в нем представлены лишь поэты, родившиеся между 1930 и 1940, хотя сам Эрль принадлежит к следующему поколению.
Третья книга (первая по времени) была составлена в 1979 Еленой Шварц и вышла в самиздате приложением к журналу "Часы"; в 1985 она была переиздана в расширенном виде в Иерусалиме И.Орловой-Ясногородской, а в 1994 в еще более расширенной редакции – в Петербурге в серии книг ассоциации "Камера хранения" "ХХХ лет". В этой серии, кроме того, вышли сборники Олега Григорьева и Сергея Вольфа – поэтов, ни в коем случае не принадлежавших к официозу, при советской власти печатавшихся лишь как детские писатели, но и со "второй культурой" никак не связанных.
Для такого сопоставления были и некоторые биографические основания: дело в том, что Аронзон (так же как, кстати, и Бродский) в организованном литературном быту андеграунда (сложившемся лишь в 1970-е гг. – я имею в виду самиздатские журналы, квартирные чтения и т. д.) участвовать не мог просто хронологически. Но, разумеется, он был теснее связан не с Вольфом и Григорьевым, а с другими поэтами – А… Альтшуллером, одно время В.Эрлем и др. В числе молодых поэтов, вхожих в его дом во второй половине 1960-х годов, был Александр Миронов. Впрочем, наверное, не стоит преувеличивать значение биографического элемента: имя Тютчева стоит для нас рядом с именем Баратынского, с которым он не был знаком, а не с именами А.Н. Муравьева или Раича. И если мы сегодня вообще вспоминаем, скажем, «круг Малой Садовой», то лишь потому, что в этом кафе пили свой «маленький двойной» (или тогда это называлось иначе?) Аронзон и Миронов. А не наоборот…
Но если уж мы выходим за рамки "второй культуры", может ли разговор об Аронзоне идти в контексте чуть более широком – в контексте поколения? Можно ли рассматривать Аронзона как шестидесятника? И да и нет.
Сознание этого поколения строилось вокруг простой дуальной оппозиции "советский-несоветский". То же, конечно, можно сказать и о следующей генерации. Но если для людей, сформировавшихся в 1970-1980-е гг., совок (в политическом, философском, бытовом, эстетическом смысле) изначально означал нечто чуждое и враждебное – подлежащее вытеснению в себе и отстранению во внешнем мире, то для сверстников Аронзона дело обстояло несколько сложнее. Мир точно так же делился для них на "советскую" и "несоветскую" половины – но первая из них, как бы к ней тот или иной человек ни относился, составляла изначальное ядро личности и в этом качестве осознавалась, а вторая, включавшая православие и верлибр, йогу и Ренуара, сексуальную революцию и Баратынского, Хемингуэя и декабристов, Цветаеву и Энди Уорхола, Ремарка и Кафку (все, не адаптированное и не санкционированное прямо официозом), воспринималась как "чужое", пугающее и в то же время необыкновенно привлекательное, постепенно становящееся "своим". Шестидесятники еще помнили, кто они и откуда, и не мифологизировали себя в той степени, в какой это было свойственно следующим поколениям нашей интеллигенции. Та самая "маяковско-багрицкая советчина", которую так третирует В.Андреева, была основой поэзии Бродского в первый период (1958–1960), а Слуцкий и Мартынов – его учителями. Лишь затем началось освоение Серебряного Века. Аронзон тоже, вместе с другими, взахлеб открывал для себя и осваивал наследие, прежде всего, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. Острота восприятия и удивительная способность мысленно достраивать пропущенные детали картины сближала его с поколением. Но, вероятно, он был единственным в ту эпоху, на кого почти не повлияла советская поэзия и для кого сама коллизия "советский-несоветский" не имела большого смысла. В этом смысле он не был шестидесятником.
Поэтому его поэзия может быть рассматриваема лишь в самом большом культурном контексте. Мы обязаны мерить его если не вечностью, то по крайней мере большим временем русской культуры. Среди сверстников Аронзона есть лишь один, заведомо выдерживающий оценку по такой шкале – Иосиф Бродский. Потому – начнем со сравнения.
2
Принято считать, что Аронзон начинал «рядом» со своим великим соперником – и чуть ли не с подражаний ему.
В поэтике Бродского и Аронзона в 1960–1963 в самом деле немало общего. Оба они, пытаясь вырваться из плена обязательных для молодого поэта той поры тем и образов, пытались овладеть наследством «Серебряного Века». Отсюда и «обаятельные достоинства» и «юношеские недостатки» (цитируя посмертный отзыв Набокова о так и не повзрослевшем Поплавском). Однако нам интереснее различия – как фактурные, так и структурные. Они во многом объясняют полярно противоположную последующую эволюцию двух поэтов.
Стихи Бродского в этот период (как часто и позже) обычно имеют строфическую структуру; строфы представляют собой семантически замкнутые блоки, связанные синтаксическим и лексическим параллелизмом ("Плывет в тоске невыносимой…", "Плывет во мгле замоскворецкой…" и т. д.) и раскрывающие различные аспекты единой реальности. Условный, подчеркнуто и намеренно «несовременный» поэтический язык (восходящий к раннему модернизму) оживляется введением конкретных, инородных на первый взгляд деталей. "остраняющих" текст ("Бил колокол в местной церкви – электрик венчался там").
Ранние произведения Аронзона устроены совершенно иначе. Вот фрагмент стихотворения "Павловск" (1961):
…о август,
схоронишь ли меня, как трава
сохраняет осенние листья,
или мягкая лисья тропа
приведет меня снова в столицу?
Здесь задаются две возможности – но реализуется третья:
… явись, моя смерть, в октябре
на размытых, как лица, платформах,
но не здесь…
Реальность необязательна, точнее, множественна; различные ее варианты даются лишь очерком, намеком.
… и этой ночи театральность
превыше, Господи, меня.
… в каждой зависти черной есть нетленная жажда подобья
в каждой вещи и сне есть разврат несравнимый ни с чем.
Мир – не театр, а актер, он дробится, множится, притворяется собой, охваченный мучительной «жаждой подобья». Варианты видимой реальности – лишь его случайные «роли», но каков он вне этой игры, точнее – есть ли он? Существует ли не симулятивная реальность?
Ответ на этот вопрос дается в последующем творчестве Аронзона.
3
Выбор собственного пути, относящийся к 1963–1964 годам, связан с более четкой ориентацией среди литературных традиций давнего и (в особенности) недавнего прошлого. Аронзон выбирает, в частности, обэриутов.
Но в какой мере Аронзон знал наследие чинарей и членов ОБЭРИУ и что именно в их практике оказалось ему близким?
На первый вопрос мы пока можем ответить лишь предположительно, но, несомненно, Аронзон, защитивший в 1963 диплом по творчеству Н. Заболоцкого, хорошо знал стихи этого автора, в том числе и неопубликованные к тому времени… Творчество же Хармса и Введенского стало известно (достаточно узкому кругу молодых исследователей, в числе которых был, однако, и В.Эрль, близкий в этот период к Аронзону), лишь после того, как Я.Друскин в 1965 открыл для работы архив Хармса. Но к этому времени поэтика Аронзона уже в основном сформировалась. Он мог знать также Вагинова, однако, по свидетельству В.Эрля, не проявлял большого интереса к этому автору. Так им образом, перед нами во многом – плод того мысленного "достраивания", о котором мы говорили выше.
В 1960-е обращение к элементам обэриутской поэтики имело, как правило, два типа мотивировки. С одной стороне, ряд авторов (Кузьминского, А. Кондратьева, Эрля и хеленуктов, в определенной мере Сапгира и Волохонского) интересовало то, в чем обэриуты шли от футуризма и что лежало на поверхности – резкий иррационализм, прямые словесные игры, эстетика безобразного и т. д. Аронзон обращается к этому аспекту обэриутского наследия лишь в цикле "Запись бесед" (1968). С другой стороны, Уфлянд или Гаврильчик (и много кто – вплоть до Галича) использовали обэриутский юмор, в облегченном варианте, в целях социальной сатиры.
Аронзон пошел по совершенно иному пути. Он сумел увидеть у обэриутов то, что было выражено Хармсом, призвавшим "уважать бедность языка". Бедность в данном случае – это не только ограниченность лексики, но и отказ от лексического высокомерия.
Футуристы, как это ни парадоксально, были традиционнее в своем подходе к языку, чем молодые поклонники Хлебникова из Ленинграда 1920-х. Они исходили из академической лексической иерархии, которую можно было бы с вызовом нарушать. "Низкой", с традиционной точки зрения, лексике у них соответствовали низкие, с той же точки зрения, чувства и сюжеты, призванные «эпатировать обывателя». Но обэриуты, жившие уже в иную эпоху, уже могли без высокомерия отнестись к речевому поведению этого "обывателя", который по неведению выражает "высокие" чувства "низкими" словами (или наоборот), использует дискредитировавшие себя банальности и т. д. В конечном итоге, прежняя иерархия все равно рухнула; сейчас мир не структурирован, "кругом возможно Бог", а потому именно из этих банальностей может сложиться интуитивно улавливаемый и трагически случайный Порядок (в понимании Друскина и Липавского). Банальности, дешевые красивости, «галантерейный язык», по выражению Л. Гинзбург, разного рода клише пригодны к употреблению не потому, что они сохранили первоначальные высокие значения. Куда там! Но если в пожаре, уничтожившем сложный и утонченный инструментарий искусства, уцелели эти ошметки – как знать, может они в состоянии снова что-то значить.
Красавица, богиня, ангел мой,
исток и устье всех моих раздумий,
ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой,
я счастлив оттого, что я не умер
до той весны, когда моим очам
предстала ты внезапной красотою.
Я знал тебя блудницей и святою
любя все то, что я в тебе узнал.
Разумеется, субъект этого поэтического высказывания, «не знающий» о смерти слов, не может быть вполне тождественен подразумеваемому автору – но нельзя говорить и об их совершенном нетождестве. Подвижность отношений между "я" и «не я» – один из новых элементов, принесенных Аронзоном в поэзию своей эпохи. Эта подвижность – тоже результат влияния обэриутов (на которых в данном случае, как в отношении к «банальностям», в свою очередь несомненно влиял Кузмин). У Хармса, Введенского, раннего Заболоцкого и особенно Олейникова маска и лицо неразделимы и не просто меняются местами, а образуют некое «нераздельное и неслиянное» единство. У таких их учеников в поэзии второй половины века, как Пригов, эта двуединая сущность упростилась, вновь став «только (или почти только) маской». У Аронзона это «почти только лицо». Речь чуть-чуть закавычена, но лишь в той мере, в какой она сама осознает собственную уязвимость. Еще «чуть-чуть» – и кавычки исчезнут; волнующее ожидание этого момента, который каждый раз почти наступает – источник особого воздействия аронзоновской лирики.
4
Если в текстах Аронзона нет традиционной иерархии слов, которую заменяет чинарский «порядок» и стремление к чистоте, то в них нет и времени. В реальном времени разворачиваются метафизические конструкции Бродского. Раз прозвучавшее слово в них уже сказано, неповторимо сказано. Поэтому Бродскому нужно много слов, его словарь экстенсивен. Слово Аронзона стремится к единственности. Бродский, искавший «точное слово», ополчался на Блока, который осмеливался сказать «красивая и молодая». А для Аронзона именно это естественней всего. От слова требуется не новизна и точность, а емкость.
Чем более ячейка, тем крупней
Размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
Чем у ловца, посмеющего сметь
Огромную связать такую сеть,
В которой бы была одна ячейка.
Соответственно, многие стихи Аронзона строятся, как мантры. Одни и те же слова повторяются, бесконечно варьируясь:
Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в Вас,
поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами,
сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,
что полон Вашими ночными голосами.
Именно эта особенность поэтики Аронзона стала предметом пародии Бродского:
Когда снимаю я колготок
пред зеркалом в вечерний час,
я с грустью думаю – кого ты
сейчас, мой друг, кого сейчас,
кого, сейчас, кого, мой друг ты,
увы, мои сухие фрукты
тебя не радуют уже…
Любопытно, что эта пародия похожа наиболее «плотские» (по собственному определению) и наименее интересные и самобытные стихи Аронзона, в которых тот стремится оттенить «бедность языка» вкраплениями фламандской живописи в духе «Столбцов».
5
В этой мгновенной реальности постигается тайна, скрытая за единственным словом. Но если в романтико-символистской традиции (на которую Аронзон явно оглядывается) предметный мир и мир образов – код с более или менее постоянными значениями, которые могут быть прочитаны, то у него самого (как у обэриутов) символическим значением обладает случайная (на первый взгляд) языковая комбинация, одна из «ролей» вечно изменчивой сущности.
Что это за сущность? Аронзон в 1969 отвечает на этот вопрос с прямотой, которая невозможна даже для Хармса – наиболее связанного с религиозной традицией среди обэриутов:
Все – лицо. Лицо – лицо,
Пыль – лицо, слова – лицо,
Все – лицо. Его. Творца.
Только сам Он без лица.
Можно сказать, что в рамках обэриутской эстетики – казалось бы, безличной и антитрадиционалистской – Аронзон сумел найти отправную точку для возрождения личностного лиризма нового типа и истинной духовной и эстетической традиции (не имеющей ничего общего с ее упрощенными адаптациями, унаследованными от советской культуры). Именно с него начинается новый виток истории русской поэзии. И если эта поэзия не умрет – спустя сто лет поэтике Аронзона будут посвящаться толстые тома, а его имя вытеснит даже в общедоступных энциклопедиях имена многих его преуспевших сверстников.