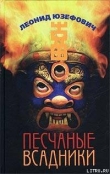Текст книги "Всадники"
Автор книги: Леонид Шестаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
О пожаре они помалкивают. Зачем говорить, если и так все ясно. Не ковать бы Порфирию мельничный камень, кабы не Севка! И не останови тогда Порфирий озверевшего хозяина, пожалуй, Севке тоже не сидеть бы сейчас в тенечке.
Быстро поладил Севка с плотниками и с пильщиками, которые установили высокие козлы и с утра до вечера пилят лес на доски. А вот к хозяину он после той ночи переменился. Раньше Севка побаивался его, даже уважал иногда. А теперь ни страха, ни уважения. Если случалось разговаривать, Севка не смотрел на Егора Лукича, а все мимо. И вообще старался не попадаться на глаза. Особенно после новой беды, которая нагрянула нежданно-негаданно.
Дедушка Илья, как обычно, прихватил железной скобой свежее, неотесанное бревно, чтобы не крутилось, и кликнул Севку:
– Помоги-ка, паря, разметить!
Вычернил Севка головешкой шнур, защемил один конец в приготовленную на торце бревна зарубку, а второй подал плотнику. Тот, прищурив глаз, туго натянул шнур, скомандовал:
– Бей!
Ущипнул Севка шнур на середине, оттянул, резко отпустил. По всему бревну пропечаталась ровная черная линия.
– Добре! – похвалил дедушка Илья и, переступив бревно, поплевал на ладони, взял топор.
Залюбовался Севка. Захотелось ему вот так же, по шнуру, тесать бревно, с придыхом кидать тяжелый топор точно на линию.
– Можно, я с другого конца? – спросил плотника.
Дедушка Илья оглянулся:
– Руки чешутся?
– Ага...
– Ну, спробуй. Только гляди не перекоси. И на линию не залезай. Я сам вчистую пройду.
Плотник тесал с комля, Севка зашел с макушки. Он так же переступил бревно, пропустив его между широко расставленными ногами, так же сделал косые надрубы и начал тесать, стараясь не залезать на отпечаток шнура, а снимать чуть поменьше, как было велено.
С макушки работать легче, тут горбыль тоньше, чем в комле. И Севка стал довольно быстро пятиться навстречу дедушке Илье, в охотку махая топором, выстилая вдоль бревна тяжелые смолистые щепки.
Руки в кистях занемели с непривычки, топорище начало жечь ладони. Но Севка не обращает внимания. Целится и с маху вонзает в древесину отточенное жало топора. Рубаха прилипла к телу, из-под картуза струится за ушами пот.
На беду, попался сучок. Топор срикошетил, и усталые Севкины руки не сдержали его.
Вскрикнул Севка, сел на бревно. Отшвырнул топор, обеими руками начал подымать раненую ногу, отваливаясь назад.
– Бож-же ж мой! – прошептал старый плотник, обернувшись. Наработали!
Подбежал к Севке, обхватил его, крикнул напарнику:
– Сюда, Терентий!
Они стащили с Севкиной ноги сапог, скинули намокшую портянку.
Кровь зашлепала по свежим щепкам. Терентий отвернулся.
– Сымай ремень, живо! – крикнул дед Илья. – Перехватывай выше колена.
Трясущимися руками Терентий наложил ремень, но никак ему не попасть концом в пряжку.
– Не копайся, закручивай как есть!
Прибежали пильщики. Прибежал Порфирий. Кое-как остановили кровь, подняли Севку, перенесли в завозчицкую.
Порфирий поставил возле нар разрубленный Севкин сапог, тронул за локоть старого Илью:
– Ремень-то надо сымать, ты как считаешь? А к ране хорошо бы приложить чистой землицы.
– Не надо земли! Не дам! – крикнул Севка.
– Это почему же? Земля – она завсегда полезная.
– А я не дам! От земли может столбняк приключиться, – вспомнил Севка неизлечимую болезнь, про которую рассказывала в госпитале Клава.
Рану перевязали чистым холщовым полотенцем, найденным в сумке запасливого деда Ильи. Сняли ремень. Сквозь полотенце проступило темное пятно.
Мужчины присели на лавку, закурили. И хоть всех ждала оставленная работа, никто не торопился уходить. Ведь не бросишь человека одного, если с ним приключилась такая беда.
– Что за сход? Может, и меня примете в компанию? – вошел в завозчицкую Егор Лукич.
Дед Илья встал, снял с лысой головы картуз.
– Дела, брат, невеселые, Лукич. Парень твой гляди-ка...
– А что с ним? – посуровел хозяин.
– То, что я, старый дурак, недоглядел! Ногу он развалил топором. На самой щиколотке.
Егор Лукич шагнул к нарам, постоял над Севкой. Поднял с пола сапог, заложил в прорубленную дыру два пальца, покачал головой, вроде бы сожалея, как сильно повреждена нога. На самом же деле он сожалел о другом, и это всем бросилось в глаза, даже Севке.
"До чего человек жаден! – удивился старый Илья. – Ногу ему не жалко чужая. А сапоги-то – своя вещь, они денег стоят".
– До свадьбы заживет, – кивнул хозяин на укутанную полотенцем Севкину ногу и бросил под нары сапог. – Отлежится, и вся недолга. А нам сидеть не с руки, каждая минута на учете.
Мужчины молчком затоптали свои цигарки, встали с лавки. А Севка отвернулся к стене.
Глава XVI
НЕВИДИМАЯ ДВЕРЬ
Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой
Порфирий пел редко. Но уж если запоет – заслушаешься! Он выбирал грустные песни и вкладывал в них не только свой могучий голос, но и душу. Казалось, это Порфирий поет про себя, тоскует о своей неудавшейся жизни.
"Может, и те четверо тоже с Сахалина, – думает Севка. – Поверили на слово оборотистому Демьяну Ржаных, деду хозяина. Нашли кому верить! Ясно, что это он, Демьян, и направил урядника по следу. Люди зря не скажут".
Далек-далек бродяги путь
Укрой, тайга его глухая,
Бродяга хочет отдохнуть.
Красиво сказано в песне: "Укрой, тайга!" Не укрыла вот. А люди рисковые были. Пешком через всю Сибирь! Пешком? Ну да, это еще когда железную дорогу не провели... Так чего же Севка сидит? Зажирел, что ли, в Гусаках? Он ведь не Турбай, который не смеет отойти от будки. Он человек. Всадник! В Сибирь-то ведь приехал. Ни билета в кармане, ни денег, война по всей России, а приехал. С каторги и то люди бежали, а ему всего лишь от хозяина.
Мысленно он уже в пути. Прежний Севка – жилистый, быстрый и ловкий. Летят навстречу знакомые станции, подводит с голодухи живот, ветер бьет в лицо, силится скинуть с крыши. Шалишь, Севка на поезде не новичок! А впереди Москва. "Здравствуйте! Не ждали?"
Ух, хозяин вскипит! Ну и плевать! Пусть хоть лопнет от злости. Паук! Сапоги пожалел, а Севкину ногу не жалко.
И тут услужливая память издалека принесла не раз слышанные от покойной бабки слова: "Снетковы сроду на чужое не зарились..."
Когда пустили мельницу после ремонта, встал и Севка с нар. Одну ногу обул в сапог, другую, раненую, – в опорок. Хромает возле весов, записывает в книжку пуды и фунты, разводит завозчиков, если те сцепятся из-за очереди. Только все это теперь словно бы его и не касается. Ему безразлично. Будто захлопнулась какая-то дверь, а за ней остались и мельница, и хозяин, и все Гусаки.
И вдруг эта дверь отворилась!
В субботу Севка засобирался было за продуктами. Померил на раненую ногу разрубленный сапог – нет, не надеть. Задача! На мельнице – и так ладно. Но не хромать же по деревне в такой разномастной обувке: одна нога в сапоге, другая – в опорке.
Вышел из завозчицкой, сел на ступеньку крыльца и ничего не может придумать. Разве подождать, пока стемнеет?
В это время что-то запылило на дороге. Севка сощурился от закатного солнца, бившего в глаза, пригляделся. Да это же Назарка! То шажком пройдется на своих кривых, то рысцой пробежится. Заметив Севку, наддал еще пуще.
Прибежал, и никак не отдышаться. Густые ресницы запылились, козырек картуза съехал на сторону, а за спиной – торба с продуктами. Маленький, коренастый, круглый, как колобок.
– Здравствуй, Назарка! Что это ты прибежал? Еды принес?
– Ага, еды, – кивнул Назарка, развязывая торбу. – Хлеб... сало... а это нельма! – вытащил он копченую рыбину, завернутую в тряпицу.
– Ого! Тетка Степанида положила?
– Не-е, – помотал головой Назарка. – Взял в кладовке.
– Сам? Разве ж можно?
– Там этой нельмы – завались.
– Большой ты вырос, Назар, и когда только успел? – спросил Севка, вспоминая свою первую встречу с Назаркой. – Небось скоро на мельницу заступишь... на мое место.
– Не-е! Я лучше на своем, – захлопал ресницами и насторожился Назарка, силясь понять, зачем этот разговор.
– Что это ты сегодня зеваешь? Не выспался?
– Чего-то вот тут болит.
Сдернул Севка картуз, пощупал Назаркину голову – горячая!
– Купался в Тавде?
– Не-е, не купался.
– А по воде ходил? Небось рыбу ловил?
– Ловил... Только не клюет.
– Значит, простыл, – заключил Севка. – Домой побежишь или на мельнице переночуешь?
– На мельнице...
– Ну, тогда марш на мою постель! А то стоишь босиком, а тут сыро от реки.
Среди ночи Севка проснулся. Рядом сопел Назарка, от него веяло жаром, как от печки.
– Дядя Порфирий! – тихонько позвал Севка. – Что это с ним?
– А что? – отозвался мельник, словно и не спал.
Порфирий слез, прошлепал босыми ногами к лампе, прибавил огня и вернулся к нарам.
– Да-а, брат! – дотронулся до Назаркиного лба. – Так и горит. Липовым бы отваром напоить.
Проснулись завозчики. Начали советовать каждый свое.
– Что твой отвар! – возразил один. – Влить бы ему с полстакана самогона-первача. Враз бы как рукой...
– Оно бы неплохо, – перебил второй. – Но ведь малое дитя. Его нутро, поди, не примет этой гадости.
– И то верно, – согласился первый. – Нипочем не примет.
Утром Порфирий смотался в Гусаки, привел Егора Лукича.
Назарка проснулся и сразу захныкал. За ночь он осунулся, глаза ввалились.
– Что болит? – спросил отец. – Голова?
Отвернулся Назарка, ничего не сказал.
Над ним склонился Севка, зашептал:
– Так нельзя! Ты скажи. Может, у тебя и еще что болит, не одна голова?
Назарка с усилием проглотил слюну, указал пальцем на горло.
Ему силком разжали челюсти, заглянули в рот.
– Должно, горловая, – неуверенно проговорил Порфирий. – Если так дело сурьезное. Называется скарлатина.
Порешили отвезти Назарку домой, в Гусаки. Но он уцепился за Севку и ни в какую!
Так и остался.
Порфирий вскипятил чайник, заварил какой-то травы, остудил, насильно влил в Назаркин рот ложки четыре отвара.
И помогло. В обед Назарка с охотой похлебал свежей ухи, съел вареное яйцо. На глазах повеселел, даже на мельницу запросился.
Севка на мельницу его не пустил, оставил лежать в завозчицкой. А сам нет-нет да и наведается к нему. Погладит неровно остриженную ножницами Назаркину голову, невзначай пощупает лоб, пошутит и снова захромает к своим весам. Если Порфирий высунется из люка, покажет ему издали: мол, все в порядке!
Но к вечеру снова заскучал Назарка. Ночью метался в жару, стонал, лепетал невнятное.
И так всю неделю: к вечеру – хуже, к утру – получше. Назарка похудел, ослаб, стал желтый, никого к себе не подпускал, кроме Севки.
В седьмую ночь Порфирий разбудил Севку.
– Беда! – указал глазами на метавшегося в бреду Назарку. – Веди хозяина!
Запыхавшийся Севка приковылял в деревню, стукнул в окно. Чуть выждал – и кулаком в раму!
Переполошился хозяин, выскочил босой, в исподнем белье.
– Оглушил! Или случилось что? – уставился на Севку.
– Назарка помирает. Запрягайте скорей!
– Как? – потерял голос Егор Лукич. – Куда ж ты его? – спросил шепотом.
– В Горяны. Давно бы к фельдшеру...
– Вона! Это же с гаком шестьдесят верст. Да и в Тобольск мне. А-а, черт!..
– Я повезу, раз некому, – решился Севка.
– Куда ж ты, хромой? Да и дороги, поди, не знаешь.
– Найду, запрягайте!
Заложили старую Кушевку. Севка постелил в телегу охапку сена. Егор Лукич вынес тулуп, перекрестился, отворил ворота:
– Ну, паря, с богом!
Севка гнал на мельницу в галоп. Бросил вожжи, схватил тулуп и – в завозчицкую.
– А где ж хозяин? – скосился Порфирий на дверь.
– Нет хозяина. Ему в Тобольск, – нахмурился Севка. – Мне ехать.
– Тебе? А как же ты в одном сапоге?
Севка подошел к нарам, поднял с пола сапог и, стиснув зубы, впихнул в него раненую ногу. Встал, поморщился, через силу улыбнулся:
– Сойдет! Собирай Назарку, дядя Порфирий.
Порфирий закутал Назарку в тулуп, вынес, бережно посадил на сено. Негодуя на свой раскатистый бас, проговорил как можно мягче:
– Выходит, не поднял я тебя зверобоем-травой. Ничего, брат, не поделаешь! Потерпи, хлопец, до фершала, он человек ученый, не нам чета. Потерпи... Мы еще с тобой во каких окуней наловим! И щук наловим на живца. Ну, счастливого пути!
Севка тронул вожжи. Кушевка осторожно взяла с места, пошла, прибавляя шагу. На мягкой от пыли дороге совсем не трясло.
– Так не забудешь, где свертывать? – крикнул вслед Порфирий. – На выезде из Бородулина – развилка: правая пойдет на Голынку, а тебе по левой держать.
– Не забуду! – обернулся Севка. – Счастливо оставаться!
Шестьдесят верст – путь не близкий. Хороший хозяин за такую дорогу раза два покормит лошадь, не меньше.
Севке кормить некогда: все дергает и дергает вожжи – поторапливает кобылу. А она и так не ленится, бежит резво, благо ночной холодок, мухи не докучают.
В лесу пошла тряская дорога – по корням. Кушевка уж на что привычная, но и она спотыкается, сердито фыркает. Подпрыгивает в передке телеги Севка, подпрыгивает Назарка, закутанный в тулуп.
Страшно Севке. Не темноты боится, не волков. Из головы не выходит одна-единственная мысль: вдруг Назарка умрет в дороге!
Время от времени Севка наклоняется, распахивает лохматый воротник тулупа, настороженно слушает: дышит ли?
Запахнет тулуп, подергает вожжи, глянет на темное небо. Скорей бы уж утро! Утром Назарке становится легче.
Наконец рассвело. Сперва попрятались в небе звезды, потом серо стало вокруг, и вот словно огненная игла проколола тайгу. Отчетливо стали видны каждый листок на березе, каждая хвоинка на ели.
Осторожно раздвинув воротник тулупа, Севка глянул Назарке в лицо. "Спит, – подумал он. – До чего умаялся... А вдруг не спит? Вроде не дышит..."
– Назарка-а! – закричал Севка, холодея от страха. – Открой глаза. Слышишь!
Не открыл. Лишь ресницами шевельнул. Но Севке и этого достаточно.
Дорога начала падать вниз. Кушевка перешла на шаг и, приседая, стала сдерживать напирающую телегу. Дойдя до ручья, остановилась, потянулась к воде.
Севка вспомнил, что за всю дорогу ни разу не поил кобылу. Соскочил, отпустил чересседельник, а сам не сводит глаз с телеги, держит под прицелом тулуп.
И вдруг тулуп шевельнулся! Назарка силится выплюнуть что-то и только пускает пузыри.
– Ляг на бочок, ляг! – кинулся на помощь Севка. – Вот так, – повернул он Назарку. – А теперь плюй.
Назарка долго выплевывал густую слюну, свесившись с телеги. Наконец повернул голову, посмотрел на Севку.
– Ну, как ты? Не лучше тебе? На-ка вот пополощи рот, – достал Севка из-под сена бутылку с кипяченой водой.
Схватил Назарка бутылку, начал пить, проливая себе на грудь, на тулуп. Чуть передохнул – и еще. Севка потянулся было к бутылке, хотел взять. Нет, не отдает, сердито трясет головой!
– Что это ты воду? Может, перекусим? – предложил Севка.
– Давай!
– Чуть погодя. Ладно? Мы ведь горячую Кушевку напоили.
– Ладно! – наклонил голову Назарка. Он тоже понимает: раз горячая кобыла напилась – нельзя ей стоять.
Проехали с версту шагом, свернули на поляну. Севка выпряг Кушевку, стреножил. Хотел снять Назарку, а тот уже и сам слез.
– Одурел ты! – прикрикнул Севка, хватая с телеги тулуп. – Босыми ногами на землю!
Усевшись на тулуп и послушно накрыв ноги, Назарка с охотой съел два отваренных всмятку яйца и потребовал сала.
– Сала? – удивился Севка. – Больному нельзя!
– А я и не больной!
– Как же не больной? Голова-то болит?
– Не-е, не болит.
– А горло?
– Горло маленько болит.
Хочется Севке верить, что и правда Назарка выздоравливает на глазах. Но не очень верится. Прилег под куст, грызет травинку, а сам все поглядывает на солнце. Надо поторапливаться! Дорога-то велика. Ну как Назарку опять к вечеру скрутит! Хватит с Севки и того страху, которого он натерпелся за минувшую ночь.
Встал, пошел за Кушевкой. А когда вернулся, не застал Назарки на тулупе.
– Босой! – всполошился Севка. – Эй, где ты там, неслух? Айда ко мне!
Совсем близко зашуршали кусты, показался Назарка с картузом в руке. Шустрый, словно и не больной.
– Тебе набрал. Спелая! – протянул он в картузе горсти две земляники.
Подхватил его Севка, усадил на повозку, начал запрягать.
На закате въехали в Горяны. Севка достал на всякий случай кнут – от собак. Придержал Кушевку возле колодца, выждал, пока старуха в низко повязанном черном платке вытянет бадью, спросил:
– Где тут у вас фельдшер, бабушка?
– Фершал-то? – навострила глаза старуха. – А для чего он тебе понадобился?
– Вот привез парнишку. Горло у него.
– Так это не к фершалу. Вези прямиком к бабке Архипихе. Она лечит от рожи, от грудницы, от кашлю, от дурного глазу – от любой хворости. Горло ей – раз плюнуть! Пошепчет, даст святой водицы – и как не хворал человек.
– Нет уж, бабушка, нам к фельдшеру, – возразил Севка.
– Ну, если к фершалу, так и ищи сам! Я тебе не указчица! – Подхватив ведра, старуха зашагала через улицу.
Фельдшер работал в саду. Заметив остановившуюся подводу, он как был в сите, с дымокуром в руках, – так и подошел к частоколу.
– Не ко мне ли нужда привела? – спросил.
Севка не вдруг нашелся, что ответить. Попробуй поговори, если у человека вместо лица – черное сито!
– Нам бы фельдшера, дядя.
– Я и есть!
– Вы? Вот привез парнишку. Горло у него. Скарлатина...
– А ну, тащи в избу! – сердито приказал фельдшер.
Без сита он оказался обыкновенным старичком с аккуратно подстриженной седой бородой. Вошел со двора, вытер холщовым полотенцем большие руки.
– Сюда садись, к свету, – указал Назарке. – Так. Разевай рот!
Севка стоял поодаль, с интересом поглядывая, как фельдшер осматривает Назарку, велит ему тянуть: "а-а-а-а!", "о-о-о-о". Теперь-то Назаркино дело в шляпе! Главное было – довезти.
Фельдшер и минуты не глядел в Назаркин рот. Нацелился в Севку сердитыми глазами, с наигранной строгостью спросил:
– Что ж ты мне здорового привез? Смеешься над стариком! Это ж Илья Муромец!
– Как здорового? – опешил Севка. – Сегодня ночью...
– Мало ли что было ночью, а сейчас он – богатырь. Разве не видно?
Севке ничего не видно. Стоит смущенный и не знает, что сказать.
– Напугал ты меня, парень, – уже не шутя заговорил фельдшер. – Я думал, и правда... А была у него всего лишь ангина. Была – и нету! Лопнул нарыв, одна краснота осталась. На глазах небось повеселел? Вы чьи же будете, откуда?
– Из Гусаков. Он – Назарка, Егора Лукича сын, а я – работник на мельнице. Севкой звать.
– Понятно, – кивнул фельдшер. – А теперь, молодцы, давайте-ка отведаем свеженького медку. Как раз перед вашим приездом из улья достал. Полезнейшая вещь!
Вот как бывает в жизни. Давно ли Севка был самым разнесчастным человеком, давно ли замирал от страха, что не довезет Назарку? А сейчас он сидит за столом, перед ним полная тарелка душистого меду, рядом здоровый и веселый Назарка, а напротив – этот душевный старичок, фельдшер. И нет сейчас во всем свете человека счастливее Севки.
– Говоришь, в работниках на мельнице? – вернулся фельдшер к прерванному разговору. – А сам-то откуда будешь?
– Из России. Меня, дедушка, в Москве ждут. Кабы ногу не повредил, мой бы уж и след простыл.
Назарка не принимал участия в разговоре. Широко разевал рот, откусывал от янтарно-золотистой плитки сотовый мед и, блаженно жмурясь, прожевывал, облизывая липкие пальцы да поглядывая большими, внимательными глазами то на фельдшера, то на Севку. Про болезнь уж и думать забыл.
Дело сделано. Теперь с чистой совестью можно было пускаться в обратный путь. Но фельдшер рассоветовал:
– На ночь-то глядя? Ни к чему. Переночуете, а с рассветом пожалуйста.
Улеглись они под поветью в свой телеге, накрылись тулупом. На дворе холодок, а Севке с Назаркой тепло и уютно. Лежат, молчат. Думают.
Теперь, когда беду пронесло, Севкины мысли повернули в прежнее русло. Как раз и нога поджила. Вроде ничто не задерживает его в Гусаках.
Не до сна и Назарке. Он ведь не глухой – слышал, как Севка сказал: "Кабы ногу не повредил..."
"Вот-он как! – думает Назарка. – Уедет, а я?"
Терпел, терпел – да в слезы. Обхватил Севку за шею, прижался, аж дрожит. Ревет и уговаривает:
– Савостьянка, миленький, не надо! Не хочу-у без тебя... Тут будь... Пускай Зина в своей Москве...
Понял Севка, что проболтался. Не только фельдшер – Назарка и тот узнал его тайное намерение! Так и до Степаниды, до Егора Лукича дойдет.
– Легко тебе говорить "тут будь", если в Гусаках твой дом, – сказал он Назарке. – Малость подрастешь – на мое место заступишь. Придет время и вовсе хозяином мельницы заделаешься. А мне, выходит, весь век в работниках?
– Не хочу хозяином! – крикнул Назарка. – На черта мне сдалась та мельница!
– Мало ли что не хочешь. Она так и так твоя.
– Тогда и меня в Москву! Поедем, Савостьянка, чихать нам на Гусаки!
Замолк Севка, а сам подумал: "Послушал бы Егор Лукич! Тот надеется вырастить из сына второго Демьяна, чтоб тоже с двустволкой... А Назарка плевать хотел на все богатства".
Проще простого казалось Севке сбежать от хозяина. А на самом деле совсем не просто. Ведь это же и от Назарки сбежать! Бросить! Живи, мол, как сам знаешь, моя хата с краю. Однажды он бросил было человека на произвол судьбы, да, к счастью, скоренько одумался. Не дал пропасть.
Если б Севкина воля, забрал бы он парнишку в Москву. Так ведь это лишь подумать легко, а сделать и вовсе невозможно. Но и бросить нельзя!
Второй раз в жизни он как бы на распутье. В Тюмени тогда и вот сейчас: никак ему не решиться.
А тут еще память подсказывает: "Снетковы сроду..."
– Не спишь?
– Не-е! – шевельнулся Назарка.
– Спи! Я им тебя не отдам.
– Кому?
– Никому! Ни отцу, ни Демьяну, ни самому атаману Семенову.
Не очень-то понял Назарка, но переспрашивать не стал. Эти слова показались ему настоящими.
Глава XVII
КАЛАШНЫЙ РЯД
Сгорело под солнцем короткое сибирское лето, минула осень. Второй раз за Севкину бытность в Гусаках стала под свист метелей Тавда. Берега в снегу по колено, а лед чистый, подметенный сибирскими ветрами. Стужа лютая. Тишина. Только деревенские псы нет-нет и всполошатся, поднимут лай, когда гулко выстрелит на Тавде синий лед.
Чутко прислушивается к лаю Севка. Ждет, что войдет в Гусаки какая-то хорошая весть, которая коснется и его жизни. Остался он в Гусаках, но верит, что не навсегда. Настоящая его жизнь не здесь. Надо лишь перетерпеть какое-то время.
Подрос Севка, раздался в плечах. Пожалуй, не вдруг и узнала бы сейчас Клава Лебяжина того белобрысого "кавалерию", которому повязала на шею пуховый платок. Особенно в ту минуту, когда Севка, ухватившись за хохол и боднув коленями, кидает с весов пятипудовый мешок.
Подрос и Назарка. Плечист, как и раньше, коренаст, а вот ноги не прежние. Ноги почти что выпрямились!
Назарка теперь на мельнице частый гость. Он и еду приносит в заплечной торбе, и просто так прибегает, когда вздумается.
Однажды припожаловал не один. Короткий зимний день уже был на исходе, как вдруг отворилась дверь – и вслед за Назаркой вошел кто-то высокий в шинели. Глянул Севка и остолбенел: перед ним стоял Егор Лукич, только без бороды и очень молодой.
– Это и есть твой знаменитый Севка? – обратился вошедший к Назарке.
– Ага, Севка!
– Рад познакомиться! – протянул руку Назаркин спутник. – Дмитрий Ржаных, брат вот этого человечка.
Севка пожал сухую ладонь и тут же услышал раскатистый Порфириев бас:
– Дмитрий Егорович! Вот не ждал! Какими тебя ветрами принесло?
Они троекратно расцеловались.
– Вымахал ты, парень! – дивился Порфирий. – И скажи на милость, ну, весь в папашу! Вылитый!
– Так уж и в папашу! – отшутился Дмитрий. – А ты, старина, нисколько не изменился, словно и годы эти не прошли. Я всегда подозревал, что знаешь ты петушиное слово.
– Какое там слово! Вот бы тебя послушать... Навидался, поди, за эти годы. Ты, Митя, насовсем сюда или только на побывку?
– Вообще-то на побывку, – сказал Дмитрий. – Но, как видно, придется пожить в Гусаках, приглядеться к теперешним порядкам. Вот и с Севой хочу ближе познакомиться. Назарка мне его расхвалил – дальше некуда, а отец аттестует сдержанно, про какой-то полушубок поминал.
– Что ж мы стоим? Айда в завозчицкую! – пригласил Порфирий. – Там как раз никого теперь. Мужики-то не охотники пускаться в дорогу в канун рождества. Небось сейчас бани топят.
У Порфирия нашлась бутылка самогона. Он выставил ее на стол, нарезал сала, хлеба, начал потчевать гостя.
Беседа затянулась. Назарка давно спал на нарах, а Севка слушал, не пропуская ни слова.
– Спрашиваешь, как живем? – гудел Порфирий. – Как жили, так и живем. Один черт: что при царе, что без царя. Это в городе, там, может, и есть какая разница, а здесь нет. Правда, деревенская голь, беднота то есть, теперь побойчее стала, погорластее. Раньше-то она молчком голодала. Ну, а что толку? Хоть кричи, хоть не кричи – этим брюхо не наполнишь. Я тебе, Митя, одно скажу: от веку были сытые и голодные да так, наверное, до веку и останется. Кто пристроится на чужом горбу, тот и сыт. К примеру, твой папаша: помалкивает, а сам гребет фунты за помол. Пристроился.
– От веку, говоришь? – спросил Дмитрий. – А ведь было время, когда все одинаково жили. Давно, правда, но было.
– Ну и что, они здорово сыты были, те люди? – с недоверием спросил Порфирий.
– Пожалуй, не очень. Скорее впроголодь. Но зато все...
– Хо! Сказанул! Когда все голодные – какая же в том заслуга? А ты сделай, чтоб все до одного сыты. Небось кишка тонка. Ты, может, и рад бы, да не знаешь как. Вот и я не знаю.
– Почему же не знаю? – возразил Дмитрий. – Это известно. Ты небось Ленина не читал, а мне приходилось. Владимир Ильич Ленин доказывает, как дважды два...
– Мало ли что доказывает, да я что-то не вижу на деле, – упорствовал Порфирий.
– Увидишь! Ну, когда ж было? Ты сам посуди – ведь война!
– Насчет войны – это ты верно, – согласился Порфирий. – Война она... одним словом, не родная мать. А что касается остального – поглядим. Может, оно и верно. Так Ленин, говоришь, книжки пишет? Вон как! А мы, темные, и не читаем.
Порфирий по ночам частенько наведывался на мельницу. Пройдет с фонарем по всем закоулкам, посмотрит, принюхается, не дымит ли где, не пахнет ли паленым. Завозчики ведь смолят табак, им не запретишь. Ну как бросил кто не к месту окурок! Сразу-то его не увидишь.
– Посиди, Митя, если не торопишься, побеседуй вот с Севкой, он парень умственный, – кивнул Порфирий, надевая треух. – А я там не задержусь. Служба есть служба.
Дмитрий, как видно, не торопился домой. Оглядел пустую завозчицкую, повернулся к Севке:
– Как же тебя в Гусаки занесло? Я так, признаться, из них сбежал.
– А и я чуть не сбежал! – выпалил Севка.
– Чуть не считается. Что ж тебе помешало?
Пойманным воробьем затрепыхался Севка. Торопится растолковать, да все не те слова приходят в голову.
– Я, Дмитрий Егорович, будто стреноженный конь. Путы на ногах! Не слыхали небось, как я на Кушевке через Тавду?..
– Слыхал, брат. Родитель успел доложить.
– Ну вот. Знал ведь, что кобыла жеребая, да с перепугу погнал ее в воду. Как все равно чуяло сердце, что в занявшейся огнем мельнице дядя Порфирий спит...
– А не за полушубком?
– Что вы! Он у меня в ту минуту из головы вон. Вспомнил лишь, когда замок на своей каморке увидел. Тут уж я из последних сил, потому что полушубок и не мой вовсе.
– А чей?
Севка – руку под подушку, выхватил бумажник, развернул исписанный лоскут овчины:
– Вот чей! Самому товарищу Ленину дареный... Товарищ Ленин подарил для Красной Армии. А мне от пулеметчика Дроздова достался. Раненого укрыл меня дядя Федор в эскадроне. Не верите?
– Как тут не поверишь, если документы в руках! – Уставился Дмитрий на Севку. Орел перед ним, а никакой не стреноженный конь!
– Что ж ты прибедняешься, чудак? На крыльях должен парить, какие же путы?
– Дуты! – упрямо повторил Севка. – Меня давно в Москве ждут, а мне не сдвинуться.
– Почему?
– Потому! Убеги от хозяина, так ты сразу вор. Жеребенок-то на моей совести! А тут еще Назарка повис на мне: или будь в Гусаках, или бери его в Москву! Зина мне письмо за письмом. И в каждом: "Лежачий ты камень!.."
Встал Дмитрий, положил Севке на плечи большие руки.
– Можешь написать своей Зине, что ты не камень вовсе, а человек. Хороший человек! Вот терпение у тебя и вправду каменное. Ну, да и каменному приходит конец.
На крылечке заскрипели половицы. Возвратился Порфирий, погасил фонарь.
– Вызвездило! Ночь – ни дать ни взять – та самая, про которую Севка в книжке читал. Одного Вакулы с чертом не хватает да царицыных черевичек... Гоголя Николая Васильевича сочинение, – пояснил он Дмитрию. – Может, доводилось читать?
– Доводилось! – улыбнулся Дмитрий и стал собираться домой.
Назарку он будить пожалел. На прощанье сказал:
– Завтра приведете. Я ведь не просто вас навестил, а еще и в гости приглашаю. Чтоб оба были! Будете?
– Будем! – ответил польщенный Порфирий. За все годы службы у Егора Лукича он впервые удостоился чести быть приглашенным в хозяйский дом.
На следующее утро не торопились вставать. Кривоглазый Спирька, церковный звонарь, как ни старался, а не поднял к обедне ни Порфирия, ни Севку.
– Пускай хозяин за нас отмолится, усмехнулся Порфирий, равнодушно слушая звон. – У него грехов-то поболе нашего. Небось надевает сейчас свою праздничную жилетку, золотую цепь от часов поперек пуза вешает. Всю обедню будет красоваться на почетном месте у самого клироса, а в голове божественного кот наплакал.
Порфирий не ошибся. Егор Лукич стоял в церкви, но от божественных мыслей был весьма далек. По непростительному легкомыслию обулся он в новые сапоги. Сперва, казалось, все ничего. Но обедня длинная; пока стоял, заныли, загорелись ноги.
"Удружил-таки Алешка Семицветов, сукин сын! – кипел Егор Лукич. Говорил дьяволу – шей посвободнее, мне не перед девками форсить. Так нет же, сделал какие-то шилья... Может, с умыслом? Неужели еще тот зуб помнит, шельма?
Лет тридцать назад молодыми парнями встретились Егор с Алешкой-сапожником в кулачном бою. Егор был половчее. Он успел присесть, и Алешкин удар пришелся по воздуху. Зато сам Егор, не замахиваясь, двинул тычком. Алешка пошатнулся и вместе с кровью выплюнул на снег передний зуб. Может, теперь он и припомнил Егору ту давнюю обиду? Почем знать.
Обедня затянулась. Егору Лукичу все не в жилу: и дьяк гнусавит, раздражает, и поп бормочет свое, как сонный, и звонарь Спирька службы не знает, одноглазый мерин! Бухнул бы в колокола, хор запел бы "Верую", глядишь, поп и сообразил бы, что пора кончать. Будто господу-богу не все равно, длинно ли молятся, коротко ли. Может, короткая молитва ему еще и приятнее.
Наконец служба кончилась. Загудели над Гусаками редкие удары колокола. Егор Лукич вздохнул с облегчением и двинулся к попу, который уже приготовил крест для целования.
Но и тут ему не было удачи: откуда-то вывернулся плешивый старик Роман Гнедых, главнейший в Гусаках пьяница, и успел-таки первым приложиться к холодному серебру.