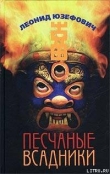Текст книги "Всадники"
Автор книги: Леонид Шестаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Живой, значит, командир! А комиссар?
– Живой! – кивнул Гаврилов. – Этот Касаткин как заговоренный: в самое пекло лезет – и хоть бы царапина. Командира за это время уже два раза пули дырявили да шашкой в конной атаке какой-то офицерик маленько достал. Но, слава богу, обошлось. Опять Ребров в строю на своем Бурьяне.
– А дядя Федор?
– Это какой?
– Дроздов. Пулеметчик...
– Дроздов? Нету Федора Дроздова! Давно нет! Еще в России сложил голову... Кабы не Федор, то и нам бы с тобой сейчас не разговаривать. На верную смерть пошел, а эскадрон выручил.
Замолк Севка. Как это нет Дроздова? Вот он стоит перед глазами живой. В застиранной гимнастерке, с портупеей шашки через плечо!.. "Крепись, Савостьян... поклон от эскадрона..." А полушубок? Ведь Севка его дяде Федору вез...
В середине дня Гаврилов уехал с завозчиком. Обнял на прощанье Севку, приказал безотлагательно написать командиру и без его ответа никуда с места не трогаться.
– Может статься, не в ту сторону кинешься догонять, – предупредил Сергей.
Час спустя на мельницу ввалилась запыхавшаяся Зина. Голова по самые брови закутана в платок, на ногах растоптанные Степанидины валенки. Но лицо сияет, как ясное солнышко.
– Случилось что? – удивился Севка ее неожиданному приходу.
– Случилось! – загадочно ответила Зина...
– Говори скорей, не тяни!
– Ух, раскричался! Вот теперь и не скажу, – с деланной обидой упрекнула Зина. – Я ему привет принесла, кучу новостей, а он...
– Письмо от Клавы? – не утерпел Севка.
– От мамы!
– Что-о?
– То-о! От самой Веры Константиновны, моей мамочки. Вот! – Зина выхватила из-за пазухи письмо, поцеловала его и отдала Севке. – Читай, оно и тебе тоже.
Зинина мать за время странствий натерпелась лиха. Ее начисто обокрали в поезде, забрали предназначенные для обмена вещи. Скиталась по деревням Поволжья в надежде заработать на обратную дорогу. Одежонка плохая, а обувь и того хуже – подвязанные веревками туфли. Поморозила ноги, свалилась в какой-то деревне. Спасибо, тамошняя учительница не дала пропасть приютила. Лечиться негде и нечем, есть нечего. На письма, которые посылала дочкам, не было ответа.
Кое-как встала на ноги, пошла. От деревни к деревне. Кому из шинели пальто скроит или тужурку, кому перелицует старый пиджак. Ребятишкам шила френчики и штаны из военных палаток. Тем и спаслась.
"...В Москве, на Якиманке, – писала Вера Константиновна, – застала лишь пыль, запустение да свои нераспечатанные письма. Как просунул их почтальон в прорезь двери, так и валялись на полу в передней.
Я – к знакомым, к дворникам, в милицию – только руками разводят. Надоумили поискать в детских приютах. Вот тут и напала на Клавин след. А спустя полмесяца уже читала ее письмо! Из него-то и узнала про тебя, Зина, и про Севу.
Вот что, дети, – продолжал читать Севка, – настало время собраться нам всем вместе. Клава уже здесь, в Москве, шлет вам привет. Комсомол послал ее на борьбу с детской беспризорностью. Хвасталась, что на каком-то совещании удалось повидать товарищей Крупскую и Дзержинского.
Теперь очередь за вами. Поскитались – и хватит. Сева будет жить у нас. Здесь, правда, пока еще голодновато, но зато все под одной крышей. Мы с Клавой приготовили денег вам на дорогу и сегодня же вышлем.
Обнимаю и целую вас.
Мама".
Прочитал Севка письмо, вспомнил Клаву. "Вот счастливая! порадовался. – И мать, и сестра нашлись".
– Ты что, глухонемой? – торопит Зина. – Скажи что-нибудь.
А что сказать, если Севка не отработал еще свой долг хозяину и из Гусаков ему до будущего лета – никуда. Аж до самого петрова дня.
– Не горит, – промямлил он. – Надо же обдумать...
– Ха! Значит, мама не обдумала?
– А эскадрон? – напомнил Севка.
– Так он же неизвестно где.
– Известно!
И Севка рассказал про свою встречу с Сергеем Гавриловым, который велел сидеть здесь, ждать приказа.
Зина капризно надула губы, отвернулась. Она-то надеялась обрадовать...
– Поедешь одна, – сочувственно сказал Севка, – объяснишь матери и Клаве: мол, и рад бы, да не могу пока.
– Не поеду!
– Почему?
– Он еще спрашивает! – удивилась Зина. – Скажи, ты почему сейчас не в эскадроне, а в Гусаках?
– Что ж, мне было бросить тебя в Тюмени?
– Во! И мне не бросить. Понял теперь?
– Сравнила! – не сдался Севка. – Так я ж здоровый. Небось раненого никто не бросил. У Клавы спроси, если сама не знаешь.
Не привыкла Зина уступать в споре, но и возразить ей больше нечего. Выхватила у Севки письмо, нахлобучила ему шапку на самые глаза, сказала примирительно:
– Тебя не переспоришь, шит колпак!
Глава XIII
ТРУДНЫЕ СЛОВА
Бредет Зина с мельницы, новыми глазами разглядывает Гусаки. Это уже не ее село! Чужие стынут на морозе плетни да колодезные журавли, чужие глядят на улицу заиндевелыми, словно бельмастыми, окнами дома. За каждым окном своя жизнь, но она не касается Зины, которой предстоит теперь и не здесь, и не так жить.
Все переменилось, поскучнело. Даже дымы над крышами, подпирающие морозное небо, даже деревенские псы, лающие простуженными, сиплыми голосами.
Но так ли уж ей тут все безразлично?
Вон вдалеке большим черным пятном на снегу видится Турбай. Вовсе и не чужой он Зине и не скучный. Как и раньше, охота его погладить, чтоб вильнул хвостом, потерся о колени. Невольно прибавляет она шагу.
На Турбае какое-то подобие хомута. Назарка учит пса ходить в упряжке, правда, пока безуспешно. Турбай бестолков: пустые санки везет, а чуть сядет в них "кучер", сразу выдернет голову из хомута и – драла.
– Нос! – кричит Зина. – Нос отморозил!
Силком она затаскивает Назарку в кухню, сажает к себе на колени, начинает оттирать нос.
Больно Назарке. По щекам в два ручья – слезы. Орет, молотит изо всех сил руками и ногами, бодается. Но Зина не обращает внимания.
Наконец Назарка на свободе. Бьет наотмашь свою обидчицу по спине и с ревом вылетает вон.
Зина опускает в корыто со щелоком принесенную с мельницы Севкину гимнастерку, вталкивает ладонями на дно и придерживает, не дает всплывать.
Скрипнула и приоткрылась дверь. Это Назарка. Войти стесняется, а хочется узнать, что делает Зина и крепко ли на него сердится. Понимает, что нашкодил!
Не видит Назарку Зина, но знает, что он по ту сторону двери. Нет, не чужой ей этот коренастенький мужичок! Наверняка будет вспоминать его там, в Москве.
"Надо сказать ему об отъезде, – думает Зина. – Пусть узнает от меня".
– Входи, Назарчик! – кричит она. – А то еще прищемишь в двери свой отмороженный нос.
Переступил Назарка порог, смотрит в землю.
– И не стыдно кулачищами? – упрекает Зина. – Вот уеду, так небось пожалеешь, что дрался.
– Уедешь? Врешь!
– Не вру, Назарчик, в самом деле уезжаю.
– А я?
– А ты останешься, ведь твой дом здесь. Меня мама в Москву зовет. Она у нас потерялась было, а теперь нашлась.
– Правда? – удивился Назарка. – Может, и моя найдется?
Замолкла Зина, словно язык отнялся. Гладит Назаркину голову и не знает, что сказать. А он ей – новый вопрос:
– Можно, я с тобой тоже?
– Со мной? А на кого же мы Севу оставим? Кто тут за ним приглядит?
Покраснел Назарка. Сообразил, что чуть было не бросил своего друга.
– Пригляжу! – пообещал он. – Езжай.
Трет в щелоке Зина Севкину гимнастерку, вспоминает весенний солнечный день, когда впервые его увидела. Вот эта же была на нем гимнастерка с двумя неумело зашитыми дырками на плече у самого ворота. Где вошла и вышла пуля.
А ведь могли и не встретиться. И не знала бы Зина, что есть на свете такой Севка. Кто бы снял ее с чердака? Кто пронес бы на спине через весь город? Кто поехал бы в какие-то неизвестные Гусаки, чтобы не дать пропасть с голоду глупой девчонке?
Давно собирается Зина сказать Севке, какой он необыкновенный человек, как это хорошо, что они встретились тогда в Тюмени. Но почему-то никак не сказать. Слова сопротивляются, не идут с языка. Она ведь не знает, что и у Севки приготовлены для нее такие же точно, "сопротивляющиеся", слова, которые он когда-нибудь скажет.
В день Зининого отъезда ранней ранью затопила Степанида печь, стала готовить завтрак. Севка тем временем засветил фонарь, пошел к лошадям. Задал овса, выждал, пока опорожнили торбы, напоил у колодца, но запрягать не стал, заглянул в дом.
Зина сидела за столом напротив хозяина, ела дымящийся кулеш с домашней колбасой. Все еще не верилось ей, что это последний завтрак в Гусаках и никогда она не увидит больше ни Степаниду, с которой успела подружиться, ни Назарку, специально разбуженного, чтобы с ней проститься.
До поры до времени Назарка крепился, помнил уговор. Но когда встал Егор Лукич из-за стола и, перекрестившись на икону, надел полушубок и шапку, не выдержал Назарка, заревел.
Кинулась к Зине и Степанида, запричитала в голос:
– Головушка твоя бедовая! С кем же я теперь слово скажу...
– Хватит! – оборвал Егор Лукич. – Пошли сырость разводить. Айда садиться, Зинаида!
Еще раз обняла, расцеловала Зина Назарку.
– Так приглядишь? – шепнула. – Буду надеяться.
– При-игляжу! – пообещал Назарка, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не реветь.
В Степанидиных валенках, в двухпудовом тулупе уселась Зина на охапку сена, привалилась к решетчатой спинке саней.
– Пускай! – приказал хозяин Севке, державшему под уздцы пританцовывавшего на морозе коренника.
Севка сделал шаг в сторону и как раз успел повалиться в передок саней, когда рванули кони.
Грохнул в тишине колокольчик, застонали на утрамбованном, заледенелом снегу полозья, и пара вынесла в распахнутые ворота сани. А за санями увязался, легко понес свое большое тело старый Турбай.
Севка проводил Зину до околицы. У крайней избы остановил коней, передал хозяину вожжи и кнут.
– Ну, прощай, Зинуха! Матери и Клавдии не забудь сказать, что я просил. Не забудешь?
– Распахни на мне воротник тулупа и послушай, что скажу, – вместо ответа приказала Зина.
Распахнул, приблизил ухо. А Зина возьми и поцелуй Севку!
Распрощались. Так и не сказали друг другу приготовленных слов. Но они еще скажут. Должны же встретиться!
И когда Севка заскрипел по укатанному снегу уже прочь от саней, Зина крикнула:
– Ко мне, Турбай!
Этого и ждал Турбай. В два прыжка он у саней. Встал на задние лапы, просунул голову к Зине в воротник и горячим языком облизал ей все лицо.
– Будь ему верным другом, старый! – шепнула Зина, сталкивая Турбая на снег.
Глава XIV
НАБАТ
Веснами, когда на Тавде спадал паводок, а на полянах среди тайги поднимались травы, село Гусаки выводило на берег свой конский молодняк. Дрожащих от страха жеребят-перезимков, а то и двухлеток силком затаскивали в лодки, накрепко привязывали пеньковыми поводьями. Потом флотилия трогалась и, сносимая течением, устремлялась вкось через Тавду.
Жеребята ржали и бились на привязи, грозя опрокинуть шаткие лодки. Мужики успокаивали их окриками, а когда это не помогало, клали на храп свои тяжелые ладони.
На правом берегу срывали уздечки и звонкими шлепками гнали жеребят прочь: кормитесь, мол, сами, как знаете!
Молодняк сбивался в табун, и эта дикая вольница до глубокой осени кочевала по тайге, пугая зверя и птицу, сама пугаясь каждого шороха.
Поначалу неопытный вожак заведет табун то в лесную чащобу, то в болото. Тучи голодного комарья накинутся на жеребят, дырявят нежную, облинявшую кожу, жадно пьют горячую кровь, распухая, даже лопаясь от собственной жадности. Табун бросается прочь от этой напасти. Мечется по тайге, пока не находит спасения на открытых, продуваемых ветром полянах.
Случалось, волки выслеживали какого-нибудь лопоухого жеребчика, по дурости отбивавшегося от табуна, и ему уже не суждено было стать добрым конем.
Другой находил свою гибель в болотной трясине, третьего жалила змея, и он слабеньким ржанием взывал к уходящему табуну до тех пор, пока не падал где-нибудь обессиленный.
Раза три – четыре за лето навещали табун деревенские парни. Выслушивая отцовский наказ, они притворно хмурились, делали вид, будто им в тягость плутать по тайге, искать неизвестно где жеребят. А в душе каждый был рад случаю вырваться на два – три дня из дому, уйти от сурового родительского глаза, побалагурить, поскалить зубы среди товарищей.
В канун троицы Егор Лукич подозвал Севку:
– Парни собираются наведаться к жеребятам. Придется, как видно, и тебя спосылать. Все равно мельница в праздники будет стоять.
– Надо, так пошлите, я согласен.
Егор Лукич усмехнулся:
– У меня не та забота, согласен ли ты. А вот узнаешь ли теперь среди других жеребят Колобка да Лешего? Они, должно, шибко подросли.
– Узнаю! – заверил Севка. – У Колобка левая задняя чуть не по колено в белом чулке, а Лешему в драке жеребец Аникиевых отхватил кончик правого уха. Да и породой ваши жеребята куда завиднее деревенских.
Польщенный Егор Лукич кивнул:
– Насчет породы это ты резонно: сроду не держал пузатых недомерков. Ну да ладно. Словом, бери харчей – и с богом. Заседлаешь старую Кушевку. Ей в самый раз будет промяться. Только заруби себе: кобылу не гнать! Она жеребая. Даст бог, к петрову дню будем с жеребеночком.
Выехали еще затемно. Тронулись степенно, шажком. А за деревней перешли на рысь.
– Эй, догоняй! – крикнул Семен Аникеев и со всего маху вытянул плетью гнедого четырехлетка под Володькой Кучеровым.
Всхрапнул жеребец, ошалело рванул галопом. Остальные кони – за ним. В бешеной скачке то один всадник вырвется вперед, то его обгонит другой.
Лишь Севка отстал. Потихоньку трусил он на Кушевке – помнил хозяйский наказ. Да и куда торопиться? Все равно на переправе ждать парома, который поднимает за раз не больше десятка коней.
Уже рассвело, когда Севка подъехал к переправе. Как раз паром шел с того берега порожним. Парни, посвистывая, поили в Тавде запотевших коней.
– Что, мельник, плетешься? Или боишься шибко ездить? – с усмешкой осведомился Володька Кучеров, явно хвастаясь конем и новеньким кавалерийским седлом.
– Седлишко неважное. Будь у меня твое кавалерийское... Э! Да куда ж ты шенкеля подевал?
– Шенкеля? – не понял Володька. – Это какие же? – Он потрогал луку, оглядел стремена. – Кажется, все при месте.
– Кажется! – передразнил Севка. – Перекрестись, если кажется.
Парни в голос захохотали. Они недолюбливали Володьку и рады были случаю сбить с него спесь.
– Гля, ребята! – оскалился Семен Аникеев. – И верно, порастерял эти... как их... шенкеля. А хвастался: мол, я да я...
Окончательно сбитый с толку Володька нахмурился и засопел:
– Подумаешь! Порастерял, так свои. Не ваши!
Семен выравнял вороного с Севкиной кобылой, тихонько спросил:
– Слушай, что за шенкеля? А то я поддакнул тебе против этого балабона, а сам, признаться, тоже...
– Нарочно я, чтоб не задирал нос! – улыбнулся Севка. – Шенкель – это нога всадника от колена до щиколотки. В кавалерии так называется.
Не успели переправиться, из-за леса выкатило солнце. Поникшая под тяжестью крупной росы придорожная трава начала распрямляться, дымясь. В кустах стали пробовать голоса птицы. С басовитым жужжанием прилетел толстый, откормленный овод, уселся на лоснящийся круп Семенова жеребца, но тут же снялся.
Проехав версты четыре по-над рекой, Семен скомандовал:
– Айда, ребята, в лес. Рассыпайся! Кучей ездить – только коней зря томить. В случае кто заблудится – выбираться к Тавде по солнцу, к Маланьиной балке.
Вскоре Севка набрел на лесной ручей. Кушевка потянулась к воде, напилась, шумно вздохнула и, повернув голову, глянула на седока умным глазом: куда, мол, путь держать?
Подумал Севка, подумал да и направил кобылу вдоль ручья: ведь не без водопоя ходит по тайге табун. Может, он пьет как раз из этого ручья.
Бросив на луку поводья, Севка доверился старой Кушевке и вспомнил с обидой, что больше года прожил в таежном краю, а в лесу и не бывал. Ни с ружьем, ни с корзинкой! Да уж и не приведется. До петрова дня всего шесть недель, и думать ему теперь не про тайгу, а про Москву, как сказано в письме командира товарища Реброва.
Давно уж Севка получил это письмо, наизусть запомнил. Приказано ему ехать в Москву, жить в семье Лебяжиных, раз приглашают, и учиться, потому что мало завоевать счастье, его еще построить надо, как строят дом – от фундамента и до конька крыши. Не простой дом – огромный сказочный дворец, каких никогда и нигде не бывало. Вот для чего эскадрон командирует его на ученье. "Не считай себя демобилизованным, товарищ Снетков, – написал Степан Викторович в письме. – Как был, так и остаешься бойцом-кавалеристом, всадником..."
Старая Кушевка помешала Севкиным раздумьям. Насторожила уши, прибавила шагу, раскатисто заржала.
Откуда-то издалека донеслось ответное ржанье. Севка повеселел: значит, кто-то из парней едет поблизости!
Кушевка быстро шла вперед, ныряя под нависшие еловые лапы, заставляя Севку кланяться – пригибать голову.
Наконец лесная тень поредела, сквозь чащу зазеленела поляна, а на поляне – вот он, табун! Жеребята пощипывают траву, обмахиваясь отросшими хвостами. Лишь вожак поднял голову, сделал несколько осторожных пружинистых шагов и остановился. Рослый, горбоносый, с виду сердитый и нервный. Насторожился, поглядывает на Севку, словно соображая, какую подать команду табуну.
– Леший! – окликнул его Севка. – Вон ты какой вымахал! А Колобок где?
Вожак переступил ногами, жеребята подняли головы.
Удивительно Севке, что не другому парню, а ему выпала удача найти табун.
Спешился, расседлал кобылу. Как бы ему известить парней? Эх, нет ружья!
Сложив ладони в трубку, закричал, что было сил:
– Сюда-а! Наше-оо-ол! Эге-ге-ге!..
А в ответ – спокойный насмешливый голос:
– Ух, паря, здоров же ты голосить! Пуп-то не развязался с натуги?
С этими словами показался из-за куста Семен Аникеев. Вел в поводу вороного, озорно скалил зубы.
– Ты? – обрадовался Севка. – Как же ты нашел?
– Я-то обыкновенно: по следам, по свежему помету, а вот ты как?
– А я никак, – простодушно ответил Севка. – Екал, ехал и наехал. Кобыла привезла.
– То-то – кобыла! – подмигнул Семен. – Эта животная только что не говорит, а по разуму не уступит и хозяину.
Семен отцепил с седла двустволку, отошел за куст и дал дуплетом два выстрела. Выждал, перезарядил – и еще два дуплетом. Для верности.
Жеребята качнулись. Леший вздыбился, сделал "свечу" и хотел было дать стрекача. Но, глянув на Кушевку, решил не ронять своего достоинства: кобыла преспокойно щипала траву.
По сигналу начали стягиваться к поляне всадники, расседлывать коней, свертывать цигарки.
– Жеребят, считай, сразу проведали, – сказал Семен. – Что ж, выходит, теперь к дому повертывать? Черта с два! Мы тут и сегодня, и завтра попируем, отоспимся, а дома скажем, что, мол, всю тайгу ископытили, пока искали табун. Верно я говорю, хлопцы?
– Верно!
– Правильно!
– Дураков нет!..
– А если верно, то надо загодя и место выбрать, чтоб ветерок и вообще... Тут к вечеру от комаров не отобьешься.
Решили гнать табун поближе к Тавде. Там не так глухо и места повыше, поветренее. Да и к дому поближе.
Пока курили да седлали коней, поляна оказалась в тени. Глянули парни на небо – поежились: с востока наползала черная туча. Наверху, как видно, дул ветер, а здесь, в тайге, было душно, как в бане.
– Как бы не заненастило! – повел плечом Артем Головатый, по прозвищу Таймень.
– Какое в эту пору ненастье? – возразил Семен. – Разве что дождичек прольется. Так мы же не сахарные, пересидим под елкой.
Табун остановили на широкой поляне верстах в пяти от Тавды. Туча теперь закрывала уже большую половину неба. Угрожающе гудел гром, одна за другой полыхали молнии. А тайга стихла, как вымерла: ни зверя не слыхать, ни птицы, ни один лист не дрогнет.
– Торопись, расседлывай, пока сухие! – скомандовал Семен. – Сейчас польет.
Расседлали коней, затащили седла под низко нависшие лапы тесно сросшихся елей.
На многолетней толще опавших хвоинок лежать было мягко, как на песке. Пахло смолой, возле уха позванивали вялые от духоты комары.
– Благодать! – прижмурил глаза Семен. – Я б тут век вековал, в тайге. И домой бы не вертался.
– А что б ты ел? – спросил Володька Кучеров.
– Хо! А что медведь ест? Или, к примеру, белка? Грибы, да ягоды, да орехи у них не с базара. Еще и мед! В тайге, брат, без обмана – каждый себе пропитание горбом достает. Возьми сохатого, того же медведя или хоть вот этого муравья. У них один закон: потрудился – сыт, поленился – пеняй на себя...
– А у волка? – вставил Севка.
– У волка, браток, и закон волчий. Он, проклятый, метит на готовенькое... как, к примеру, твой хозяин Егор.
Парни усмехнулись. Усмехнулся и Севка. Такие речи он уже не раз слышал и от мельника Порфирия, и от завозчиков – недолюбливали Егора Лукича.
Дождя еще не было, но гром приблизился и непрерывно раскатывался над тайгой. Молнии поминутно перечеркивали небо, ломались и с грохотом сваливались за горизонт. Кони и жеребята стояли настороженные, словно чего-то ждали.
И дождались. Нестерпимо яркая вспышка обожгла глаза. Качнуло воздух. Сухой, оглушительный треск ударил в уши, покатился по лесу, повторяемый эхом.
Перепуганные кони завертелись вьюнами. Вздрогнула старая Кушевка, в страхе шагнула к парням. Но те и сами еще не опомнились. Под ногами дымилась оброненная Семеном цигарка, побелевший Володька Кучеров, зажмурясь, крестился, а Севка прочищал пальцами уши.
– Живы? – хрипло спросил Семен.
– Живы, только в ушах звон, – ответил Севка.
– Пройдет.
Но звон не проходил. Скоро его услышали все.
– Набат! – крикнул Таймень. – Не иначе, Гусаки горят.
Повернувшись к стволу, он нырнул под колючие лапы ели и полез вверх, продираясь сквозь чащобу сучьев, поминутно останавливаясь, чтоб не порвать праздничную рубаху.
– Скорей, не копайся! – торопили снизу. – Говори: что видишь?
Таймень долго молчал, вглядываясь. Потом крикнул:
– Не видать ни черта! Липы заслоняют... Только это в стороне от Гусаков. Должно, Егорова мельница. Ну да! Больше там нечему. Огня не видать, зато дыму!..
Севка схватил уздечку, кинулся к лошадям.
– Стой! Куда?..
Но он вскочил на неоседланную Кушевку, хлестнул наотмашь ременным поводом.
Кобыла с места пошла галопом.
– Дурно-ой! – неслось вслед. – Кобылу-у загуби-ишь!
За каких-нибудь десять минут рыжая Кушевка сделалась вороной от пота. Роняя пену, она шла из последних сил.
Вот и Тавда! Широкая, быстрая. Утром была светло-голубая, а сейчас текла черная, как деготь.
Пока скакал, Севка не знал, на что решится. Но, выскочив на берег, сообразил: до переправы не хватит Кушевкиных сил. А если и хватит, он застанет на мельнице одни головешки.
И Севка направил кобылу к реке.
У самой воды Кушевка остановилась, словно надеясь, что этот сумасшедший ездок одумается. Животным инстинктом она понимала, что нельзя ей в ледяную воду жеребой, измученной и горячей. Но всю жизнь она делала то, что велели люди.
Чуть помедлив, кобыла ступила в воду. По колено... По брюхо... Вот и нет дна.
Течение подхватило Кушевку, начало сносить. Быстро-быстро загребает она ногами, плывет. Одна голова торчит. Вернее, не голова, а лишь уши, глаза и ноздри.
Севку обожгло холодом. Стыд гонит его долой с лошадиной спины, а страх не пускает, услужливо подсовывает в руки намокшую Кушевкину гриву.
Кобыла начала оседать, зачерпывая воду ноздрями и фыркая. Фыркнула раз, другой.
Севка скатился в черную воду. Загребая правой рукой, левой стал поднимать Кушевкину морду.
Помогло! Освободившись от седока и продолжая работать ногами, быстро плыла кобыла вкось через Тавду, таща за собой Севку, который не слышал теперь грома, не замечал полыхавших молний, даже не ощущал больше холода. Держась за Кушевкину морду, загребая онемевшей рукой, Севка понимал, что кобыла снова теряет силы, что и сам он уже не столько помогает, сколько виснет на уздечке.
Кушевка наконец нащупала копытом дно и стремительно понесла к берегу впившегося в уздечку Севку. Он сперва волочился по воде, но пересилил себя, встал на ноги. Кружилась голова, трясло, стучали зубы.
Держась за повод, Севка кое-как выбрался на сухое и, бросив кобылу, полез на крутой, поросший ивняком берег.
...Несколько мужиков суетились в панике на мосту. Пьяный Егор Лукич, без картуза, в разорванной на груди белой рубахе, бился в руках брата, хрипя, силясь вырваться:
– Пусти, Макар, сволочь! Убью-у!
– Держи, не пускай, сгорит! – голосила Степанида. – Господи, что ж это деется? Господи!
Мимо них скользнул Севка. Как был во всем мокром, так и приложился на бегу к занявшейся огнем двери, распахнул. Зашипело, изнутри ударило едким дымом, и Севка, не дыша, кинулся в угол, к весам, где не раз оглушительно храпел на порожних мешках Порфирий, когда напивался.
Но во всем верхнем этаже было пусто, хоть шаром покати! Нигде ни мешков, ни мельника.
– Дя-дя Пор-фи-рий! – заорал Севка, оглядываясь в дыму.
Никакого ответа! Лишь трещало языкастое пламя, жадно слизывая вспухающую краску с незатворенной двери да выстреливая из себя искры.
"Может, на счастье, в завозчицкой! Праздник ведь, – шевельнулась в Севке надежда и погасла. – А если внизу?.."
Он – к люку. Но попалась на глаза низенькая дверца каморки с висячим замком. "Полушубок!"
Зажмурившись и роняя слезы, Севка отпер замок, пожитки в охапку и ногами в люк. Споткнулся, кубарем покатился по лестнице...
Под ним оказалось что-то мягкое, словно живое. Человек! Севка открыл глаза. И хоть тут, внизу, было не так дымно, зато темно. Он не столько разглядел, сколько догадался на ощупь: Порфирий!
– Горим! – крикнул Севка. – Одурел ты...
Порфирий продолжал храпеть.
"Чуяло сердце! Сгорит же..." – холодея от ужаса, подумал Севка. Рванул ворот, сунул за пазуху бумажник, надел полушубок в рукава.
Как тащил Порфирия к воротам, как откинул крюк, Севка уже не помнил. Ему запомнился лишь первый глоток чистого воздуха да морщинистое лицо склонившейся над ним женщины с закоптелой иконой в руках.
Что-то холодное хлестнуло Севку по лицу. "Вода! Откуда она взялась?"
Пересилив себя, он открыл слезящиеся глаза. Шел дождь. Орали, суетясь, мужики, в отдалении скорбно крестились бабы, ревел набат.
"Пожар!" – вспомнил Севка и сел. Рядом на траве лежал Порфирий.
Глава XV
ОДНИМ УДАРОМ
Егор Лукич проспался еще затемно. Перед рассветом неясная тревога заставила его встать, выйти во двор.
Сходя по ступенькам, увидел Турбая.
– Что, старый, и тебе не спится?
Пес потерся о колени хозяина, лизнул руку.
– Так то, – вздохнул Егор Лукич. – Суетимся, ночей не спим, а толку? Молния вот меня... Не пошли бог дождя, был бы я сейчас беднее тебя, Турбай. А люди – они чужой беде рады.
Засветив под поветью фонарь, Егор Лукич пошел к лошадям. Кушевка стояла в углу скучная, опустив голову. Даже не оглянулась на свет.
Предчувствуя недоброе, Егор Лукич посветил в ногах, увидел на соломе жеребенка. Нагнулся, пощупал. Так и есть – холодный!
Ссутулившись, вышел со двора, побрел к мельнице. С каждым шагом копилось в нем раздражение, искало выхода, торопило.
– Дрыхнешь, погубитель! – дал волю злости Егор Лукич, вбегая в завозчицкую. – По миру пустил, щенок...
Вскочил Севка, отпрянул в дальний угол нар. А Порфирий шагнул навстречу хозяину, маленький, колючий, загрохотал басом:
– Егор, остановись!
– Замри, гнида! Перешибу! – замахнулся Егор Лукич. – Кому было сказано – кобылу не гнать?
– Так ведь на пожар, – промямлил Севка, глядя себе в ноги.
– Врешь, шельма! Люди видели, как свое добро спасал. Через то и ожеребила мертвого.
– Добро-о! – взвился Порфирий. – Так он за добром в огонь шел?
– А за чем же? – опешил Егор Лукич.
– Не догадываешься? Заслонило тебе? Возьми в толк, что не для всех Порфишка – сморчок и пустоцвет. Для Савостьяна он – живая душа. Человек вот кто!
– А хоть бы и так. Мне от того какая корысть? – сощурился хозяин.
Не скрывая презрения, Порфирий покачал головой, глянул на Егора Лукича, как на безнадежного.
– Ну что тут поделаешь, если жадность тебе глаза застит? Мельницу, считай, как в карты выиграл. От нее могли одни головешки остаться, а она стоит целехонька. Чуть подлатаем – и зашумит. Не обеднеешь ты через жеребенка.
– Выходит, мне Савостьяну еще и спасибо говорить? – удивился Егор Лукич.
– Зачем спасибо? Отработает. Он работы не чурается.
– Сколько ж ему работать? Соображаешь? Жеребенок – уж бог с ним. Да кобыла после этого случая, должно, не сможет стать маткой.
– Сколько надо, столько и отработаю! – сказал Севка. – Думаете, мне Кушевку не жалко?
Вот тебе и петров день! Одним ударом молнии перечеркнуло назначенный срок, разметало Севкины мечты. Москва и раньше была не близко, а тут стала так далеко, что неизвестно, как и добраться.
Пожар не причинил мельнице большого вреда. Стоило поправить обгоревшую крышу, застеклить окна, навесить на втором этаже новую дверь и можно было молоть. Но Егор Лукич затеял ремонт с размахом. Он расщедрился, нанял людей. И уже через пару дней в Гусаки въехал длинный обоз с лесом. Хмурые возчики помахивали кнутами, покрикивали на лошаденок.
– Продешевили, хозяин! – пожаловался Ефим Чалых, натягивая вожжи. Дерева ты выбрал чисто железные: топор не берет, пила садится. Гляди, как кони гнутся от тяжести. Разве ж это лес? Нет, Лукич, ты уж не поскупись, накинь маленечко. Нам не веришь, спроси брата Макара. Он ведь приглядывал за валкой, небось знает, сколько мы сил поклали.
– Не поскуплюсь! – пообещал довольный Егор Лукич. – Только больно ты скор, Ефим. Надо сперва лес на место представить, свалить, а там уж и рядиться.
Ефим резанул кнутом мерина, оглянулся:
– Это мы враз, за этим не станет.
Мельница теперь молчала. Высохло под солнцем и недвижно застыло огромное колесо, не толпились, не галдели у весов завозчики. Лишь звонко стучали плотницкие топоры, глухо шумели, купаясь в смоле, пилы.
Нашлось и для Севки дело – ошкуривать лес. Работа не тяжелая. Рассечет топором кору во всю длину бревна, возьмет клин и ну подковыривать в стороны от надруба. Иногда удается снять кору целиком. И тогда старый плотник дедушка Илья пошутит:
– Подзорную трубу сготовил! Не иначе, быть тебе, паря, звездочетом...
Севкины руки покрылись смолой, стали черные. Липнут к топорищу, к штанам, липнут к телу, когда надо пришибить впившегося в потную шею комара. Нещадно печет солнце, хочется пить.
Дедушка Илья жалеет Севку. То он пошлет его в завозчицкую за разводкой для пилы, то велит вычернить головней плотницкий шнур. Это чтобы Севке разогнуться, чтоб его поясница маленько отдохнула. А то возьмет да и скажет:
– Сходил бы ты товарища своего проведал, Порфирия. Что-то не слыхать его молотка.
Спустится Севка по лестнице в нижний этаж, в холодок, поглядит, как Порфирий кует камень. Вроде и не сильно бьет, а с каждым ударом вылетают из-под молотка синие огоньки да по лицу сечет невидимая каменная крошка.
– Что, милок, притомился? – спросит мельник басом. – Ну, посиди, поостынь. Только жмурься, а то еще крошка ненароком по глазам жиганет.