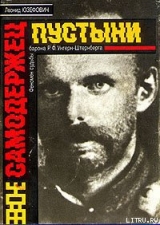
Текст книги "Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Принцесса Елена Павловна
16 августа 1919 года произошло немаловажное для Унгерна событие – на тридцать четвёртом году жизни он вступил в свой первый и последний брак. Всезнающий генеалогический словарь прибалтийских дворянских родов называет точную дату бракосочетания, его место – Харбин, и имя невесты – Елена Павловна. Её девичья фамилия не сообщается. Составителям словаря она осталась неизвестна, как и большинству современников барона. Но настоящее имя новоявленной баронессы Унгерн-Штернберг было не более чем созвучно с указанным в словаре. Едва ли невесту перед свадьбой крестили. Скорее всего её русское имя было образовано по тому же принципу, по какому, скажем, китаец Ван Го превращался в Ивана Егоровича. Еленой Павловной она быть никак не могла, поскольку была китаянкой, точнее – маньчжурской принцессой, дочерью «сановника династической крови». Очевидно, её отец принадлежал к тем членам бесконечно разветвлённой императорской фамилии, которые после революции бежали из Пекина в Маньчжурию и нашли приют при дворе могущественного Чжан Цзолина.
Этот брак, разумеется, был акцией чисто политической. Вряд ли Унгерн испытывал к невесте какие-то особо нежные чувства. Он никогда не проявлял интереса к женщинам, и при всех его симпатиях к «жёлтой расе» китаянки и монголки тут не были исключением.
Ни эстляндские родственники, ни люди, знавшие барона в Даурии и Монголии, ничего не сообщают даже о его мимолётных связях, не говоря уж о настоящих романах. Лишь генерал Шильников, рисуя перед колчаковскими следователями картины самоуправства Семёнова и его фаворитов, мельком упомянул следующий факт: будучи комендантом Хайлара, Унгерн не дал прибывшим из Харбина инспекторам провести ревизию в местном управлении железной дороги, потому что начальником там был некий Спичников, а барон «жил с сестрой его жены». Наверняка, в этих отношениях тоже ничего романического не было, а позднее и такого рода случайные сожительницы напрочь исчезают из жизни Унгерна.
Вообще, свидетельство Шильникова уникально. Все остальные, кто затрагивал эту деликатную тему, сходились на том, что барон «почти не знал женщин», что, как аристократ, в женском обществе он бывал любезен, держал себя по-светски, но «при внешних рыцарственных манерах» к представительницам слабого пола относился с несомненной и глубокой неприязнью. Утверждали даже, что если за какого-нибудь провинившегося солдата или офицера ходатайствовала женщина, то Унгерн увеличивал ему меру взыскания.
Это не просто черта характера или особенность физиологии. Во многом похожий на Унгерна атаман Анненков, тоже потомок старинного дворянского рода, правнук декабриста, отличался таким же ярым женоненавистничеством. Оба они воплощали определённый тип вождя в Белом движении – тип тяготеющего к идеалам «нового средневековья» монаха-воина, аскета и сверхчеловека. Известный своей храбростью и свирепостью, Анненков не пил, не курил, ел самую грубую пищу, презирал роскошь. Казахов он уважал точно так же, как Унгерн – монголов, ценя в них воинственность и верность[22]22
Не случайно один из полков Азиатской дивизии носил имя Анненкова, хотя он в то время был ещё жив.
[Закрыть]. Сам холостяк, Анненков запрещал офицерским жёнам не только жить вместе с мужьями, но и квартировать ближе десяти вёрст от расположения отряда. Свидания супругов допускались по строго отведённым дням и в указанном месте. Нарушители этих правил сурово наказывались. По словам одного из анненковцев, атаман не любил «женатиков», даже в интимных дружеских беседах не говорил о женщинах и «смотрел на них как на печальную необходимость, не более».
Лично для Унгерна они, видимо, не были и необходимостью. Его женофобия имела явный психопатический оттенок. Не исключено, что ему присущи были гомосексуальные наклонности, и он страдал от этого, мучительно переживая разлад между собственным телом и духом, между извращёнными желаниями и стремлением переустроить мир на основах патриархального панморализма. Ему, само собой, и в голову не приходило, что одно здесь вытекает из другого. Но напряжение – пусть неосознанно – могло разряжаться, когда по его приказу начинались гонения на проституток, когда жён солдат и офицеров Азиатской дивизии секли за разврат, за супружескую неверность или даже, как рассказывали, за сплетни. Не вдаваясь в тёмные глубины психопатологии, можно предположить, что есть некая связь между намерением Унгерна создать «орден военных буддистов», чьи члены давали бы обет безбрачия, и его странно высоким тенором, удивлявшим собеседников барона.
Но, с другой стороны, патология не противоречила идеологии Унгерна, а получала в ней своё оправдание. Как, впрочем, и наоборот. Это ещё вопрос, что здесь первично. Над людьми, подобными Унгерну, власть отвлечённых идей настолько велика, что эти идеи могут действовать почти на физиологическом уровне. Он вполне способен был вслед за Ницше выстроить тот же ряд презираемых им тварей: «Лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы». Неприятие современной европейской цивилизации Унгерн мог перенести на своё отношение к женщине. Она казалась ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащённым кумиром, который Запад в гибельном ослеплении вознёс на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии Восток – Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был, следовательно, явиться на противоположном конце Евразии.
«Что касается западных наций, – уже из Урги писал Унгерн генералу Чжан Кунъю, – то падение там общественной морали, включая молодое поколение и женщин самого нежного возраста, всегда повергало меня в ужас». В России картина была ещё безнадёжнее. Гражданская война разорила тысячи семейных гнёзд, города наводнены беженцами. Дороговизна и скопление воинских масс приводят к небывалому расцвету проституции. Страх перед будущим и половая распущенность идут рука об руку. Сожительство вне брака тем более никого не шокирует; сам Колчак перед лицом всей Сибири открыто живёт со своей невенчанной женой Тимирёвой. Об этом судачат, но не слишком. Бесчисленные пары, встретившиеся на дорогах войны и бегства, при всём желании не могут узаконить свои отношения, ибо развод с прежним супругом часто невозможен: расторгнуть брак имеет право лишь консистория той епархии, где он был заключён. Беглецы из центральных губерний находятся в таком же положении, как Верховный Правитель России. Линии фронтов проходят в буквальном смысле через сердце любящих. Новые союзы непрочны и быстротечны, детей никто не хочет. Противозачаточные средства ценятся на вес золота. Фельетонисты иронизируют: «Ницше считал, что брак есть воля двоих к созданию третьего; современный брак – это воля двоих, направленная к тому, чтобы третьего ни в коем случае не было»[23]23
Но образ прекрасной незнакомки в разных ипостасях витает над отступающими, измученными и завшивевшими, потерявшими веру в победу армиями Колчака. Во многих сибирских газетах имеется специальный раздел: «Почтовый ящик фронта», в нём публикуются адреса полевой почты тех, кто желает обзавестись крёстной матерью по переписке. При этом, естественно, каждый надеется, что напишет ему такая женщина, которой по возрасту он не будет годиться в сыновья. Адресов печатают много – видимо, спрос на заочных крёстных матерей велик. В это же время в кинематографах Забайкалья и Дальнего Востока идёт фильм «Гамлет»с Астой Нельсон в главной роли. По сценарию Гамлет – девушка, чем объясняется и нерешительность принца, и популярность фильма. В финале Горацио расстёгивает рубашку на груди раненого Гамлета и понимает всё. Окоченевший труп солдаты несут на вытянутых руках, над головами. Голова принца запрокинута, процессия медленно движется по аллее склоняющихся перед мёртвым телом копий. «Ничего не произошло, – вспоминал белый офицер, именно тогда посмотревший этот фильм, – но сердце почему-то забилось сильнее, крепче набирая и выталкивая кровь…»
[Закрыть].
Все эти проблемы перед Унгерном не стояли. Он никогда прежде не был женат и о детях думал меньше всего. Если он и спал с женой, то продолжалось это весьма недолго. В плену, отвечая на вопрос о своей семейной жизни, Унгерн сказал, что был женат на китаянке, но вскоре отослал её от себя. Один из современников подтверждает его слова: «Женившись на китайской принцессе, барон уже через месяц отправил её обратно к родителям и выступил в поход».
Как женщина и подруга жизни, Елена Павловна его не интересовала. Ему нужно было её имя, её родство с величайшей из династий Востока. Он верил, что «спасение мира должно произойти из Китая» при условии реставрации там Циней, и этот сказочный брак, сама возможность которого показалась бы фантастикой его эстляндским кузенам, открывал перед ним неясные, пока ещё далёкие, но блистательные перспективы участия в будущем обновлении Азии, России и Европы.
Иначе смотрели на дело японцы. Они, по всей вероятности, и выступили в роли сватов, но их надежды были гораздо скромнее: улучшить натянутые отношения между своими главными союзниками в регионе – Семёновым и Чжан Цзолином. Многие были уверены, что это совпадает и с интересами атамана, что в Чите бракосочетание Унгерна рассматривают «как акт дипломатической важности в смысле китайско-семёновского сближения». Но у Семёнова были тут и свои расчёты. Династия, с одним из женских побегов которой скрестили прибалтийского дичка, оставалась чрезвычайно популярной в Монголии, все тамошние мятежники, восставая против Пекина, действовали под лозунгами борьбы с Китайской республикой и восстановления на престоле Циней. Новое родство повышало акции Унгерна и, соответственно, самого Семёнова на тот случай, если им придётся возглавить панмонгольское движение. Как показало дальнейшее, планы создания «Великой Монголии» были ими не отброшены, а лишь отложены до лучших времён. Не случайно сразу же вслед за женитьбой то ли депутация князей Внутренней Монголии, то ли правительство Нэйсэ-гэгена и семёновские клевреты поднесли Унгерну титул «вана» князя 2-й степени.
Венчание состоялось, очевидно, в лютеранской церкви – Унгерн сохранил веру предков и в православие не переходил. Сомнительно, чтобы невеста говорила по-русски, скорее всего, они общались на английском или китайском. С грехом пополам Унгерн мог объясняться на родном языке Елены Павловны. Да и разговоры между ними быстро кончились, если были вообще. Он уехал к себе в Даурию, она вернулась в родительский дом, оставаясь, тем не менее, его законной супругой. Большего от неё и не требовалось. Правда, некоторое время Елена Павловна прожила на станции Маньчжурия, но не похоже, чтобы Унгерн её там часто навещал. Никакого приданого она ему не принесла; напротив, платить должен был он сам, и через своего доверенного офицера, поляка Гижицкого, барон оформил в одном из харбинских банков значительный вклад на имя жены.
Последний раз он вспомнил о ней спустя год после свадьбы. В сентябре 1920 года, незадолго до того, как Азиатская дивизия пересекла границу и двинулась на Ургу, в Харбин прибыл кто-то из адъютантов барона. Он вручил давно покинутой принцессе официальное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции, согласно которой мужу достаточно известить жену о своём решении.
Может быть, зная, что идёт в Монголию воевать с китайцами, Унгерн не хотел, чтобы у Елены Павловны и её родственников возникли из-за него какие-то осложнения с властями; а может быть, переходя свой Рубикон, просто рвал все формальные отношения с прошлой жизнью.
Каппелевцы
В конце ноября 1919 года на совещании Ставки Верховного Главнокомандования в Новониколаевске обсуждался и был отвергнут как «фантастический» план уйти на юг, чтобы через Западный Китай прорваться в Туркестан и соединиться там с Оренбургской армией. Колчак ещё надеялся остановить Тухачевского на Оби. Сразу после совещания он выехал на восток, вслед за ним двинулась 2-я Сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал Владимиру Оскаровичу Каппелю.
Все паровозы на магистрали были захвачены чехословаками; шли пешком, с жёнами и детьми, везли раненых. Сыпно-тифозных привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду, но, как вспоминали оставшиеся в живых, мороз умерял горячку, и больные часто выживали там, где насмерть замерзали здоровые.
В первых числах декабря, в канун сочельника, разгромленная под Красноярском армия перестала существовать, потеряв около шестидесяти тысяч бойцов убитыми, ранеными и пленными, все обозы и всю артиллерию. Лишь небольшой её части удалось пробиться к селу Есаульскому, где Каппель отдал приказ повернуть на север – прочь от железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспримерный 120-вёрстный переход по льду реки Кан. Со дна здесь били горячие ключи, лёд был некрепкий, под снегом попадались полыньи. Гибли лошади. «С каждой из них, – писал один из участников похода, – была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни». По ночам шли с масляными фонарями. Питались, главным образом, кониной и «заварухой» – похлёбкой из муки со снегом.
Ещё в самом начале пути Каппель, раненный в руку под Красноярском, провалился под лёд, началось воспаление лёгких. Утром его сажали на коня, вечером снимали. При ночных переходах несли на руках. Ноги у него были обморожены до колен, идти он не мог.
Под Канском, обойдя красные заставы, вновь вышли к железной дороге. Здесь, на разъезде Утай, неподалёку от станции Зима, умер Каппель. Когда-то чехословаки выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь, мёртвого, предложили взять в эшелон и доставить в Читу. Офицеры не согласились. На страшном морозе с погребением можно было не спешить. Тело командующего положили в гроб и на телеге, обмотанной верёвками, повезли с собой. Командование опять принял Войцеховский.
В начале февраля он подошёл к Иркутску, предъявил ультиматум с требованием освободить Колчака и, получив отказ, двумя колоннами повёл наступление на город. Первая, трёхтысячная, была ударной; вторая, вчетверо большая, состояла из женщин, детей, раненых, больных, обмороженных.
В ночь на 7 февраля 1920 года Колчак был расстрелян перепуганными хозяевами Иркутска[24]24
Согласно одной из легенд, проверить которую едва ли возможно, Колчака расстреляли не только вместе с его премьером Виктором Пепеляевым, но и с прославившимся при белых своей жестокостью китайцем-палачом из иркутской тюрьмы. По той же легенде Колчак просил не унижать его смертью рядом с этим человеком, но ему отказали.
[Закрыть], а Войцеховский, остановленный в боях под Олонками и Усть-Кудой, обойдя город с востока, вывел остатки армии к берегам Байкала.
Казалось, над озером гремит артиллерийская канонада, идёт бой, но это трещал непрочный ещё лёд. Осень была тёплая, Байкал встал поздно. Впереди шли байкальские рыбаки с шестами, нащупывая трещины, за ними – сапёры. Через проломы перебирались по доскам, по сходням. Лошади, кованные на обычные подковы без шипов, скользили и падали. Поднимать их не было сил. Переправлялись ночью, а утром, оглянувшись, увидели, что байкальский лёд от берега до берега чернеет конскими трупами.
Отсюда после недолгого отдыха Войцеховский направился к Верхнеудинску, со всех сторон охваченному пламенем крестьянской войны, и туда же, через истоки Лены и северную оконечность Байкала, вышла другая крупная группа отступающих из Западной Сибири колчаковцев. Остальные, более мелкие, прибывали ещё в течение двух месяцев[25]25
Поэт Леонид Ешин, адъютант генерала Молчанова, писал, вспоминая эти дни:/«Скрипя, ползли обозы-черви./Одеты дико и пёстро,/Мы шли тогда из дебрей в дебри/И руки грели у костров./Тела людей и кόней павших/Нам обрамляли путь в горах./Мы шли, дорог не разобравши,/И стыли ноги в стременах…»
[Закрыть].
В Забайкалье генералы Войцеховский, Вержбицкий, Сахаров, Молчанов и другие, возглавлявшие этот героический поход, впоследствии названный «Ледовым»или «Ледяным», не без удивления узнали, что, пока они с боями прорывались по тайге на восток, у них появился новый верховный вождь, который всё это время спокойно отсиживался в тылу. Оказывается, незадолго до ареста, особым приказом от 4 января 1920 года Колчак произвёл Семёнова в генерал-лейтенанты и впредь до соединения с Деникиным назначил его «главнокомандующим всеми вооружёнными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин». Этот приказ многие восприняли с недоумением, а то и с возмущением, но подчинились ему как последней воле покойного адмирала.
В марте к Чите начинают стягиваться эшелоны и пешие колонны «каппелевцев», как теперь называли себя все участники Ледового похода, а не только те, кто служил непосредственно под началом Каппеля. Для Семёнова это было настоящим подарком судьбы среди сплошных неудач. Японцы лишь охраняли железнодорожную магистраль, без крайней нужды в боевые действия не ввязываясь, и не будь каппелевцев, атаман вряд ли сумел бы отбить наступление на Читу войск Эйхе. Дважды – в начале и конце апреля, части Народно-Революционной армии достигали предместий атаманской столицы, но взять её не смогли и под мощными контрударами Войцеховского откатились обратно к Верхнеудинску, над которым развевался красный, с квадратной синей заплаткой в верхнем углу у древка, флаг буферной Дальне-Восточной республики. Партизанам тоже пришлось отступить туда, где находилась опорная база повстанческого движения – в треугольник между линиями Амурской и Забайкальской железных дорог и китайской границей.
Разными путями в Восточном Забайкалье оказалось от 25 до 30 тысяч бывших солдат и офицеров Колчака. Это была серьёзная сила. Закалённые, озлобленные, сцементированные легендарным походом и общей судьбой, они считали себя обломком истинной России, последними носителями её былой славы, и атаману подчинялись лишь скрепя сердце. С первых же дней начались их столкновения с Семёновцами, доходило до массовых драк и даже до стрельбы. Среди каппелевцев было много студенчества, интеллигенции; почти в полном составе пробились в Читу полки ижевских и воткинских рабочих, которые вплоть до весны 1919 года отказывались признавать трёхцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом, с пением «Смело, товарищи, в ногу!». Для Семёновских офицеров эти люди были если не большевиками, то с сильным «демократическим душком»; каппелевцы же видели в Семёнове и его окружении просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми сёлами уходить в сопки. Они не могли простить атаману, что он интриговал против Колчака, что не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Тобольском. Местные жители усиливали эту ненависть рассказами о кровавых карательных экспедициях, о зверствах Унгерна и Тирбаха, об амурных похождениях Семёнова и его связях с монголами.
Ненависть вызывалась и причинами чисто житейскими. Возмущало всесилие японцев, их наглость и одновременно холуйский тон читинских газет, умилённо писавших, например, о том, что в Чите мало осталось детей, у которых не было бы японских игрушек. Раздражала полная небоеспособность Семёновских частей при их прекрасной амуниции. Атамановцы, не нюхав пороху иначе как в боях с мужиками, делавшими пушки из водопроводных труб, имели отличные сапоги, летом щеголяли в галунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, а ижевцы и воткинцы, пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастёрках из мешковины. Недаром, как записал в своём дневнике редактор дивизионной газеты «Уфимец» Пётр Савинцев, одну из своих речей перед героями «Ледяного похода» Семёнов «начал с высоких материй, а кончил тёплыми штанами, которые пообещал выдать». Высокое жалованье Семёновских солдат тоже вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания – презрение. У каппелевцев такого не было и в помине.
К весне в Забайкалье была создана так называемая Дальне-Восточная Русская армия. Два из трёх её корпусов составили каппелевцы, третий – семёновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование оставил за собой Семёнов. Но уже летом собственно атамановские части, не считая Азиатской дивизии, или перешли к партизанам или разбежались, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм. Тем не менее даже в этой ситуации Семёнов упрямо отказывался заявить о своём подчинении Врангелю, на чём настаивали каппелевцы.
В июне Войцеховский слагает с себя командование и уезжает за границу. Сотни солдат и офицеров уходят вслед за ним. Армию бьёт лихорадка генеральских назначений, смещений и перемещений. Командующим становится Лохвицкий, но ненадолго – вскоре его сменит Вержбицкий. А пока перед Лохвицким встаёт та же трудновыполнимая задача, которая оказалась не по плечу его предшественнику – сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру семёновского режима.
В октябре 1920 года, когда Унгерн уже стоял на склонах Богдо-ула и обстреливал Ургу, китайская полиция в Харбине внезапно совершила налёт на квартиры трёх каппелевских генералов, незадолго до того покинувших Забайкалье – Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, и арестовала их по какому-то вздорному обвинению. Наутро все трое были освобождены, однако изъятые у них при обыске бумаги бесследно пропали. Никто, впрочем, не сомневался, что свою добычу китайцы переправили к Семёнову, что харбинская полиция им подкуплена и целью всей операции являлось похищение компрометирующих атамана документов.
В интервью одной из газет Акинтиевский подробно перечислил, что именно у него украли: это докладные записки о расстреле рабочих в Чите, о хищении золота и тому подобное. Несколько документов касались непосредственно Унгерна: «Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчинёнными», «Жалоба г-жи Теребейниной об убийстве её мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна», а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевому суду. Поначалу, видимо, намерения Лохвицкого были самые серьёзные. Многие потом сожалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на Белую идею, сумел избежать казни. Один каппелевский офицер прямо писал: «Знаменитый Унгерн, сумасшедший барон, давно был бы повешен, если бы не японцы».
Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли ещё в июне, когда по распоряжению Лохвицкого производилась инспекция забайкальских тюрем. В Нерчинске генерал Молчанов освободил почти всех заключённых, а в Даурии – вообще всех. Камеры опустели, страшная даурская гауптвахта прекратила своё существование. Но то, что каппелевцы там увидели и услышали, привело их в ужас. Очевидно, в это время, опасаясь ареста и суда, Унгерн стал склоняться к мысли всё бросить, уехать, поселиться «на родине» в Австрии. Так он говорил в плену, не уточняя, когда именно явилась ему эта мысль. Империя Габсбургов исчезла с географической карты, но Унгерн готов был смириться и с Австрийской республикой. То ли ему казалось, что там он будет принят и натурализован по праву рождения, то ли его звал туда Лауренц-Дауренц, но получить визу почему-то не удалось. Вероятно, попытки не были очень уж настойчивыми. Они прекратились, как только, благодаря стараниям Семёнова и японцев, тревога миновала. Документы, позволявшие начать судебный процесс над бароном, легли под сукно.
Правда, подчинить Азиатскую дивизию Лохвицкому на общих основаниях Унгерн отказался наотрез. Один из его офицеров, капитан Никитин, рассказывает, что вернувшись из командировки в Читу, он около 10 августа сошёл с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Но сам Унгерн был на месте. Он подвёл Никитина к окну в своём кабинете и, указывая на видневшуюся вдали вершину одной из сопок, сказал: «Вот вам направление, догоняйте дивизию. Когда она придёт в Акшу, я приеду туда…»








