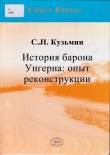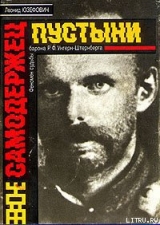
Текст книги "Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Унгерн являл собой тот же психологический типаж. Он тоже параноически верил в свою избранность, окружал себя астрологами, гадателями, предсказателями. Офицеры Азиатской дивизии не понимали, что эти презираемые ими «грязные ламы» должны были, помимо прочего, расшифровывать тайные знаки и сигналы, поступающие к Унгерну от тех, кто привёл его, эстляндского барона, в Монголию и вручил ему власть над этой страной. И основополагающее в теософии понятие судьбы он, очевидно, воспринимал как волю хозяев Агарты. Понять собственную судьбу значило для него постичь скрытый от простых смертных вектор мировой истории. В своей магической сопричастности ему Унгерн не сомневался.
Ламы рассказывали Оссендовскому, что когда-нибудь обитатели Агарты выйдут из земных недр. Этому будет предшествовать вселенская кровавая смута и разрушение всех основ жизни: «Отец восстанет на сына, брат на брата, мать на дочь. А затем – порок, преступление, растление тела и души. Семьи распадутся, вера и любовь исчезнут. Из десяти тысяч останется один, но и он будет гол и безумен, без силы и знаний, достаточных хотя бы для постройки дома и добывания пищи. Он будет выть, как бешеный волк, питаться трупами, грызть собственное тело и вызовет Бога на бой. Вся земля будет опустошена. Бог отвернётся от неё, и над ней будут витать лишь смерть и ночь…» Но тогда «явится народ, доселе неизвестный», он «вырвет сильною рукою плевелы безумия и порока, поведёт на борьбу со злом тех, кто останется ещё верен делу человечества, и этот народ начнёт новую жизнь на земле, очищенной смертью народов».
Ту же самую апокалиптическую картину современности сам Унгерн рисовал в письме одному монгольскому князю: «Вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли Небо». Точно так же вписывалось в реальность предсказание о неведомом народе с «сильною рукою»: в нём Унгерн увидел кочевников Центральной Азии.
«Барон стоял на грани почти гениальности и безумия, – писал о нём современник. – Он принадлежал к величайшим идеалистам и мечтателям всех времён». Отчасти так оно и есть, хотя автор этой характеристики, выданной Унгерну в 1935 году, мог бы уже и догадываться о том, что в ХХ столетии величайшие идеалисты становятся одновременно и величайшими преступниками.
Идеалы Унгерна достаточно просты, какими, впрочем, они и должны были быть, чтобы не остаться только мечтами, а сложиться в идеологию со всеми вытекающими из неё практическими выводами. В 1919 – годах, наездами бывая в Харбине, барон часто встречался и беседовал с жившим там неким С.-Р., которого высоко ценил за «ум и образованность». В разговорах с ним Унгерн и высказал «свои сокровенные мысли». Суть их состояла в следующем. Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки расцвета, после чего начался период постепенно прогрессирующего упадка. Культура пошла по ложному пути. Она перестала «служить для счастья человека» и «из величины подсобной сделалась самодовлеющей». Под властью буржуазии, главным образом еврейской, западные нации разложились. Русская революция – начало конца всей Европы. Но есть в мире сила, способная повернуть вспять колесо истории. Это кочевники центрально-азиатских степей, прежде всего – монголы. Сейчас, пусть «в иных формах», они находятся на том этапе общего для всех народов исторического пути, откуда пять столетий назад Запад свернул к своей гибели. Монголам и вообще всей жёлтой расе суждена великая задача: огнём и мечом стереть с лица земли прогнившую европейскую цивилизацию от Тихого океана «до берегов Португалии», чтобы на обломках старого мира воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию своей собственной.
Любовь Унгерна к монголам предопределила традиционную в системах такого рода ненависть к евреям. Первые несли в себе божественное начало, вторые – дьявольское. Одни были воплощением всех добродетелей прошлого, другие – всех пороков настоящего. Монголы были прирождёнными мистиками, как сам барон, евреи – сугубыми рационалистами, и в этом качестве они олицетворяли собой всё то, что Унгерну было ненавистно в цивилизации XX века.
«Мистицизм барона, – писал знавший его лично колчаковский офицер Борис Волков, – убеждение в том, что Запад – англичане, французы, американцы, сгнил, что свет с Востока, что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведёт их на Европу, – вот всё, что можно выявить из бессвязных разговоров с ним ряда лиц».
На самом деле выявить можно гораздо больше. За его «мистицизмом» стоит настолько расхожая, что её источником Унгерн даже считал Библию, мысль о том, что одряхлевшая Европа, как некогда Рим и Византия, будет разрушена несущими свежую кровь новыми варварами. Этой идеей пропитан был воздух начала века. Тот же Соловьёв сформулировал неизменно повторяющуюся историческую схему, не многим отличную от варианта князя Чультун-Бэйсэ: «Тогда поднялся от Востока народ безвестный и чужой…» Брюсов вопрошал: «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром?» Блок провидел «свирепого гунна», который будет «в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить», а Максимилиан Волошин в том же 1918 году, когда Унгерн в Маньчжурии принял командование монгольской конницей в отряде Семёнова, надеялся, что «встающий на Востоке древний призрак монгольской угрозы» заставит Россию преодолеть внутренние распри. Да и сам Унгерн не случайно, по-видимому, подчёркивал, что его род ведёт происхождение от гуннов.
Эмигрантский журналист писал о нём: «Если бы море внезапно отхлынуло, на месте его чёрных глубин люди увидели бы страшных, фантастических чудовищ; так из-под волн Гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни, в клетках быта».
Унгерн казался реликтом средневековья, живым анахронизмом, хотя на самом деле был плоть от плоти своей среды и эпохи. В нём текла кровь не столько реальных воинов Аттилы, сколько гуннов Брюсова и Блока. Воплощением этих же судьбоносных всадников стали для него монголы. Прозябающие на периферии мировой истории, не принимаемые в расчёт ни западными политиками, ни большевиками, они должны были принести в мир испепеляющий, очищающий небесный огонь, но сами не могли осознать свою спасительную миссию и определить сроки её исполнения. Им нужен был вождь, и Унгерн верил, что именно с этой целью судьба послала его в Монголию.
Во времена китайского владычества монголы создали множество легенд о грядущем спасителе, который явится с севера, чтобы вернуть им былое величие. Этот герой выступал под разными именами и обличьями, но во всех своих ипостасях должен был сыграть роль национального мессии. Унгерн, в частности, знал пророчество о некоем «бароне Иване»[3]3
Если титул «цин-ван» переводили обычно как «князь», «цзюнь-ван» как «граф», то к «барону» мог быть приравнен «гун» или «туше-гун».
[Закрыть], который когда-нибудь придёт из России и возродит империю Чингисхана, что опять же будет лишь первым этапом в деле «спасения человечества». Так, во всяком случае, Унгерн говорил в плену, причём прямо признавался, что относил это предсказание к самому себе. По его словам, «Иван» и «Роман» – «почти одно и то же». Своё появление в Монголии он воспринимал как факт всемирно-исторического значения, как закономерность, которая рождается не в череде причин и следствий реального мира, а вносится в него извне, через судьбу героя. Ссылаясь на судьбу, что он делал постоянно, Унгерн имел в виду своё предназначение быть исполнителем сверхъестественной воли. Собственнаясудьба казалась ему инструментом, выкованным в подземельях Агарты или в каком-то ином, тайном, но деятельном центре мировой мощи и мудрости, чьё местонахождение он скорее всего предполагал где-то в Гималаях. Его кругозор, не без оснований казавшийся Врангелю «поразительно узким», был очерчен кругом этих идей, которые сами по себе были достаточно примитивны, но в соединении с личностью Унгерна образовали гремучую смесь, взорвавшую русско-китайское пограничье осенью 1920 года, когда барон повёл своих всадников на штурм монгольской столицы.
Русский офицер, он вошёл в Монголию и мог бы войти в Китай, как задолго до него входили туда казачьи полки. Но под трёхцветным российским знаменем Унгерн собирался вести свои разноплемённые войска к цели, которая и не снилась его предшественникам на этих путях. Сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации, он уже в плену однозначно высказал свои убеждения: «Восток непременно должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене жёлтой, восточной культурой, которая образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности».
«Звезда их не знает заката»
Весной 1921 года Унгерн в разговоре с Оссендовским подробно изложил ему свою родословную:
«Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времён Аттилы. В жилах моих предков течёт кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошёлся без нашего участия: в нём погиб Ральф Унгерн, мальчик одиннадцати лет. В XII веке, когда Орден Меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников – славян, эстов, латышей, литовцев, – там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн-Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму, с их жизнью связано немало легенд. Генрих Унгерн-Штернберг по прозвищу „Топор“ был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашёл достойного противника-испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Пётр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнёзда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале XVIII века был известен некий Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это „Братом Сатаны“. Морским разбойником был и мой дед: он собирал дань с английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда наконец поймали, то выдали Русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье…»
Действительно, род баронов Унгерн-Штернбергов был внесён в дворянские матрикулы всех трёх прибалтийских губерний, и официальный родоначальник назван точно – Ганс фон Унгерн, живший, правда, не в XII, а в XIII веке. Баронское достоинство было пожаловано Унгерн-Штернбергам шведской королевой Христиной только в 1653 году, что же касается происхождения от гуннов и венгров, это уже семейная легенда, основанная на звучании фамилии. Родовой герб с лилиями и шестиконечными звёздами был увенчан девизом: «Звезда их не знает заката».
Между Гансом фон Унгерном, вассалом рижского архиепископа, и генерал-майором Романом Фёдоровичем Унгерн-Штернбергом генеалогический словарь насчитывает восемнадцать родовых колен. За шесть столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых, Даго, по-эстонски – Хийумаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его каменистые берега служили пристанищем пиратов, и здесь этот промысел никогда не считался предосудительным.
С юности Унгерн чрезвычайно интересовался своей генеалогией. Позднее все офицеры Азиатской дивизии, которой он командовал, в той или иной степени были наслышаны об экзотических предках барона. Он часто вспоминал о них даже в разговорах с малознакомыми людьми, и это не просто дворянская гордость, а ещё и потребность как-то осмыслить очевидные аномалии собственной души и судьбы. В контексте родовом, семейном, все выглядело по-другому. Патология облагораживалась её фатальной неизбежностью.
Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам. Но любопытно, что из этой цепи оказались выброшены два главнейших звена – отец и дед[4]4
Знаменитый пират приходился Унгерну не дедом, а прапрадедом.
[Закрыть]. Не стоит винить в оплошности Оссендовского, пробел явно сделан не им. О предках-пиратах в Забайкалье и Монголии знали многие, про отца и деда – никто. Унгерн, видимо, не любил о них вспоминать, поскольку оба были людьми сугубо мирных, причём отнюдь не дворянских, занятий. Дед по отцовской линии до самой своей смерти занимал малопочтенную, с точки зрения внука, должность управляющего суконной фабрикой в Кертеле на острове Даго, а отец, будучи доктором философии, жил в Петербурге и подвизался при Министерстве государственных имуществ. Унгерну они должны были казаться досадным, но случайным и не стоящим упоминания буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, морских разбойников и мистиков.
И кажется, не случайно в разговоре с Оссендовским он о своём прапрадеде говорил как о деде. Надо думать, Унгерн сознательно спрямлял пространство своей полулегендарной генеалогии. От предка-пирата, в Индии ставшего буддистом, проще было перекинуть мостки к самому себе. Промежуточные поколения лишь затемняли картину. «Я, – говорил Унгерн, закончив рассказ о нём, – тоже морской офицер, но русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско».
Отчётливо видны три момента, по которым он сближал собственную жизнь с жизнью прапрадеда: буддизм, море и Забайкалье. Окружённая семейными преданиями, эта фигура, наверняка, волновала Унгерна в отрочестве, но ещё, может быть, сильнее – впоследствии, когда он начал замечать (а отчасти придумывать) удивительное сходство их судеб.
Реальный Отто-Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, получивший, кстати, то же прозвище, что и его праправнук – «кровавый», не был ни настоящим моряком, ни корсаром, в том романтическом смысле, какой вкладывался в это слово после Байрона. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя действительно добирался до Индии, до Мадраса, где во время Семилетней войны был арестован англичанами – скорее всего, как подозрительный иностранец, а вовсе не как пират и гроза Индийского океана.
Он родился в 1744 году в Лифляндии, учился в Лейпцигском университете, затем служил при дворе польского короля Станислава Понятовского, уже камергером переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Даго. Здесь барон прожил до 1802 года, когда был увезён в Ревель, судим и сослан в Тобольск (а не в Забайкалье, как говорил Унгерн). Там спустя десять лет он и умер. Барон будто бы построил на скалистом берегу возле своего поместья высокую башню-маяк. В бурные ночи на башне зажигали свет, звонили в колокол, заблудившиеся суда шли на эти сигналы и разбивались о скалы. Их груз становился добычей барона, спасшихся моряков убивали. Так продолжалось, пока Унгерн-Штернберга не выдал гувернёр его сына. Он случайно стал свидетелем убийства капитана голландского судна и донёс властям.
Процесс над хозяином Гогенхельма стал уголовной сенсацией тогдашней Европы, о бароне писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. Очень скоро исторический Отто-Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, став настоящей находкой для романтиков, растворился в персонажах романов, драм и поэм, которые имели весьма отдалённое сходство со своим прототипом. Одни подчёркивали в нём демоническое начало, другие трактовали его как трагического пришельца из прошлого, не нашедшего себе места в настоящем. Но после Первой Мировой войны венгерский исследователь Чекеи, чьё любопытство пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Даго», решил попытаться восстановить правду. Изучив материалы судебного процесса, он с удивлением обнаружил, что породивший столько легенд ложный маяк в них даже не упоминается, что барон лишь вылавливал грузы с потерпевших крушение кораблей и причиной его ссылки в Сибирь стала ссора с бывшим владельцем Гогенхельма, в то время – эстляндским генерал-губернатором. Чекеи увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного пирата в звании камергера и с университетским образованием (это-то и волновало!), а трагическую жертву собственной исключительности в чуждой и грубой среде. «Барон, – утверждает Чекеи, – был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным и вращался в высших сферах. Он был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг как к себе, так и к окружающим, однако справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Кроме того, он построил церковь. При всём том он страдал ностальгией по прежней жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона».
Если бы праправнук прочёл эту характеристику своего предка, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Именно так он представлял себя сам – рыцарем среди черни, одиноким и непонятым, и таким его иногда изображали. Унгерн и вправду обладал теми же традиционными феодальными добродетелями, какие приписывал Чекеи своему герою, – храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчинённых, справедливостью в собственном её понимании. Точно так же он слыл нелюдимом и жаловался на отсутствие интеллигентного общества. Он тоже получил прекрасное воспитание, знал языки, читал Данте, Гёте, Достоевского и Анри Бергсона, хотя всё это не мешало ему отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне и жечь людей живьём. Тип палача-философа ещё только входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить противоречие, в те годы казавшееся невероятным, одни искренне считали вымыслом чудовищную жестокость барона, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить не о садизме, а о «вынужденной суровости при поддержании дисциплины», вторые, вопреки фактам, называли Унгерна «дегенератом».
Приблизительно так же Чекеи рассуждал о его прапрадеде. Он уверен, что этот образованный и даровитый человек не мог быть пиратом и, следовательно, пострадал дважды – сначала от судебного произвола, затем от фантазии романистов и поэтов. Но ведь историю с фальшивым маяком придумал не граф Штенбок, не французские и немецкие беллетристы. Хотя на процессе это обвинение не выдвигалось – возможно, по причине его недоказуемости, – но в памяти эстонских и шведских крестьян побережья «хозяин Даго» так навсегда и остался человеком, зажигающим на башне обманный огонь. Маяк, древний символ надежды и спасения, он обратил в орудие зла, сделал вестником гибели, и в этом дьявольском перевёртыше при желании можно усмотреть знак действительного, а не сочинённого сходства между прапрадедом и праправнуком.
Роберт и Роман: от Австрии до Амура
В плену, на одном из допросов, Унгерн, к удивлению тех, кто его допрашивал, заявил, что не считает себя русским патриотом, и своей «родиной» назвал Австрию. Действительно, родился он не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском городе Граце.
Датой рождения Унгерна считается 22 января 1886 года по новому стилю, хотя на самом деле он появился на свет 29 декабря 1885 года, т. е. на двадцать четыре дня раньше. Очевидно, супруги Унгерн-Штернберги, будучи лютеранами, за границей зарегистрировали рождение сына по принятому в Западной Европе григорианскому календарю, но позднее, при поступлении мальчика в гимназию или в кадетский корпус, писарь, переводя григорианский календарь в юлианский, вместо того чтобы вычесть двенадцать дней, наоборот прибавил их к исходному числу. Затем полученная таким образом дата перекочевала в документы полковых канцелярий. После революции её, само собой, сочли данной по старому стилю, и соответственно, приплюсовали ещё двенадцать дней. В итоге Унгерн стал моложе почти на месяц.
Столь же фиктивно его имя, под которым он вошёл в историю, и третье подряд смещение такого рода кажется уже символическим. По традиции, распространённой в немецких дворянских семьях, мальчик был назван тройным именем – Роберт-Николай-Максимилиан. Позднее он отбросил последние два, а первое, основное, заменил наиболее близким по звучанию начального слога славянским – Роман. Новое имя ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с летописными князьями, и с суровой твёрдостью древних римлян. К концу жизни оно стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чьё презрение к смерти, воинственность и фанатичная преданность свергнутой династии вкупе с некоторой, в расхожем понимании, романтической экзальтированностью, также откликающейся в этом имени, были широко известны, По отцу – Теодору-Леонгарду-Рудольфу, сын стал Романом Фёдоровичем.
Отец, самый младший ребёнок в семье, имел четырех старших братьев и на серьёзное наследство рассчитывать, естественно, не мог. Но в 1880 году, в возрасте двадцати трёх лет, он женился на девятнадцатилетней уроженке Штутгарта, Софи-Шарлотте фон Вимпфен. Она, видимо, принесла мужу значительное приданое. Супруги много путешествовали по Европе, сын Роберт, их первый и единственный ребёнок, родился лишь на шестом году брака.
После переезда семьи в Ревель, летом 1887 года Теодор-Леонгард-Рудольф совершил поездку по Южному берегу Крыма с целью изучить перспективы развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в солидном сочинении с таблицами, статистическими выкладками и пр., однако и здесь доктор философии Лейпцигского университета сумел найти возможность высказать некоторые мысли, свидетельствующие об интересе к социальным вопросам. «Россия, – пишет он, например, – страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав её промежуточные стадии на пути к прогрессу». В доказательство этого тезиса приводится следующий факт: русские стали строить железные дороги сразу вслед за просёлочными, а шоссейных практически не знали. Автор видит здесь момент обнадёживающий. Он не подозревает, что резкое увеличение скорости чревато катастрофой, что Россия, прямо с просёлка встав на рельсы, вот-вот покатится по ним к революции[5]5
Унгерн-старший умер в Петрограде в 1918 году. В это время его сын, оседлавший железнодорожную ветку между станциями Даурия и Маньчжурия, грабил проходившие поезда точно так же, как прапрадед – корабли, проплывавшие мимо Даго.
[Закрыть].
Сочинение Унгерна-старшего – труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией. Но это не исключает склонности автора к своеобразному прожектёрству. Если сын будет строить планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, то идея отца хотя и скромнее, но замешана на тех же дрожжах. Он предлагает для пропаганды виноделия среди крымских татар учредить «класс странствующих учителей». Этих бродячих проповедников он представлял почти героями и предупреждал, что их миссия потребует «много самопожертвования», поэтому «при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью». Разумеется, крымские татары как мусульмане с понятной недоверчивостью относились к виноградной лозе, но здесь важнее другое: стремление даже хозяйственное предприятие облечь в формы романтического служения и подвижничества типично для тогдашней российской интеллигенции. Впрочем, зная характер младшего Унгерна, и в отце можно отыскать зародыш той мании прожектёрства, которая у сына примет патологические формы.
Было бы неосторожно предположить, что именно подобные черты в характере Теодора-Леонгарда-Рудольфа послужили причиной семейного конфликта, но в 1891 году родители пятилетнего Роберта развелись, мальчик остался с матерью. Через три года она вторично вышла замуж – за барона Оскара Хойнинген-Хьюн Йерваканта. Брак оказался удачным, Софи-Шарлотта родила ещё сына и дочь. Семья постоянно проживала в Ревеле. Дом отчима Унгерн считал родным, там он останавливался, изредка приезжая на родину, даже после того, как в 1907 году мать умерла. Его отношения со сводным братом и сестрой были самые родственные.
Некоторое время он посещал ревельскую Николаевскую гимназию, но был исключён. Как объясняет дело один из его кузенов – Арвид Унгерн-Штернберг, Роберт, «несмотря на одарённость, вынужден был покинуть гимназию из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков». Сказано мягко, но, угадывая в мальчике черты взрослого мужчины, каким он станет впоследствии, трудно поверить в невинность этих проказ. Как бы то ни было, Роберта решено было отдать в военное заведение. Мать остановила свой выбор на Морском корпусе в Петербурге, куда и отдала сына в 1896 году.
Однако военным моряком Унгерн не стал. Едва началась война с Японией, он решил ехать на фронт и за год до выпуска поступил рядовым в пехотный полк, что было поступком достаточно экстравагантным. Правда, к тому времени, когда Унгерн попал на Дальний Восток, война уже кончилась. Через год, так и не побывав под огнём, он возвращается в Ревель, затем поступает в Павловское пехотное училище в Петербурге. В 1908 году, «по окончании полного курса наук», его производят в офицеры, но не в подпоручики, чего следовало бы ожидать по профилю училища, а в хорунжии 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для «павлона», как называли блестящих павловских юнкеров, производство и назначение Арвид Унгерн-Штернберг объяснял тем, что поскольку его кузен мечтал служить в кавалерии, то ему как выпускнику пехотного училища «можно было осуществить это своё желание только в казачьем полку».
То, что из всех казачьих войск Унгерн выбрал именно второразрядное Забайкальское, тоже вполне объяснимо. Во-первых, в это время поползли слухи о приближении новой войны с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий. Во-вторых, «жёлтыми» казаками (забайкальцы носили погоны и лампасы жёлтого цвета) командовал тогда генерал Ренненкампф фон Эдлер, с которым Унгерн состоял в родстве: его бабушка со стороны отца, Наталья-Вильгельмина, была урождённая Ренненкампф. Это позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.
В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре так называемых первоочередных полка шестисотенного состава: Читинский, Верхнеудинский, Нерчинский и Аргунский, в котором служил Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия между Читой и границей Китая. Здесь Унгерн быстро стал отличным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», – аттестовал его командир сотни.
Под конец жизни барон сделался абсолютным трезвенником, но сам признавался, что бывали времена, когда он напивался до «белой горячки». Наркотики тоже входили в программу развлечений местного офицерства, причём гораздо более сильные, чем заурядный кокаин. Впоследствии, намереваясь организовать для борьбы с революцией «Орден военных буддистов», Унгерн допускал употребление его членами гашиша и опиума, ибо «нужно дать возможность русскому человеку тешить свою буйную натуру». В шестидесяти верстах от границы Срединной Империи раздобыть всё это не составляло большого труда.
В кратком описании внешности пленного барона, предваряющем протокол одного из допросов, отмечено: «На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли». Этот шрам на лице своего подчинённого запомнил и Врангель. Он даже полагал, что нервные припадки, которыми страдал Унгерн, и вообще некоторая патология его характера объясняются травмой от того давнего сабельного удара. Другие утверждали, что удар мог быть и сильнее и что барон, сам затеявший ссору, уцелел только благодаря рыцарственности противника.
В начале века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традиция столетней давности была искусственно реанимирована сверху в совершенно иных условиях. Соответственно усилился и элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Отныне поединок перестал быть интимным делом двоих. Дуэли производились не по обоюдному соглашению, а по приговору офицерских судов чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и дивизий. Они же выступали высшими арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в закон, священный некогда ритуал утратил свою былую значимость. В дивизии, где служил Унгерн, произошёл, например, такой инцидент. Офицер нанёс товарищу «оскорбление действием», и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в двадцать пять шагов, после чего и помирились. Вскоре, однако, выяснилось, что накануне дуэли секунданты офицера, нанёсшего оскорбление, предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь «внешними формальностями». Те отказались, и секундантам, которые вместо дуэли решили устроить её имитацию, пришлось перевестись в другой полк. Тем не менее начальник дивизии, узнав об этом, чрезвычайно возмутился. «Нравственные правила и благородство, – писал он в циркулярном письме полковым командирам, – исчезают в офицерской среде, и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Его негодование вызвано тем, что остракизму не были подвергнуты и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их постыдное предложение, не оскорбились и не потребовали сатисфакции, а довольствовались всего лишь докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности ещё двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения[6]6
Последним, может быть, случаем, продемонстрировавшим, что старинные традиции воинской чести ещё живы, хотя и бессильны воздействовать на ход событий, был следующий: когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало.
[Закрыть].
Обвинить Унгерна в «мещанских взглядах на нравственность» не мог бы никто. Всё бюргерское, житейское вызывало у него презрение, но через полгода службы в Даурии суд чести предложил ему покинуть полк. Причиной послужила какая-то ссора, закончившаяся не то поединком, не то просто пьяной рубкой на шашках. Всю жизнь он был подвержен внезапным припадкам бешенства, а в подпитии становился и вовсе невменяем. Слава о его диких выходках тянулась за Унгерном с юности, и результатом одной из них стала публичная пощёчина, уже во время войны полученная им от генерала Леонтовича.
На этот раз ему помогли влиятельные родственники – сам Ренненкампф или один из родственников по отцу, служивший в Генеральном Штабе. Высочайшим указом Унгерн из Аргунского полка был переведён в Амурский – единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы вернуться туда через восемь лет и превратить название этой станции в мрачный символ террора и ужаса.