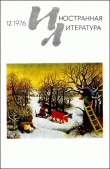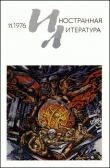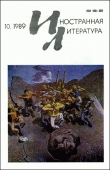Текст книги "Каждому свое • Американская тетушка"
Автор книги: Леонардо Шаша
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Итак, американцы потребовали ружья, говорили, что потом вернут их. Мой отец вырезал на прикладе своего ружья фамилию, это было хорошее бельгийское ружье, отец говорил, что в городе не найти лучшего, он верил, что ему его вернут, и для этого вырезал на прикладе фамилию. Затем он вытащил откуда-то два пистолета, которых я никогда не видел, и один из них был величиной с руку и заряжался с дула, и саблю, покрытую ржавчиной и с обломанным кончиком, но кто знает, может, нам и не поздоровилось бы, если бы американцы нашли ее у нас дома. В день сдачи оружия я пошел с отцом; принимали оружие американский солдат и бригадир карабинеров, бригадир записал в книгу: «Одно ружье, два пистолета, одна сабля»; отец потребовал, чтобы записали также номера и марку; бригадир рассердился, ему жилось теперь лучше, чем прежде, он таскался с американцами к женщинам, и говорили, комната у него была завалена пачками и блоками сигарет.
– Твое дело сдать все, остальное – моя забота, – зло сказал он.
Там уже громоздилась целая куча оружия, отец осторожно положил в нее ружье. Думаю, в эту минуту он понял, что не получит его обратно, психовал потом весь день, и назавтра – тоже, и всякий раз, когда речь заходила о ружьях. Через какое-то время ему вернули ружье, два пистолета и саблю, но приличной оказалась лишь сабля, а ружье и пистолеты годились только для того, чтобы продать их как железный лом.
Филиппо уже давно торчал во дворе казармы, наблюдая за сдачей оружия. Мой отец ушел, а я тоже остался поглядеть. Зрелище напоминало процессию; сдав оружие, крестьяне сразу же уходили, ругаясь. «У воров теперь автоматы, а у честных людей даже допотопного дробовика нет», – ворчали они, и это была правда, в городе орудовали воры, двоих в масках и с винтовками поймали, их по-отечески принял американский майор, весь беленький и осанистый, говорили, у себя на родине он преподавал философию, может, так говорили потому, что здесь все, кажущееся странным, связывают с философией. Майор отпустил обоих воров с миром, посоветовал им жить честно и тихо, работать; на лице переводчика, когда он объяснил, что сказал майор, было написано: «Ни черта не понимаю, сами видите, какие они идиоты, эти американцы», а защитник, которому не удалось вставить ни словечка, потом поносил Колумба, поскольку при таком повороте дела бедняге защитнику трудно было рассчитывать на несколько сот лир гонорара. А вот нам американский майор нравился, мы ходили за ним по пятам по лестницам муниципалитета, и ни разу он нас не прогнал, время от времени он на нас поглядывал и с трудом выговаривал:
– Маленькие сицилийцы.
Похоже, он был добрым, наверно, дома, в Америке, у него остались дети. И у солдата, следившего за приемом оружия, тоже было доброе лицо, он жевал резинку и улыбался, перекидывался несколькими словами с бригадиром и снова умолкал, улыбаясь и жуя резинку. Может, он думал о доме, об Америке, где сплошь огромные домища и автомобили, и о своей матери, которая смотрела в окно с верхотуры. Казалось, он не замечал нас; когда он повернулся, собираясь угостить нас пластинками жевательной резинки, мы подумали, что он решил прогнать нас, но он дал нам резинку и сказал:
– Резинка хорошая, не ментоловая.
Ясно, что ментоловая ему не нравилась, мне она самому не нравилась. Я поблагодарил, Филиппо – тоже, с незнакомыми людьми нам удавалось сходить за воспитанных деток, мы даже под ангелочков умели работать, но это мы оставляли для занятий катехизисом в церкви. Американец смотрел на нас улыбаясь. Тогда я сказал:
– У меня тетя в Америке. – Мне казалось, что нужно во что бы то ни стало подружиться с ним.
– О, в Америке, – произнес американец.
– Да, в Бруклине.
– Я тоже живу в Бруклине, – сказал американец, – и Бруклин большой.
– Какой? – спросил я. – Как этот город?
Я хорошо знал, что он такой большой, как наш город, Каникатти и Джирдженти, вместе взятые, и что это всего лишь один из районов Нью-Йорка, но мне не хотелось, чтобы разговор иссяк.
– Больше, больше, – ответил американец.
– Он величиной с Палермо, – сказал Филиппо, – я знаю. Мой отец был в Америке.
– Да, пожалуй, как Палермо, – согласился солдат.
– В Палермо, – сказал я, – есть море, и в Порто Эмпедокле море есть; я был до войны в Порто Эмпедокле, но ничего, кроме лодок, не помню. А в Бруклине есть море?
– Нет, но оно близко, – ответил солдат, – мы ездим к морю на машинах.
– А Бруклин красивый? – спросил Филиппо; мне же хотелось продолжить разговор о машинах.
– Нет, – признался американец, – здесь красивей.
– А как война? – спросил я. – Тебе нравится на войне?
Солдат улыбнулся, потом сказал:
– Война – паршивая штука, из-за нее умирают даже такие малыши, как вы. А здесь красиво.
Небо над двором было как вода, когда в ней растворяют синьку, облака заменяли пену, построенная из песчаника колокольня церкви св. Иосифа казалась золотой.
– Пойдешь со мной? – предложил бригадир.
Солдат ушел, не попрощавшись с нами.
Назавтра мы снова были во дворе казармы. Солдат сидел на прежнем месте, читал книгу и жевал резинку. Увидев нас, он сказал: «Алло», – и продолжал читать. Немного погодя он закрыл книгу, вынул пакетик резинки и протянул нам по одной.
– Чунга, – объяснил он, – это называется чунга.
– А как называются конфеты? – спросил Филиппо.
– Кенди, – ответил солдат, – в Америке любые кенди есть.
– А здесь нет кенди, – сказал я.
– И картошки нет, – прибавил Филиппо, – я уже забыл, какой у нее вкус, у картошки, когда я был маленький, мы всегда ели картошку.
– Картошку, – сказал я, – втихую продает у нас один муниципальный стражник, дорого продает, мой отец говорит, что выгоднее покупать мясо.
– Тоже скажешь, – запротестовал Филиппо, – мясо, тут хлеба нет, а ты захотел мясо найти.
– Почему вы не привозите нам пшеницу? – спросил я американца. – Отец говорит, что вы выбрасываете ее в море, пшеницу.
– Неправда, в море мы ее не выбрасываем, – ответил он. – У нас нет кораблей, чтобы возить пшеницу, вот кончится война, тогда и привезем.
– А скоро война-то кончится? – спросил я. – После войны моя тетя приедет.
– Правильно, приедет твоя тетя из Бруклина. Но война – долгая штука, кто знает, когда она кончится.
– У моей тети магазин в Бруклине, – объявил я, – большой магазин: до войны она присылала нам посылки и вкладывала доллары в письма, а на рождество даже мне прислала целый доллар.
– У него тетя богатая, – сказал Филиппо солдату.
– У нее две машины, – объяснил я, – и одна большая и вся блестит, я видел на фотокарточке.
– Кончится война, и твоя тетя приедет на большой красивой машине, – сказал солдат. – Я тоже приеду на машине. Здесь красиво.
– А у тебя есть машина? – спросил я. – Какая?
– В Америке у нас у всех машины. Вот моя, – и он вынул из кармана бумажник, а из бумажника фотографию. На ней была длинная сверкающая машина, рядом стоял он, положив руку на дверцу, толстая женщина в цветастом платье и двое детей в свитерах; сзади были деревья.
– Твоего отца тут нет, – сказал я.
– Нет, мой отец умер.
– Я один раз видел мертвого, – сказал Филиппо, – это был немец, его вытащили мертвым из самолета, который близко от города упал. А потом ночью он мне приснился, мне казалось, что он живой, больше я не хожу смотреть на мертвых.
– А что тебе сделают мертвые? – спросил я. Сам я никогда не видел их, да и не жалел об этом. – Когда люди умирают, их больше нет. Я бы хотел посмотреть на мертвого немца. А ты видел мертвых немцев? – спросил я солдата.
– Да, – ответил он, – много видел, и американцев мертвых видел, и англичан, и французов, и австралийцев.
– Да, но немцы ведь плохие, – сказал Филиппо, – лучше, чтобы умирали немцы.
– Сейчас война, поэтому лучше, чтобы они умирали, – сказал солдат. – Чем больше немцев умрет, тем скорее мы победим.
– Россия тоже победит, – сказал Филиппо.
– О, Россия! – сказал солдат.
– Россия не такая, как Америка, – заметил я.
– Да, – согласился солдат, – Россия совсем другое дело.
Дядя сидел дома и с утра до ночи слушал радио.
– Сукины дети, – ругался он, – кто знает, куда они его дели.
– Да заткнись ты, – иногда взрывался отец. – Тебе все еще охота наряжаться клоуном, мало тебе того, что он натворил.
– А что он такого натворил? – спрашивал дядя. – Италию уважали, перед ней трепетали. Жизнь была хорошая. Порядок был. Ты ведь и сам клоуном наряжался и утверждал, что он был великим человеком. Чем же он тебе насолил вдруг, ну чем?
– По-твоему, война, которую он развязал, пустяки? – отвечал отец. – Конечно, для тебя это пустяки, ты прав, на войне другие маются, а тебе от нее ни холодно, ни жарко...
Как-то вечером по радио выступил Орландо[17]17
Глава итальянского правительства в 1917—1918 гг., сицилиец.
[Закрыть], он сказал, что снаряды, летевшие из Сицилии в Калабрию, служили связующим звеном между Сицилией и Италией, этот образ остался у меня в памяти.
Отец говорил:
– Орландо великий человек.
Дядя не соглашался:
– Как же, как же, он спасет Италию, этот старик, впавший в детство, держи карман шире.
– Да, – настаивал отец. – У этого старика голова на плечах, а вот дуче твой псих, в сумасшедшем доме ему место, так даже Боккини считал, он однажды по секрету сказал это Чиччо Карделле, который большая шишка в министерстве.
– Ишь ты, – не сдавался дядя, – он мне говорит о Боккини. Сплошные предатели, вот кто они все.
– Все его предавали, – возвышал голос отец, – ты один не предавал. Да и как ты мог предавать его, прилипнув задницей к этому креслу и вопя что ни праздник: «Дуче! Дуче!»?
– Да не ори ты, – просил дядя, – а то услышат на улице. При той должности, какую я занимал, меня заберут и увезут прямо в Орано, неизвестно еще, довезут ли, ведь им ничего не стоит сбросить меня в море по дороге.
Дядя прямо заболел от страха, я пользовался этим его состоянием, чтобы немного позабавиться. Я принимался петь: «Дуче, дуче, погибнем за тебя!» – и дядя лез на чердак, где я горланил, и говорил:
– Паршивец, неужели ты не понимаешь, что подводишь меня? Ведь меня в Орано увезут!
Я начинал хохотать, и тогда он напускал на себя торжественность:
– Италия плачет, а ты ржешь. Да пойми же ты, у нас враг в доме...
Американского солдата звали Тони, он родился в Калабрии, а в Америку его увезли, когда ему был год, теперь он ждал отпуска, чтобы съездить в Калабрию, там в небольшом городишке у него жили родственники. Американцы уже были в Калабрии, «связующее звено» сыграло свою роль.
Я спрашивал, любит ли он своих калабрийских родственников, я хотел узнать, могли ли моя тетя и ее дети любить меня и мою мать. Тони ответил:
– Они бедные.
Я спросил:
– Какие бедные? Мы, по-твоему, бедные?
– Они беднее вас, – ответил Тони, – они спят в одной комнате с овцами, дети ходят босиком.
– А ты посылал бы им деньги из Америки, – посоветовал Филиппо, – и они покупали бы ботинки.
– Я несколько раз посылал, – ответил Тони.
– Теперь вот война кончится, – сказал я дипломатично, как будто все зависело от Тони, – и американцы привезут ботинки для всех, ботинки и хлеб, целые пароходы придут.
– Американцы работают, – сказал Тони, – они работают, и у них есть ботинки, есть красивая одежда, хорошие дома и машины, а итальянцы не хотят работать.
– Я хочу работать, – заметил Филиппо, – и мой отец работает. Отец говорит, что это богатые отнимают у нас хлеб.
– Вот ты и должен работать, чтобы стать богатым, – заявил Тони, – в Америке все работают и становятся богатыми.
– У моего отца есть дядя, – сказал я, – который не работает и все равно богатый.
– Здесь никто не работает, – сказал американец, – ни богатые, ни бедные. Для богатых тут благодать, лучше даже, чем в Америке.
– Я бы хотел поехать в Америку, – признался я. – Заработал бы денег и потом вернулся бы, купил бы себе хорошую машину и вернулся бы.
– А я бы не поехал, – заявил Филиппо. – После войны не будет больше богатых.
– Будет еще больше, чем раньше, – сказал Тони, – причем те, кто были богатыми, сделаются еще богаче, и никто по-прежнему не захочет работать.
– Но разве вы не прогоните фашистов? – удивился Филиппо. – Если вы их прогоните, наступит социализм.
– Мы воюй, а вы потом социализм устроите, – сказал Тони. – Нечего сказать, в хорошем мы выигрыше будем. На этот счет я бы кое с кем потолковал.
– Это с кем же? – поинтересовался я.
– С одним человеком в Америке, – ответил он.
Вечером зазвонили колокола; моя мать подумала, что где-то пожар или еще какое несчастье, но с улицы крикнули, что заключено перемирие, мать начала молиться, благодаря бога за то, что многие дети останутся в живых. Дядя нервно расхаживал по комнате, приговаривая:
– И что они себе думают, эти немцы, хотел бы я знать. Этого нам только недоставало! Если же немцы считают так же, как я, тогда я хотел бы поглядеть на этого хрена Бадольо и заодно на другого – на шибздика, этого предателя.
Мой отец говорил:
– А ты где был? Взял бы да и пошел продолжать войну, то-то кукольный театр был бы! Честь, союз, дружба... Прихвати с собой сабельку и наведи там порядок.
Воспользовавшись тем, что спор становился все оживленнее, я выскользнул из дому. На площади толпился народ – перед церковью св. Анны, единственной церковью, которая не участвовала в хоре колоколов, люди требовали, чтобы священник велел звонить, а тот, высунувшись из окна, кричал:
– По-вашему, это праздник, да? Неужели вам не ясно, что мы проиграли? Поимели бы совесть!
В конце концов у кого-то лопнуло терпение, и он выстрелил в колокол, на что священник завопил: «Разбойники!» – и поспешил захлопнуть окно.
Дядя заявил потом, что в нашем городе всего двое мужчин – он и священник из церкви св. Анны.
Тони был высоким блондином, моему отцу не верилось, что его родители– калабрийцы, все калабрийцы, которых знал отец, были малорослыми и черноволосыми, а по дядиным словам выходило, что все калабрийцы– тупицы, что Италия огромная страна, но калабрийцы – тупицы, сардинцы – продажные шкуры, римляне – плохо воспитаны, неаполитанцы – побирушки...
По воскресеньям Тони ходил к мессе, и, когда все вставали, видно было, что в нашем городе нет ни одного человека такого высокого роста, как он. После мессы, где он принимал причастие, мы шли с ним в кафе. Мы спрашивали, есть ли церкви в Америке. Тони говорил, что церкви есть и что люди в Америке религиозней, чем у нас. Еще мы спрашивали, что делается в Америке по воскресеньям. Слова Тони рисовали перед нами грустную воскресную картину: для нас воскресенье – это площадь, забитая народом, лотки и голоса продавцов, а американцы искали уединения и тишины – на охоте или на рыбалке.
– А ребята чем занимаются? – интересовались мы.
– Играют в разные игры.
– Моя тетя, – сказал я, – однажды прислала мне роликовые коньки. А на что они мне? Когда я захотел покататься на них, я чуть башку не разбил.
– Здесь коньки ни к чему, – согласился Тони. – Не те дороги.
– А в Америке какие дороги?
– Широкие и ровные, – ответил он. – По ним не меньше десяти машин в ряд едут, и пыли нет.
– В Америке, – сказал Филиппо, – поезда даже под землей ходят и даже по воздуху. Вот бы прокатиться на таком, только не под землей, а по воздуху.
– А ты, часом, не спутал поезд с самолетом? – спросил я. – В жизни не слыхал, чтобы поезда летали.
– Да нет же, они не летают, – объяснил Тони. – Для них построены высокие железные мосты, и поезда идут по этим мостам. Мосты высокие, и поезд идет над городом.
– Прямо над домами? – поразился я. – А что, если он упадет?
– Как же он упадет? – спросил Филиппо. – Мост-то железный. Спорить готов, ты бы испугался сесть в такой поезд.
– Я за дома боюсь, которые внизу. Вот уж чего бы я не хотел, так это жить в доме под таким мостом.
– А я ничего не боюсь, – расхвастался Филиппо.
– Неправда, ты мертвых боишься, – уличил я его. – Увидишь мертвого, а потом всю ночь дрейфишь.
– Мертвые тут ни при чем. Правда, ведь мертвые ни при чем? – спросил Филиппо у Тони.
– Нет, при чем, – ответил Тони. – Человек боится мертвых потому, что сам не хочет умереть.
– Я не хочу умереть, – сказал я.
– Значит, ты боишься мертвых, – обрадовался Филиппо. – Никому не хочется умирать, и все мы боимся мертвых.
– Солдаты хотят умирать, – сказал я.
– Солдаты должны прогнать фашистов и ради этого готовы умереть, – заявил Филиппо. – Мой отец готов был сесть в тюрьму, а солдаты готовы умереть. Это разные вещи.
– А что делали фашисты? – спросил Тони.
– Ничего не делали, – ответил я. – Мой дядя был фашистом и ничего не делал, он никогда ничего не делал!
– Может, и ничего не делали, – согласился Филиппо. – А мой отец хотел в тюрьму сесть, так мать говорит.
В Италии оказался мой двоюродный брат, он воевал здесь, но из его письма мы не смогли понять, где именно: он писал, что, если ему дадут отпуск, он нас навестит. К его письму было приложено письмо от моей тети и пять или шесть бумажек по тысяче лир.
«Дорогая сестра, – писала тетя, – может быть, мой сын попадет в Италию, и поэтому я тебе пишу это письмо в надежде, что оно найдет вас в добром здоровье, в каком мы, спасибо Господу, пребываем. У меня сердце болит за моего сына Чарли, который уезжает на войну, но я надеюсь, что Пресвятая Дева защитит его. Дела у нас идут хорошо, моя дочь Грейс вышла замуж за одного еврея, но парень он неплохой и работящий, и у него парикмахерская рядом с нашим магазином, правда, сейчас он тоже в армии, да защитит его Пресвятая Дева. Эта война нам ни к чему, но Господь не допустит, чтобы в мой дом пришло несчастье, я пообещала Мадонне – покровительнице нашего города – кольцо, которое ношу на пальце, когда война кончится, я его привезу сама, война должна бы скоро кончиться, Америка сильная и победит...»
Мать плакала от радости, читая письмо, самые важные новости она повторяла отцу:
– Грация вышла замуж, моя сестра пообещала кольцо Мадонне дель Прато...
И когда дядя услышал о силе Америки и о том, что она победит, он начал урчать, как кошка, жующая требуху:
– Америка победит, да? Сволочи, все забыли, забыли, как их уважали, ведь раньше-то на итальянцев плевали, это фашизм заставил уважать их за границей! А теперь все снова на нас плевать будут, вот уж я посмеюсь, когда вся эта хреновина кончится! – Он не кричал, чтобы не вывести из себя мою мать, да и время для этого было неподходящее; он именно скалился и урчал, как кошка над требухой.
Я рассказал Тони:
– Тетя письмо прислала, она считает, что Америка победит.
– Победит фашистов, – поправил меня Филиппо, у которого на этот счет был заскок. – Фашистов и немцев.
– Мы победим в войне, – сказал Тони. – Мы выиграем войну, и я вернусь в Америку.
– В Бруклин, – уточнил я. – А потом сядешь в машину и опять приедешь сюда.
– Да, – согласился он, – приеду. Как надоест работать, так и приеду. Здесь здорово, если не работаешь.
■
Тони уехал в октябре, за ним пришел джип, я чуть не плакал. Он подарил нам пакетики чунги и кенди в трубочках, уже из машины помахал нам рукой и сказал:
– Гуд бай.
Остаток дня показался нам длинным и пустым, мы провели его в самых неистовых играх.
В школу мы ходили неохотно, Филиппо плохая учеба сходила с рук, потому что его отец сидел в Комитете освобождения, а наш учитель был раньше командиром фашистской манипулы; мне же не везло, учитель вызывал моего отца и говорил ему, что заниматься со мной – все равно что толочь воду в ступе, отец заставлял меня сидеть дома и готовить уроки, а матери велел никуда меня не пускать. Но я знал, что все останется по-прежнему: едва отец заводил речь о воспитании, как его перебивал дядя:
– Что посеешь, то и пожнешь. Раньше было воспитание, так вам оно не по нраву пришлось, и теперь дети ослами должны расти! – И этого было достаточно, чтобы разговор перешел на другую тему и вспыхнул один из обычных споров.
Фашисты создали на севере республику, дядю невозможно стало оторвать от приемника, он и ночью таскал его за собой, потирал руки и все время повторял слова Гитлера, которые звучали примерно так:
«В двенадцать они решат, что победили, а в пять минут первого победа будет за нами». У меня Гитлер ассоциировался с деревянной головой в балагане, в которую нужно было попасть мячом – пять бросков стоили одну лиру. Когда дядя упоминал Гитлера, я тут же вставлял:
– Деревянная башка. – А если он начинал злиться, я продолжал: – Америка его проглотит, враз проглотит деревянную башку, все равно как кошка – мышь. – Я старался до тех пор, пока глаза у дяди не наливались кровью, и тогда я бросался вниз по лестнице. С лестницы я повторял свою песенку в последний раз, с тем чтобы у меня было потом оправдание – мол, дядя гнался за мной до самой двери, и отец прощал мне бегство, и я даже выглядел до некоторой степени жертвой.
За городом каждый день грабили и убивали, кого-то даже похитили; говоря об этом, отец в чем-то соглашался с дядей.
– А кто сказал, что он ничего хорошего не сделал? Подобных случаев больше не было, факт. Но увидишь, все опять наладится.
– Это при демократии-то? – спрашивал дядя. – Тут сильная власть нужна, а у демократии твоей кишка тонка.
Оттого, что она была не по вкусу дяде, мне демократия начинала нравиться. Разумеется, я не рисковал выходить из города, мне казалось, что живые изгороди, как муравейники, кишели вооруженными людьми в масках; однажды ночью мне приснилось, будто меня похищают, а чтобы я не кричал, в рот мне затолкали целый пакет ваты, я поднял крик, ко мне подошла мать и сказала, что еще ночь. Филиппо говорил:
– Меня не похитят. Меня могут хоть целый год держать, им же хуже, кормить-то меня надо, а выкупа за меня они ни гроша не получат. – Но и он боялся. Гуляли мы уже не за городом, где шуршали желтые листья, а в церковном саду: теперь каноник более настойчиво зазывал нас на уроки катехизиса, угощал нас сушеным инжиром и жареным миндалем.
В городе возобновилась политическая жизнь: на двух зданиях появились эмблемы партий – на одной было написано «Социальное движение» и желтел пучок колосьев, на другой, в центре колеса, образованного тремя согнутыми в коленях ногами, красовалась голова и над нею надпись: «Движение за независимую Сицилию». Члены «движения» и были теми самыми сепаратистами, о которых столько говорили, они хотели отделения Сицилии от Италии; мой отец считал, что они правы, ведь Сицилия, кроме пинков, от Италии ничего никогда не видала.
– Бедная Италия, – причитал дядя. – «Италия моя, я вижу стены...[18]18
Начальная строка патриотической канцоны Дж. Леопарди «К Италии».
[Закрыть]» Они даже стен не оставляют, эти бандиты, им бомбы швырять все равно, что верующему молиться. А теперь еще этот объявился, которому понадобилась независимая Сицилия, и сам – шут гороховый, и те, кто за ним идут, такие же шуты.
Я вертелся среди сепаратистов, носил на рукаве нашивки – одну желтую, другую цвета свернувшейся крови. «Выродок!» – ругался дядя, косясь на мои нашивки. Для меня это было развлечением. По вечерам, запасясь котелком с краской, мы присоединялись к молодым сепаратистам, которые ходили по городу и писали на стенах: «Да здравствует Финоккьяро Априле!», «Да здравствует независимая Сицилия!», «Долой врагов Сицилии!», «Сицилии – свою промышленность!» Парням быстро надоедало малевать одно и то же, и тогда они писали: «Долой тех, кто морит народ голодом! Смерть тем, кто продает пшеницу по 2500 лир!» Это был как бы конкурс на самый удачный лозунг, и назавтра крупные, величиной с ладонь, красные буквы извещали жителей города, что дон Луиджи Ла Веккья – вор, а дон Пьетро Скардия – не только вор, но еще и рогоносец. Нам нравилась эта игра, а когда я видел, как под кистью рождались слова: «Да здравствует Америка! Да здравствует сорок девятая звезда!» – мои сепаратистские взгляды становились взглядами фанатика: я знал, что сорок девятая звезда – это Сицилия, ведь на американском флаге сорок восемь звезд, значит, вместе с Сицилией будет сорок девять, и тогда мы станем американцами.
Тетя писала часто, она посылала письма сыну, а он опускал их в Италии – может быть, в Неаполе. К письмам матери он прибавлял несколько слов по-английски – привет от себя. Моя мать не могла отвечать на эти письма, даже племяннику, который был теперь в Италии, не могла писать.
«Дорогая сестра, – сообщала тетя, – нам тут обещают, что скоро мы сможем писать в Италию и даже посылать посылки, я готовлю много всяких вещей для тебя и твоего мужа, особенно для вашего сына, потому что знаю, как дети мучаются, я видела фотографии и не могла удержаться от слез. Да покарает Господь тех, кто вверг нас в этот ад...»
– Правильно. А кто же вверг нас в этот ад? – обрадовался дядя. – Этот паралитик, ихний президент, который заявился сюда, чтобы морочить нас... Нешто паралитик соображение имеет? Мы бы уже давно Англию спалили, давно бы мир на земле был.
– Хорошенький мир, – заметил отец. – Хорошенький мир людям подарили бы мы вместе с Гитлером.
– С деревянной башкой, – поддакнул я.
Дядя не мог меня больше выносить.
– Полковник Москателли[19]19
Один из руководителей партизанского движения в годы Сопротивления.
[Закрыть], – сказал дядя. – О боже, меня тошнит! Да кто он такой, этот Москателли, из какой он кутузки вылез? А Парри[20]20
Один из лидеров Фронта национального освобождения Италии.
[Закрыть], кто о нем слышал когда-нибудь? Ясно, этот тоже в тюрьме сидел, все подонки нынче наружу вылезают.
– Ты говоришь о них так, будто они разбойники с большой дороги, – заметил отец. – Они за политику сидели.
– Да они хуже разбойников, – не сдавался дядя. – Те хоть требуют у тебя кошелек, ну а коли ты его не отдаешь, тебя прихлопывают. А эти Италию загубили, бунтовщики, вот они кто, конца света они хотят. Ты уж лучше помолчи. Мы с тобой по-хорошему можем говорить, только когда молчим. Полковник Москателли! Святая мадонна, с ума можно сойти!
Я рассмеялся.
– А ты чего ржешь? – накинулся он на меня с выпученными от бешенства глазами. – Я уже сейчас вижу, во что превратится Италия Парри, полковника Москателли и других злодеев, вроде тебя. Никакого воспитания, ничего святого. В твоем возрасте у меня при слове «родина» слезы на глазах выступали, слушая «Джовинеццу[21]21
Фашистский гимн.
[Закрыть]», я готов был по земле кататься от волнения, под эту музыку горы своротить мог.
Я представил себе, как дядя катался по земле, будто осел, когда он чешется, и опять засмеялся.
Он не увидел в моих глазах катающегося по траве осла, он прочел в них, что его политическим надеждам пришел конец, и распсиховался так, что я подумал, будто он и впрямь рехнулся.
– Ни ты, ни твой папочка не понимаете, что вокруг делается. Так я вам объясню. В Италию коммунисты придут, скоро вы здесь их увидите, этих убийц, которые жгут церкви, разрушают семьи, людей прямо из постели вытаскивают и расстреливают.
Дядю это не устраивало – он валялся на кровати по меньшей мере шестнадцать часов в сутки. Я представил себе, как его стаскивают оттуда за ноги, сцена мне понравилась, а вот мысль о том, что его расстреляют, не понравилась.
– У нас есть генерал Кадорна, – сказал отец. – Неужели ты думаешь, что такой генерал, как он, даст себя побить? А американцев ты что, уже в расчет не берешь? – Теперь и отец казался несколько озабоченным.
– Речь о революции идет, – объяснил дядя. – Кто может остановить революцию? У них американское оружие, неизвестно еще, сколько среди них русских, думаешь, Америка станет воевать с Россией? Это одних нас касается, нам самим и расхлебывать. Я-то знаю, чем все кончится, и что я сделаю – знаю: в монастырь уйду.
Мысль о монастыре успокоила его, но лишь на секунду. Затем им вновь овладели презрение и ярость.
– Монастыря мне только не хватало! Там меня запрут и будут гноить заживо, хорошенькое дело! Провидение, благословения, торжественная месса! К тому же еще придешь к кардиналу в монастырь проситься и напорешься у него на Москателли.
– Не болтай ерунды, – сказал отец. – Его схватили, когда он удирал вместе с немцами. Вот ты тут ругаешь коммунистов, говоришь, они церкви жгут, а сам думаешь такое, да еще про кардинала, про святого человека.
– Святой он или нет, а я бы его даже собаку покараулить не попросил. Может, и не всегда правду люди говорят, но факт, что он пальцем не шевельнул, чтобы слабых защитить.
– Слабых? – спросил отец. – Ты, кажется, имеешь в виду тех, кто вчера расстреливал невинных людей? В руках у карабинеров убийца тоже слабым становится.
– Они бунтовщиков расстреливали, – заявил дядя, – бунтовщиков и предателей.
– Те, которые подчинялись правительству короля, не были бунтовщиками, – возразил отец. – Это всякому ясно, такие простые вещи и объяснять ни к чему.
– Правительство короля? Смех один! Короля, который бежит под крылышко к американцам! Знаешь, что я тебе скажу? Чтобы все снова стало на свои места, королем Джулиано[22]22
Легендарный вожак сицилийской мафии.
[Закрыть] нужно сделать, Джулиано будет попорядочнее твоего короля.
– Бенедетто Кроче[23]23
Бенедетто Кроче (1866—1952) – известный итальянский философ и историк.
[Закрыть]... – начал было отец.
– О боже, мы и о Бенедетто Кроче говорить должны? Плевать я хотел на него и на всю его писанину! И на Данте Алигьери тоже! И на тебя. И на всю Италию. Заберусь в угол и буду там сидеть, пока не помру. Считайте, что я стал глухонемым.
– Американцы разоружают партизан, – сказал отец.
– Да ну! – обрадовался дядя. – Наконец-то у них мозги заработали.
В очередном письме тетя написала: «Дорогая сестра, мы здесь все не нарадуемся тому, что война кончилась. Господь услышал мои молитвы и пощадил мой дом, мой сын в Германии, цел и невредим, как и мой зять, который воевал во флоте против японцев. Хорошо, что появилась эта новая бомба, в Америке столько ученых, которые все время что-то изобретают, Муссолини ошибся, что пошел против Америки, ему надо было оставаться другом Америки, тогда он был бы и сейчас жив и командовал бы, потому что он умел командовать, и под ним Италии было хорошо; ты не можешь себе представить, как на меня подействовало то, как его убили, на всех в Америке это подействовало. Но нам не дано читать воли господней, однако я все время молюсь, чтобы Всевышний положил конец убийствам в Италии. Дорогая сестра, я все время думаю о том, чтобы приехать и исполнить обещание, которое я дала нашей Мадонне, и чтобы обнять тебя и наших родственников. Нам теперь говорят, что мы можем посылать посылки в Италию, и ты не можешь себе представить, сколько у меня приготовлено вещей для вас и еды тоже, потому что, как я знаю, вы в Италии голодаете...»
– Вот это человеческий разговор, – сказал дядя. – Конечно, кое в чем Муссолини маху дал. А вот атомная бомба все-таки немецкая штука, такие ученые только в Германии есть.
Мы с Филиппо учились в частной школе, готовясь к вступительным экзаменам в гимназию. Мы вместе делали уроки у него дома, потому что его отец не очень полагался на сына и хотел, чтобы тот занимался у него на глазах.
– Подумай, какого труда мне стоит каждая заработанная лира, которую я трачу на тебя, – говорил отец Филиппо. Эти слова были очень похожи на одну фразу из книги Де Амичиса «Сердце». Отец Филиппо, казалось, выиграл миллион – так он был рад, что Парри возглавил правительство. Он рассказывал о жизни Парри, рассказывал партизанские истории, которые мне очень нравились, – он вычитывал их в книгах и газетах, а потом пересказывал нам; у него в мастерской все время сидели другие социалисты, мастерская стала у них вроде клуба.