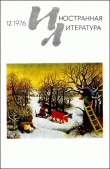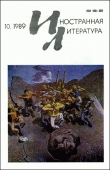Текст книги "Каждому свое • Американская тетушка"
Автор книги: Леонардо Шаша
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава восьмая
Старый профессор Рошо, чья слава замечательного окулиста до сих пор живет в Западной Сицилии, постепенно становясь легендой, уже лет двадцать назад оставил кафедру и перестал практиковать. Ему уже перевалило за девяносто. По иронии судьбы, а может быть, в подтверждение мифа о человеке, который, возвращая зрение слепым, бросил вызов природе и та в отмщение его самого лишила зрения, профессор Рошо был поражен в старости почти полной слепотой. Он поселился в Палермо, у своего сына, который был, верно, не менее опытным глазным врачом, но, по убеждению многих, жил рентой со славы отца. Лаурана по телефону известил о своем желании навестить многоуважаемого профессора в любое удобное для него время. Служанка отправилась доложить об этом хозяину. Он сам подошел к телефону и сказал Лауране, чтобы тот приходил немедля. Конечно, по одному беглому упоминанию о прошлых встречах ему не удалось тут же вспомнить старого друга младшего сына, но в своем беспросветном одиночестве старик очень нуждался в собеседнике.
Было пять часов дня. Старик профессор сидел в кресле на террасе, сбоку стоял проигрыватель, и знаменитый актер то дрожащим, то громовым, то проникновенным голосом декламировал тринадцатую песнь «Ада».
– Видите, до чего я дожил? – сказал профессор, протягивая ему руку. – Должен слушать «Божественную комедию» в его исполнении.
Можно было подумать, что актер стоял рядом, а у профессора были свои причины глубоко его презирать.
– Я бы предпочел, чтобы Данте мне читал двенадцатилетний внук, служанка или швейцар, но у них другие дела.
За парапетом террасы в горячем сирокко сверкал Палермо.
– Чудесный вид, – сказал старый профессор и уверенно показал рукой, – вон там Сан Джованни дельи Эремити, Палаццо д'Орлеан, королевский дворец. – Он улыбнулся. – Когда десять лет назад мы поселились в этом доме, я видел чуть получше. Теперь я вижу только свет, да и то словно далекое белое пламя. К счастью, в Палермо света много. Но что проку говорить о наших недугах... Значит, вы были другом моего бедного сына?
– Да, в гимназии и в лицее, потом он поступил на медицинский факультет, а я – на филологический.
– На филологический? Так вы преподаватель?
– Да, преподаю итальянский язык и историю.
– Представьте себе, я жалею, что не стал специалистом по литературе. Сейчас я по крайней мере знал бы наизусть «Божественную комедию».
«Ну, это у него пунктик», – подумал Лаурана.
– Но вы в своей жизни сделали много больше, чем те, кто читает и комментирует «Божественную комедию».
– Вы думаете, что моя работа имела больше смысла, чем ваша?
– Нет. Но то, что делаю я, способны делать тысячи людей, а вот возвращать зрение слепым могут лишь немногие – десять-двадцать человек в мире.
– Чепуха, – сказал профессор и, как видно, задремал. Затем внезапно спросил: – А мой сын, каким он был в последнее время?
– Каким был?
– Я хочу сказать, нервничал ли он, проявлял признаки беспокойства, озабоченности?
– Нет, я этого не замечал. Но вчера, беседуя с одним приятелем, который виделся с ним в Риме, я припомнил, что он в последнее время действительно немного изменился. Но вы-то почему об этом спрашиваете?
– Потому что и мне он показался не таким, как всегда... Простите, но вы сказали, что какой-то человек встречался с ним в Риме?
– Да, в Риме, за две-три недели до несчастья.
– Странно. А этот человек, случайно, не ошибается?
– Нет, не ошибается. Он был нашим товарищем по школе. Теперь он депутат парламента, коммунист. Ваш сын ездил в Рим специально, чтобы встретиться с ним.
– Встретиться? Странно, очень странно... Не думаю, чтобы у сына была просьба к нему, хотя коммунисты в определенном смысле тоже стоят у власти. Куда легче добиться протекции от тех, других, – он показал пальцем на Палаццо д'Орлеан, резиденцию Областного собрания. – А те, другие, были у сына под боком, в самом доме. И, насколько мне известно, люди довольно-таки влиятельные.
– Но он, собственно, и не собирался просить об услуге. Он хотел, чтобы наш друг разоблачил в парламенте злоупотребления и мошенничества одного видного человека.
– Мой сын? – изумился старик.
– Да, я тоже был очень удивлен.
– Он и в самом деле сильно изменился, – заключил старик, словно беседуя с самим собой. – Изрядно изменился, и я даже запамятовал, когда впервые заметил в нем какую-то усталость, неприязнь к людям и даже нетерпимость суждений, которая напоминала мне его мать... Моя жена происходила из семьи мелких землевладельцев, которым в двадцать шестом – тридцатом годах тяжко пришлось, прежде чем они выпутались из сетей, расставленных ростовщиками... Нет, моя жена не любила ближних своих... Вернее сказать, просто не понимала их, и никто ее этому не научил, И уж меньше всего я... Но о чем мы говорили?
– О вашем сыне.
– Ах да, о сыне... Ему нельзя было отказать в уме, но он был инертен и нелюбопытен. И отличался редкой честностью... Быть может, от матери он унаследовал прочную любовь к земле, к полям. Только это он и унаследовал от нее, ведь его дедушка, отец моей жены, как дикарь, дневал и ночевал в поле, да и моя жена тоже... А сын, кажется, не отрывался от книг... Он был из тех людей, которых обычно называют простаками, а между тем это дьявольски сложные натуры... Поэтому мне не понравилось, что, женившись, он попал в семью католиков. Я говорю, католиков, так сказать, фигурально, потому что за долгие годы, а мне скоро девяносто два, ни разу не встречал здесь истинного католика. Есть люди, которые на своем веку лишь пол-облатки причастия и попробовали, но всегда готовы запустить руку в чужой карман, пнуть ногой в лицо больного или умирающего и подстрелить из люпары[4]4
Люпара – ружье для охоты на волков.
[Закрыть] здорового... Кстати, вы знаете мою невестку, ее родственников?
– Не особенно близко.
– А я их почти совсем не знаю. Невестку я видел несколько раз, а ее дядю всего однажды, он у нее вроде каноник?
– Да, каноник.
– Премилый человек. Он пытался обратить меня. К счастью, он был в Палермо проездом, а то, пожалуй, все кончилось бы тем, что он тайком привел бы ко мне самого Папу. Ему даже в голову не пришло, что я глубоко верующий человек... Моя невестка, говорят, очень красива?
– Да, очень.
– А может, она очень чувственна? Когда я был молод, таких особ называли «женщина для постели», – спокойно, со знанием дела сказал он, словно речь шла совсем не о жене его погибшего сына, и руками обрисовал распростертое женское тело. – Вероятно, это выражение теперь не в ходу, ведь женщина утратила свою таинственность и в алькове, и в душе мужчины. Знаете, о чем я сейчас подумал? Католической церкви удалось наконец одержать величайшую победу – отныне мужчина презирает женщину. Добиться этого церкви не удавалось даже в самые мрачные и жестокие века. А вот теперь она торжествует. Теолог сказал бы, что это месть Провидения; мужчина думал, что уж в сфере эротики он обрел полную свободу действий, а сам угодил в старую ловушку.
– Да, возможно, вы и правы. Но мне кажется, что еще никогда женское тело не было так восславлено и выставлено напоказ. Оно выполняет те же функции, что и реклама, становится приманкой, предметом купли-продажи.
– Вы сказали одно слово, которое и является квинтэссенцией этой проблемы. Вот именно женское тело «выставлено», как прежде выставляли напоказ повешенных... Словом, правосудие свершилось. Но я что-то слишком разговорился, мне не мешает немного передохнуть.
Лаурана понял это как намек и немедленно поднялся.
– Нет, нет, не уходите, – сказал старик, видимо огорченный, что так быстро лишится редкой возможности побеседовать. Он снова впал в забытье; лицо его в профиль было красивым и чеканным, как на медали. Таким же его будут видеть потом все новые поколения студентов на бронзовом барельефе в вестибюле университета, а под барельефом будет торжественная надпись, которая непременно вызовет ироническую улыбку у каждого, кто ее ненароком прочтет.
«Однажды он так же тихо погрузится в реку смерти», – думал Лаурана, не отрывая от него глаз, пока старик, не шевелясь и точно продолжая прерванную мысль, не сказал вдруг:
– Некоторые факты и события лучше не вытаскивать на свет божий... Есть такая пословица, вернее, максима: мертвый – мертв, поможем живому. Если вы скажете это итальянцу с севера, он сразу же вообразит себе автомобильную катастрофу, убитого и раненого и решит, что разумнее оставить в покое мертвого и попытаться спасти раненого. Сицилиец же представит себе убитого и убийцу, и помочь живому для него значит помочь убийце. А что такое для сицилийца мертвец, лучше всех понял, пожалуй, Лоуренс[5]5
Дж. Г. Лоуренс (1885—1930)—английский писатель, автор ряда эротических романов, в том числе нашумевшего в свое время романа «Любовник леди Чаттерлей».
[Закрыть], который, кстати, помог смешать эротику с дерьмом. Мертвец – это внушающий ужас обитатель чистилища, жалкий червь в человеческом облике, прыгающий на раскаленных угольях... Но если мертвец – наш кровный друг или родич, надо сделать все, чтобы живой, иначе говоря, убийца, поскорее узрел убитого в адском пламени чистилища. Я не сицилиец до мозга костей, и у меня никогда не было стремления помочь живым, то есть убийцам; к тому же я убежден, что тюрьма – это весьма конкретное воплощение чистилища. Но в гибели моего сына есть нечто такое, что заставляет меня подумать о живых, об их судьбе...
– Живые, иначе говоря убийцы?
– Нет, я имею в виду не тех живых, которые его непосредственно убили. Я думаю о живых, которые пробудили в нем эту нелюбовь к людям, научили его видеть темные стороны жизни и совершать непонятные поступки. Те, кому посчастливилось дожить до моих лет, склонны думать, что смерть – это волевой акт, в моем конкретном случае легкий волевой акт. В один прекрасный день мне надоест слушать голос вот этого, – он показал на проигрыватель, – шум города, служанку, которая шесть месяцев подряд поет о блеснувшей слезе, и мою невестку, которая десять лет ежедневно справляется о моем здоровье в тайной надежде услышать, что я наконец-то отошел в иной мир. И тогда я решу умереть, так же просто, как иные вешают телефонную трубку, когда им надоедает болтовня приставучего идиота или бездельника. Словом, я хочу сказать, что когда человек дошел до такого вот душевного состояния, смерть становится для него лишь неизбежной формальностью. И тогда, если есть виновные, их нужно искать среди самых близких людей. В случае с моим сыном можно начать и с меня, ведь отец всегда виноват, всегда.
Казалось, что потухшие глаза старика подернулись дымкой далеких воспоминаний.
– Как видите, я один из живых, которому надо помочь.
Лауране пришло на ум, что в словах старика таится двойной смысл. «А может, это просто горестное предчувствие близкого конца», – подумал он.
– Вы думаете о чем-либо определенном? – спросил он.
– О нет, ничего определенного. Я же сказал, что думаю о живых. А вы?
– Мне трудно вам сейчас ответить, – сказал Лаурана.
Наступило молчание. Лаурана поднялся и стал прощаться. Старик протянул ему руку.
– Это сложная проблема, – сказал он.
И не понятно было, имел ли он в виду убийство сына или вечную загадку жизни.
Глава девятая
Лаурана вернулся в городок в конце сентября. За это время ничего нового не произошло, как сообщил ему адвокат Розелло в клубе, отозвав его в сторонку, чтобы не слышал грозный полковник Сальваджо. Но зато у Лаураны были новости для Розелло, и он рассказал адвокату о встрече с депутатом-коммунистом, о документах, которые Рошо пообещал привезти при условии, что тот выступит с разоблачением.
Розелло был поражен. Слушая рассказ Лаураны, он беспрестанно повторял: «Смотри-ка!» А потом мучительно стал припоминать хоть один намек или слово Рошо, которые можно было бы как-то связать с этой невероятной историей.
– Я думал, тебе самому хоть что-нибудь было известно, – сказал Лаурана.
– Что-нибудь известно? Да я не перестаю удивляться!
– Возможно, его молчание объяснялось тем, что он хотел разоблачить одного из деятелей твоей партии и боялся, что ты вмешаешься и попытаешься его переубедить. Он был упрям, но подчас легко поддавался чужому влиянию. Если бы ты узнал, то стал бы нажимать на него, требовать взаимного примирения. Не мог же ты остаться безучастным к угрозам в отношении одного из членов твоей партии, а следовательно, и всей партии в целом.
– Когда затронута честь семьи, приходится иногда поступаться партийными интересами. Обратись он ко мне, я бы ему непременно помог.
– Но, вероятно, именно этого он и не хотел: тебе пришлось бы поставить под удар твое положение в партии ради дела, которое касалось только Рошо. Ведь он сказал, что речь идет о сугубо личном и очень деликатном деле.
– Личном и деликатном? Ты уверен, что он не назвал имен или каких-либо подробностей, которые позволили бы установить, кого он имел в виду?
– Нет, он ничего такого не сказал.
– Давай знаешь что сделаем? Я позвоню моей кузине, и потом мы вместе сходим к ней. Уж жене-то он, вероятно, хоть что-нибудь да сказал... Согласен?
Они направились к телефону, Розелло позвонил кузине и сказал ей, что Лаурана узнал совершенно невероятные вещи, которые, возможно, она одна могла бы объяснить. Если они ей не помешают в столь неурочный час, то нельзя ли им прийти?
– Ну, двинулись, – сказал Розелло, повесив трубку.
Вдова Рошо в тревоге прижимала руки к сердцу, сгорая от нетерпения услышать рассказ Лаураны. Ее поразило известие о поездке мужа в Рим. Глядя на кузена, она сказала:
– Наверно, это произошло, когда он за две-три недели до гибели объявил, что едет в Палермо. – Но об остальном она и понятия не имела. Да, пожалуй, в последние месяцы муж был чем-то озабочен, он стал неразговорчив и часто жаловался на головные боли.
– Его отец, профессор Рошо, тоже сказал мне, что в последнее время сын как-то изменился.
– Вы видели моего свекра?
– Этого ужасного старика, – добавил Розелло.
– Да, я навестил его... У него есть свои странности, но рассуждает он вполне здраво и, я бы сказал, беспощадно...
– Он безбожник! – воскликнула синьора. – А разве человек без всякой веры может быть иным?
– Я хотел сказать, что он беспощаден в своих суждениях, что же до веры, то, думаю, она у него есть.
– Нету, нету, – возразил Розелло. – Он атеист, и притом из закоренелых, которых не переубедишь даже на смертном одре.
– Все-таки я сомневаюсь, что он атеист, – сказал Лаурана.
– Он ярый антиклерикал, – добавила синьора Рошо. – Однажды мы втроем – я, муж и дядюшка – отправились его навестить. Вы бы только послушали, что говорил мой свекор. Поверите ли, у меня начался озноб, – и она в ужасе заломила красивые обнаженные руки, словно ее и теперь била дрожь.
– Что же он сказал?
– Такое, такое, что я не могу повторить, в жизни не слышала ничего подобного... А бедный дядюшка только сжимал в руке свое маленькое серебряное распятие и терпеливо говорил ему о милосердии божьем, о любви.
– Профессор Рошо, кстати, сказал мне, что каноник – милейший человек.
– И не ошибся! – воскликнула синьора.
– Дядюшка просто святой, – добавил Розелло.
– Нет, этого нельзя и не следует говорить. Святых, – пояснила синьора, – создаем не мы... Но дядюшка каноник наделен такой сердечной щедростью и великодушием, что его можно смело назвать почти святым.
– Ваш муж, – сказал Лаурана, – внешне очень походил на отца. Да и мыслил он примерно так же.
– Как этот безбожный старец?! Помилуйте... Муж с большим уважением относился к дядюшке и вообще к церкви. Каждое воскресенье он провожал меня на мессу. Соблюдал пост. Ни разу он не усомнился в догматах религии, не позволил себе никаких насмешек. Неужели вы думаете, что я, хоть и любила его, согласилась бы связать с ним жизнь, если бы только заподозрила, что он мыслит, как его отец?
– По правде говоря, – заметил Розелло, – его трудно было понять. Даже ты, его жена, очевидно, не могла бы сказать с уверенностью, что он думал о политике, о религии.
– Он уважал семью, церковь, – уклонилась от прямого ответа синьора.
– Так-то так... Но теперь ты сама убедилась, что он был человеком замкнутым и своими сокровенными мыслями и планами не делился даже с тобой.
– Увы, это правда, – вздохнула синьора. – А своему отцу, хотя бы своему отцу, он ничего не сказал? – обратилась она к Лауране.
– Ровным счетом ничего.
– А депутату он сказал, что речь идет о личном и очень деликатном деле?
– Да.
– И пообещал принести документы?
– Целое досье.
– Знаешь, – сказал Розелло кузине, – нельзя ли нам порыться в его письменном столе, посмотреть его бумаги?
– Я бы хотела, чтобы все осталось в неприкосновенности, как было при жизни мужа. У меня самой не хватило бы духу рыться в его столе.
– Но это помогло бы устранить лишний повод для нелепых подозрений и беспокойства. И потом, пойми. Если кто-то нанес Рошо оскорбление, я из уважения к его памяти, из чувства любви к нему готов сам продолжить розыски и докопаться до истины.
– Ты прав, – сказала синьора и поднялась со стула.
Высокая, стройная, с красивой грудью и обнаженными плечами, она распространяла вокруг благоухание, в котором более опытный и менее пристрастный ценитель женских прелестей смог бы отличить тонкий аромат «Балансьяги» от запаха пота. У Лаураны синьора Луиза на миг вызвала неподдельное восхищение, словно перед ним была ожившая Ника Самофракийская, которая поднимается по лестнице Луврского дворца. Вдова Рошо провела их в кабинет покойного мужа, довольно мрачную комнату либо казавшуюся такой, так как свет падал лишь на письменный стол, оставляя в тени большие угрюмые шкафы, полные книг. На столе лежала раскрытая книга.
– Именно ее он читал в последний день, – сказала синьора. Заложив страницу пальцем, Розелло закрыл книгу и прочел вслух заглавие:
– «Письма к госпоже Z». Что это за вещь? – спросил он у Лаураны.
– Очень интересная книга одного поляка.
– Он на редкость много читал, – сказала синьора.
Розелло с большей, чем прежде, осторожностью положил книгу на место.
– Посмотрим сначала в ящиках стола, – сказал он. И выдвинул самый верхний. Лаурана склонился над раскрытой книгой, и его внимание привлекла фраза: «Лишь действие, затрагивающее правопорядок определенной системы, наводит на человека суровый луч закона». И словно перелистав другие страницы и пробежав глазами не отдельные фразы, а всю книгу, Лаурана вспомнил, о чем шла речь и в каком контексте. Польский писатель говорил здесь о Камю и его книге «Чужой». «Правопорядок определенной системы». А какая система была и есть у нас? Да и будет ли она когда-нибудь? Быть «чужими» как в правоте, так и в виновности, и в правоте и виновности одновременно – это роскошь, позволительная, когда есть правопорядок определенной системы. Если только не считать системой право убивать безнаказанно, как убили бедного Рошо. Но тогда человек куда больше «чужой», когда он выступает в роли палача, а не осужденного, и он более прав, если приводит в действие гильотину, а не стоит под ней.
Синьора тоже приняла участие в поисках. Она склонилась над самым нижним ящиком письменного стола, точно вписанная в конус светотени, отбрасываемой лампой. Ее грудь полуобнажилась, лицо таинственно утопало в темной копне волос. Мрачные мысли Лаураны мигом улетучились, растаяли под жарким солнцем желания.
Синьора задвинула ящик, легко, словно играючи, выпрямилась.
– Ничего не нашла, – сказала она равнодушно, точно рылась в ящике только для того, чтобы сделать приятное кузену.
– Я тоже, – сказал Розелло весьма спокойно и положил на место последнюю папку.
– Возможно, у него был свой отдельный ящик в банке, – сказал Лаурана.
– Я тоже об этом подумал, – ответил Розелло. – Завтра попытаюсь что-либо узнать.
– Нет, это исключено, он знал, что здесь никто не тронет его книги и бумаги, даже я... Он был человек аккуратный, – сказала синьора, самим тоном давая понять, что она, увы, особой аккуратностью не отличается.
– Одно несомненно, здесь кроется какая-то тайна, – сказал Розелло.
– Значит, ты думаешь, что эта история с депутатом-коммунистом и с документами как-то связана с его смертью? – спросила кузина у Розелло.
– Ни в малейшей мере. А ты что скажешь? – обратился он к Лауране.
– Кто знает...
– О боже! – воскликнула синьора. – Значит, вы думаете...
– Нет, я этого не думаю. Но полиция зашла в тупик со своими догадками о галантных похождениях аптекаря, и теперь возможны любые гипотезы.
– А письмо? Письмо с угрозами, которое получил аптекарь? Как объяснить это письмо? – спросил Розелло.
– Да, это ужасное письмо, – поддержала его синьора Рошо.
– Я склонен думать, что это уловка убийц. Аптекарь был выбран как ложная цель, для маскировки...
– И вы в этом убеждены? – с изумлением и величайшей тревогой спросила синьора.
– Нет, отнюдь не убежден.
Синьора сразу приободрилась.
«Она твердо уверена, что ее муж погиб по вине аптекаря, и любое другое предположение осквернило бы память покойного», – подумал Лаурана.
Он упрекнул себя, что внес беспокойство в ее душу своими домыслами, которые, откровенно говоря, считал не лишенными основания.