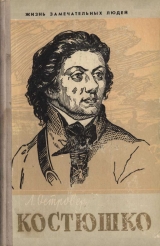
Текст книги "Тадеуш Костюшко"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
У польской армии были свои сложившиеся веками традиции. Дисциплина существовала только для солдат; офицер – гость в полку, а генерал признавал только одного начальника: самого себя. Единого воинского устава не существовало: в армии служили офицеры из Австрии, Пруссии, Франции, и каждый из них обучал солдат по своему уставу.
Костюшко, приняв командование дивизией, сразу внес в нее новый ритм и новый дух. Он выработал
единую программу занятий, сам беседовал с солдатами и заставлял офицеров сблизиться со своими подчиненными, а генерала Чапского, не желавшего подчиниться новому порядку, отчитал перед строем, не щадя его ясновельможного гонора. Костюшко сделал с брацлавско-киевской дивизией то, что он сделал со своими мархевками: сделал ее боеспособной.
Костюшко жил в Меджибоже – бойком торговом местечке. Одноэтажные домики кольцом окружали базарную площадь, а от площади, как спицы в колесе, отходили тихие переулки. В одной из этих спиц, в Костельном переулке, поселился Костюшко со своими двумя адъютантами: Княжевичем и Фишером.
Рано утром к крыльцу подавали лошадей. Костюшко ловко вскакивал на своего коня, серого, с черной полосой во всю спину, и в сопровождении адъютантов уезжал в поле, где уже шли учения.
С первых чисел мая дули ветры, отгоняя дождевые тучи, потому и колос в поле стоял желтый и сухой. Листья на деревьях казались покрытыми пылью.
Княжевич и Фишер смотрели на посевы глазами помещиков: пустой колос – пустые закрома, а пустые закрома – пустой кошелек.
Мысли Костюшки текли по иному руслу: засуха охватила не только Подолье, но и всю Волынь. Надвигается народное бедствие. Выстоит ли голодный народ именно сейчас, когда предстоит война? И к тому еще народ обиженный, обманутый. Костюшко видел, с какими каменными, замкнутыми лицами солдаты слушали текст «Конституции 3 мая». Они произносили слова присяги глухими, невнятными голосами, они не ликовали, да и повода для ликования у них не было: новая конституция ничего им не дала. Где же силы, которые помогут Польше победить? Армия? Американский солдат шел в бой с кличем: «Liberty!» В этом слове цвела его мечта о счастливом будущем. Это слово наделяло его отвагой. А наш солдат? С каким кличем пойдет он в бой? Для него слово «Wolnosc» лишь горькое напоминание о рабстве.
Костюшко примирился бы с этим – он верил, что в конце концов польский хлоп получит свободу, но то,
что он слышал у себя в полках, вселяло тревогу за судьбы родины.
Часто вечерами, закутавшись в плащ, ходил Костюшко мимо халуп, где были расквартированы его солдаты. Слышал обрывки разговоров, вслушивался в песни.
Солдаты недовольны. Это естественно: хлоп, одетый в военный мундир, продолжает жить интересами своей семьи, своей деревни. Но в отличие от прежних лет солдат уже не жалуется на свою горькую долю, он уже не поет жалостливых песен.
Одна из новых песен особенно растревожила Костюшко:
Сегодня народ уж требует.
Сегодня народ уж требует,
Железа, пороха и хлеба требует.
Железа, пороха и хлеба требует.
Железо нужно для работы,
Порох нужен для борьбы,
А хлеб – голодным братьям.
Трепещет враг, ждет беды!
А хлеб – голодным братьям.
«Ура!» – гремит. «В могилу бар!»
Гей, вперед! Вперед! Вперед!
«Аристократов на фонарь!»
Гей, вперед! Вперед! Вперед!
Он, Костюшко, вывез из Франции тоску по социальной справедливости, а его солдаты из всех лозунгов Французской революции усвоили одно: «Аристократов на фонарь!»
И в Варшаве, куда Костюшко ездил на совещания, он также слышал эту песню: ее пели ремесленники, ее пели студенты, ее пели рыбаки.
Польша, как видно, идет по следам Франции. Всюду непокорство, бунты. И этого уже нельзя скрывать, об этом уже пишет король в своем универсале:
«Когда мы с великой болью в нашем отцовском сердце узнали, что в некоторых районах Речи Посполитой появились враги общественного добра, которые благодаря своей наглости или наперекор государственному благоразумному попечению перестают подчиняться своим панам, отказываются от повинностей и дани, другие – худшие из них – разрушители общественного покоя, которые коварным подстрекательством и соблазнительными уговорами в открытую или в тайной форме и под разными видами соблазняют народ отказываться от подчинения своим панам…»
Не станут ли слова «Аристократов на фонарь!» лозунгом в предстоящей войне? Шляхта за этот лозунг воевать не будет, а без шляхты Польша вообще воевать не сможет… Да и он, Костюшко, не обнажит саблю за этот лозунг…
К обеду Костюшко возвращался в свой Костельный переулок. Соскакивал с коня, передавал повод ординарцу и скашивал глаза в сторону распахнутого окна, по ту сторону улицы. В окошке, как всегда в этот час, стояла девушка лет восемнадцати, румянолицая, густоволосая, с большими круглыми глазами. Девушка улыбалась.
Хорошенькая соседка смущала Костюшко. Она неизменно встречала его улыбкой, вечерами развлекала песнями, а поздней ночью, когда он засиживался за рабочим столом, показывалась ее беленькая фигурка в раме темного окна, и ее губы что-то шептали. Костюшко был уверен, что разбирает ее слова: «Поздно, не надо работать, надо спать».
Девушка радовала Костюшко, он чувствовал себя моложе, спокойнее, стал одеваться более тщательно и сам ловил себя на том, что где бы ни находился – в штабе или в поле, его тянет домой, в Костельный переулок.
Это новое чувство его радовало и волновало. Он тосковал по «дому», по «семье», но имеет ли он право в такое сложное время мечтать о личном счастье? И возможно ли это личное счастье для него, для человека с седеющими висками?
В крепости Каменец начальствовал его друг Юзеф Орловский. Между ними завязалась переписка. Чуткий Орловский понимал, что угнетает Костюшко, – он написал ему игривое письмо: «…в твоем бродяжничестве я вижу и иную причину: тоскуешь по женушке…»
Княжевич, опытный в делах любви, видел, как этот «немой роман» все больше и больше захватывает его начальника, и решил действовать.
Он познакомился с отцом девушки, Журовским. Это был хорунжий из Жидачева, богатый и хамоватый. Он привез в Меджибож больную жену к знаменитому врачу Гакеншмиту. Конечно, забрал с собой и единственную дочь Теклюню.
Против знакомства с генералом Журовский не возражал.
– Овшем, – сказал он, – пусть пан генерал окажет мне честь, а куфелек доброго меда всегда у меня найдется.
Костюшко пришел в гости. Оказалось, что Журовский знает о нем больше, чем полагается постороннему. За первым же куфелем меда он сказал с наигранным добродушием:
– Пане генерале! Почему это ты вековой порядок разрушаешь? Слыхано ли? От своих хлопов ты только требуешь два дня панщизны?! Баб ты вовсе на работу не гонишь! Это якобинство, мосчи пане генерале.
Костюшко хотел отделаться шуткой: «Такой уж я, видать, уродился», но Журовский не отставал.
– И о какой такой войне ты толкуешь со своими офицерами? С пруссаками у нас мир. Немецкий князь, ясновельможный князь Вюртембергский, польской армией командует. С Россией у нас мир. Пан гетман Браницкий женат на племяннице Потемкина. Свой своего не обидит…
К счастью, хорунжий редко бывал дома: он бражничал у окрестной шляхты.
Костюшко стал частым гостем Журовских. Пани Журовская, высокая худая дама с темными рябинками на щеках и черными усиками, была разговорчивой, интересовалась абсолютно всем и любила пофилософствовать. Такой умный и образованный собеседник, как Костюшко, был для нее счастливой находкой.
Но пани Журовская была и опытной «мамашей»: она вскоре заметила, что между Костюшкой и ее Теклюней что-то завязывается. Зять генерал неплохо, решила пани Журовская, и, приняв это решение, стала всячески покровительствовать влюбленным.
Костюшко был сначала крайне сдержан: он понимал, что улыбки из окна, смущенный взгляд при встрече, взволнованные записки, просьбы «непременно при-, ходите завтра, непременно» – все это еще не любовь. Молоденькой девушке импонируют его мундир, его власть, его прошлое. Но Костюшко так стосковался по человеческому теплу, его так угнетало одиночество, что он готов был удовлетвориться даже тенью любви. Второй Людвики не встретит, а Теклюня – хорошая, честная, простая девушка, с которой можно пройти остаток жизненного пути. Когда кругом рушатся устои, когда горизонт делается все темнее и темнее и не сегодня-завтра может разразиться гроза, какое счастье иметь рядом с собой человека, который поймет твою боль!
Теклюня сказала: «Да!» – радостно, с детской откровенностью.
Дивизия ушла на маневры. Княжевич скакал в Меджибож с записками Костюшко и привозил милые ответы Теклюни. Она торопила – скорее… скорее… пан отец собирается обратно в Жидачев.
Костюшко вернулся с маневров. В первый же вечер, облачившись в парадную форму, он отправился к соседу. Теклюня встретила Костюшку в коридоре, уставилась на него влажными, широко раскрытыми глазами и тревожным голосом прошептала: «Коханый». Пани Журовская, зная, для какого разговора пришел Костюшко, задержала его руку в своей и, глядя ему в глаза, промолвила: «Тадеушку, сыне».
Из своей комнаты вышел Журовский в халате, с трубкой в руке. Был это человек высокий, сухой, усы – густые, короткие и по тогдашней военной моде начесаны вперед.
– Мосчи пане, – сказал он, усаживаясь рядом с Костюшкой. – Что делается на свете! Нас хватают за горло. Нет больше свобод в этом крае! Абсолютум доминум[34]34
«Конституция 3 мая» предусматривала расширение прав короля для уменьшения своеволия магнатов.
[Закрыть] хомутом ляжет на нашей шее. Но ничего, мосчи пане генерале. Еще покажут свои силы потоцкие и ржевуские. Каждый из них может короля с его короной и булавкой спрятать в свой карман. А войска магнатов? А их укрепленные замки? А церковь? Разве святой отец допустит, чтобы шляхту лишили власти?
Пани Журовская мягко оборвала своего мужа:
– Оставь, прошу, политыку. Пан Костюшко пришел к нам с пропозицией.
– С какой такой пропозицией, пане генерале?
Костюшко поднялся.
– Прошу у вельможного пана Журовского руку его дочери.
Журовский, видимо, знал или догадывался, зачем явился Костюшко, и внутренне хорошо подготовился к этой встрече. Он также поднялся, поклонился Костюшке и сказал спокойно, без обычной хамоватой наглости:
– Благодарю за честь, мосчи пане генерале. Но моя Теклюня воспитана, как польская шляхтянка, а ты, мосчи пане генерале, польскую шляхту под французскую гильотину тянешь. Не отдам я тебе, якобину, своей дочери.
Костюшко вышел на крыльцо. До своего дома всего шесть-семь шагов, но ноги словно приросли к месту. Он слышал громкий разговор за своей спиной, он слышал, что Теклюня плачет навзрыд, но все это звучало глухо, однотонно, точно между ним и распахнутыми окнами стояла стена из ваты.
И мысли Костюшки текли медленно, словно пробивались сквозь какую-то толщу. Унижение, которому он только что подвергся, еще не дошло до сознания, в нем не вспыхнула ярость раненого зверя, как тогда, в Сосновцах.
В окне показался Княжевич, и дружеская улыбка его сразу вернула Костюшко к действительности.
Костюшко перешел улицу. Княжевич ни о чем его не спросил, Костюшко ничего ему не сказал, зашел в свою комнату, подсел к столу и, зажав голову между ладонями, простонал:
– Боже, за что? За что? За что?!
Утром, перед тем как подняться в седло, Костюшко протянул Княжевичу письмо.
– Отнеси сейчас.
«Ты, сердца моего оживление, ты, которая должна была стать усладой всей моей жизни, Теклюня, прости, что не найду нужных слов, но, пряча глаза в платок, склоняю голову, чтобы поцеловать твои ноженьки… Отвергнутый твоим отцом, и тебя должен лишиться. Однако образ твой останется в моем сердце навсегда. Буду дышать твоим дыханием и жить твоим сердцем. Твоя тень будет вечно мне сопутствовать. О чем бы я ни думал, перед моим взором будет стоять твой образ, хотя он делает меня несчастным. Желаю тебе счастливой жизни…»
Это было прощание с надеждой на личное счастье. Это был реквием по несбыточной мечте.
6 мая 1792 года король назначил Юзефа Понятовского командующим коронными войсками, а князя Людвика Вюртембергского – литовскими. Обе армии должны были отступать от границ, сосредоточиться в центральной Польше и соединиться с тридцатитысячным корпусом пруссаков, который Фридрих Вильгельм обещал послать в помощь своему польскому союзнику.
10 мая прибыл Юзеф Понятовский на Подолье и обосновался со своим штабом в Тульчине, во владении Щенсного-Потоцкого, в то время когда сам Щенсный-Потоцкий вместе с гетманами Браницким и Жевусским находились в главной квартире царской армии, уже выступающей к польским границам.
К польским границам двигались две русские армии: шестидесятичетырехтысячная северная, под командованием генерала Кречетникова, должна была через Литву идти к Варшаве, а тридцатидвухтысячная южная, под командованием генерала Каховского, направлялась также к Варшаве через Подолье.
Вместе с армией Каховского шли войска польских магнатов: Браницкого, Жевусского, Щенсного-Потоцкого, – они шли, чтобы вернуть золотое время шляхетской анархии. Они, тарговичане, предатели, несли своей родине подлую братоубийственную войну во имя сохранения тех порядков, которые довели Польшу до катастрофы.
Но Юзеф Понятовский и его штабные офицеры смело смотрели в будущее. В обеих русских армиях насчитывалось 96 тысяч солдат, в польской – 65 тысяч и обещанный пруссаками корпус. Силы равные.
Началась война. Началась она с измены командующего литовской армией князя Вюртембергского. Он выдал генералу Кречетникову планы кампании и сам перешел на сторону русских. Литовская армия отошла к Бугу, оставив неприятелю Вильнюс, Каунас, Гродно.
Заиграли трубы, забили барабаны. Дивизия выступает. Впереди – Костюшко, строгий, замкнутый.
Все местечко на улице. Народ, который в прошлом году встретил прибывшее войско молча и напряженно, сегодня искренне огорчен: дивизия уходит, уходят хорошие люди: солдаты не рыскали по домам, не озорничали.
Уходят хорошие люди, уходят на войну.
Навстречу Каховскому двинулось семнадцатитысячное войско Юзефа Понятовского. 17 тысяч! Горсточка по сравнению с армией Каховского, но эта горсточка смело пошла на сближение с противником, воодушевленная не только любовью к родине и ненавистью к предателям тарговичанам, но и с надеждой, что король Пруссии окажет им военную помощь согласно трактату 1790 года.
Понятовский разделил свою армию на пять дивизий: генерала Михаила Любомирского послал в Дубно, генерала Вьельгорского – под Чечельник, полковника Гроховского – в Могилев, генерала Костюшко – в Фастов, а сам с 3 тысячами кавалеристов ушел под Брацлав.
Костюшко, получив приказ о расчленении армии, написал Понятовскому протест: «Нам надо сначала сбить хотя бы одну неприятельскую колонну до того, как все они соберутся вместе… Как может каждый наш отряд действовать против какой-нибудь дивизии неприятеля, если численность каждой неприятельской дивизии больше, чем все польское войско».
План Костюшки – всем войском последовательно атаковывать отдельные неприятельские колонны – не был принят.
Началось движение частей по плану Понятовского. 30 мая сошлись возле Любара дивизии Понятовского, Костюшки, Вьельгорского и Гроховского. Но не успели солдаты отдохнуть после форсированного марша, как появились перед ними войска Каховского, а одна из его дивизий, генерала Леванидова, шла наперехват дороги в Полонное – там были размещены польские обозы и склады.
Понятовский послал Костюшко против Леванидова, а сам со своей армией отэшел от Любара. Поляки отступили так стремительно, что Каховский, бросив в атаку Олонецкий полк, столкнулся только с арьергардом дивизии Вьельгорского.
Костюшко пришел в Полонное раньше Леванидова. Туда же, в Полонное, прибыл и Понятовский. Он отправил в тыл интендантское имущество, а сам со своей кавалерией двинулся к Заславу; Любомирскому же приказал выслать заслон к деревне Зеленцы.
Под Заславом поляки натолкнулись на отряд генерала Маркова и после короткой стычки отступили до Острога. Там Понятовский хотел закрепиться, но русские, идущие по следу, вынудили его оставить город.
Отступление армии Понятовского прикрывала дивизия Костюшки. Она шла вслед Леванидову и короткими стычками сдерживала русских, мешая им соединиться с генералом Марковым. Узнав, что Понятовский дошел уже до Шепетовки, Костюшко оторвался от Леванидова и форсированным маршем поспешил к Понятовскому.
Князь Любомирский выполнил приказ Понятовского – выслал кавалерийский отряд к Зеленцам. Вечером этого дня туда же прибыли части генералов Зайончека и Трокина.
Каховский направил Маркова наперехват эвакуированных из Полонного польских обозов, а сам отправился к Шепетовке.
У деревни Зеленцы Марков неожиданно натолкнулся на отряды Любомирского, Зайончека и Трокина. Зная, что параллельно ему двигается дивизия Леванидова, генерал Марков принял бой, не считаясь с численным превосходством неприятеля. Но Леванидов не мог оказать помощи Маркову: между ним и Марковым вклинился Костюшко, который силами всей своей дивизии предпринимал короткие атаки.
Марков сражался в тяжелых условиях – он очутился в кольце, которое с часу на час смыкалось все теснее. Его положение стало еще более трагическим, когда на поле боя неожиданно выскочил Понятовский со своими кавалеристами.
Только случай выручил Маркова: генерал Чапский не выполнил распоряжения Понятовского и не двинул своей бригады в Зеленцы, – это дало возможность Маркову вывести остатки своей дивизии и уйти от разгрома.
Бой закончился к полудню. Генерал Марков спешно отступил. Понятовский его не преследовал: ускакал со своими кавалеристами обратно в Шепетовку, ускакал так же внезапно, как и появился у Зеленцов.
Над дивизией Костюшки нависла угроза: с одного фланга наседал на него Леванидов, с другого – генерал Марков, вышедший из-под удара Понятовского. Пробиться через сильного неприятеля Костюшке не удалось. Он бился дотемна и только под покровом ночи выскользнул из окружения.
Утром 19 июня Костюшко уже был в Заславе.
Армия Понятовского опять соединилась.
Тут вмешался новый предатель – князь Михаил Любомирский. Он должен был заготовить для армии провиант и фураж. Этого он не сделал – не только не заготовил, но и тот, который был заготовлен до него, разбазарил. Свое подлое дело сделал князь Любомирский по сговору с генералом Каховским: этим он спасал свои имения от конфискации.
Армия осталась без хлеба и без фуража.
Понятовский решил отступить к Бугу, чтобы, перебравшись через реку, вступить в хлебные районы.
Но помешал Каховский – его казаки появились на берегу реки до прихода туда польской кавалерии.
Понятовский закрепился на высоком берегу Буга, чтобы, сдерживая неприятеля частью своих сил, дать возможность остальным дивизиям переправиться на другой берег.
Оборону моста у деревни Дубенка он поручил генералу Костюшке.
У поляков в трех дивизиях: Понятовского, Вьельгорского и Костюшки – было 6 тысяч солдат и 10 орудий, у русских – 18 тысяч бойцов и 60 орудий.
Позиция у Дубенки почти дублировала позицию у американской деревушки Сарагота: река, болото, лес на крыльях. В мыслях Костюшки всплыло героическое прошлое, и вместе с гордостью за былой успех родилось у Костюшки желание повторить Сараготу.
Костюшко не обманывал себя: он понимал, что бой у Дубенки не может привести к таким историческим последствиям, к каким привел бой у Сараготы, – для этого у Костюшки и недостаточно живой силы и недостаточно времени для подготовки позиции. Однако, решил Костюшко, бой у Дубенки при благоприятном его исходе может стать переломным моментом в этой несчастной войне.
Костюшко собрал своих офицеров, рассказал им, чего добились американцы, выиграв сражение у Сараготы, и тут же мастерски сделанными чертежами убедил своих слушателей, что позиция у Дубенки таит в себе надежду на успех.
– Враг, – сказал Костюшко, – идет по нашему следу, мы сами ведем его к Варшаве, к сердцу нашей страны, и не пытаться задержать врага, замедлить его движение – преступление перед родиной.
Офицеры с энтузиазмом одобрили идею своего начальника: не отступать, а принять бой.
Костюшко сжег мост через Буг и свой лагерь расположил таким образом, чтобы, опираясь левым крылом на лес и на австрийскую границу, правым крылом – на деревню Уханку, а перед собой иметь болото как естественную преграду. Флешами, батареями, засеками он загородил правое и левое крыло, а пехоту посадил в тройной ряд окопов, лицом к болоту. Если неприятелю удастся переправиться через Буг выше Дубенки, он натолкнется на дивизию Понятовского, усиленную частями полковника Гроховского и майора Красицкого.
17 июля Костюшко узнал, что главные силы Каховского перешли Буг у Кладнева, так что они должны пройти мимо Дубенки. Он тут же сообщил Понятовскому:
«Завтра я буду атакован. Прошу, чтобы его светлость князь добродей приблизился ко мне для поддержки в случае нужды, а Вьельгорский пусть охраняет Опалино. Если он дрогнет, неприятель легко победит другие колонны…
Т. К., г-м
17 июля 1792».
Но 18 июля появились в тылу Понятовского казачьи разъезды; полагая, что на него надвигаются главные силы русских, Понятовский сам отступил и приказал отступить Вьельгорскому. Но план Костюшки он одобрил и заклинал его держаться как можно дольше, чтобы дать возможность другим дивизиям переправить свои обозы за Буг.
Передовые части Каховского двигались к Дубенке. На рассвете – в тихий июльский рассвет – полетели в лагерь Костюшки сотни снарядов. Вслед за артиллерийским огнем пошла в наступление русская пехота. Конные кирасиры бросились на правое крыло, чтобы выйти в тыл Костюшке, а две казачьи сотни лавой мчались к деревне Уханка.
Русские уже теснили поляков на обоих флангах, но к центру добраться не могли – не могли преодолеть болото.
Костюшко наблюдал за ходом боя с невысокой насыпи. Его ожидания оправдались. Каховский действовал точно так, как действовал английский генерал
Бергойн: пехоту он пустил в центр, кавалерию – на фланги.
Русская пехота топчется на месте, а кавалерия с трудом преодолевает засеки и ловушки.
Небо как бы запорошило мутной пылью – жарко и душно. Люди двигаются, точно нехотя, даже артиллерия бьет с большими перерывами.
Вот опять пошла в наступление русская пехота. Костюшко насторожился: пехотинцы несут вязанки хворосту. Этим хворостом они мостят болото.
– Фишерек! Скачи к Чапскому!
Костюшко не закончил приказа: в эту минуту сам Чапский выслал из первого окопа человек пятьдесят, они рассыпались цепью и ружейным огнем задержали русских пехотинцев.
Каховский, впервые столкнувшись с хорошо организованным сопротивлением, решил изменить фронт наступления. Он переправил полк елизаветградских гусар через Буг, чтобы со стороны Австрии, в обход укрепленной позиции Костюшки, ударить в тыл полякам – ударить с той стороны, откуда Костюшко не ждал нападения. Вся эта операция была произведена скрытно и так успешно, что Костюшко разгадал маневр врага только тогда, когда елизаветградцы уже находились в его расположении.
Полковник Палембах, командир елизаветградцев, ворвался в лагерь и с ходу захватил две батареи. На подступах к третьей он наскочил на пехотное каре, построенное Княжевичем. Полковник Палембах был убит. Гусары повернули коней, но не обратно к реке, а, выписав полукруг, ринулись в тыл польским окопам.
В это же время пошла в наступление и русская пехота, а из лесов на флангах, преодолев засеки и ловушки, появились казаки.
Темп боя сразу ускорился. На поле вышли свежие русские роты.
Стреляя на ходу, они все глубже проникали в польскую оборону. Солдаты Костюшки дрались с ожесточением. Они видели своего командира впереди себя и рядом с собой; они, точно проникнув в патриотическую идею своего начальника, напрягали силы, чтобы стать достойными этой высокой идеи.
Уже полегло девятьсот человек – большая часть дивизии, а бой все не затихал. Костюшко все еще формировал летучие отряды, все еще бросался в контратаки, все еще слышали его клич: «За мной, зухы!»
Костюшко достиг своей цели: он удержал поле боя до заката. И убедился, что с таким народом можно победить.
Юзеф Понятовский увел свои части в глубь страны, под Люблин. Он уже знал, что король прусский, на помощь которого Польша рассчитывала, вероломно расторг договор о дружбе под наглым предлогом, что «Конституция 3 мая» была принята без его ведома.
Но под Люблином ждал Понятовского новый удар: его дядя, король Станислав Август, перешел на сторону Тарговицы. Эта весть прозвучала, как похоронный звон. Ведь еще недавно, на сейме 22 мая, Станислав Август торжественно заявил: «Верьте, когда наше дело потребует мою жизнь, я ее отдам». Он же всего несколько дней тому назад призывал «к борьбе, к спасению отечества» – и вдруг связался с предателями.
Король-предатель!
Эти слова были у всех на устах: у солдат и у офицеров.
Юзеф Понятовский не поверил постыдным слухам; 25 июля он написал королю: «Ходят по армии слухи, которые, по всей вероятности, распространяются людьми, недоброжелательно относящимися к Вашему Королевскому Величеству, будто Ваше Королевское Величество вошло в сговор с предателями отчизны… Подлость сближения с ними была бы нашим гробом. Эти чувства, Найяснейший Пан, имею честь довести до Вашего сведения».
Но это была правда: король действительно оказался предателем. Он предал государство, отдав себя под опеку чужеземных войск, он предал справедливость, вручив власть изменникам-тарговичанам, он предал польский народ, перед которым «Конституция 3 мая» открывала путь к лучшему будущему.
Юзеф Понятовский и почти все офицеры его армии подали в отставку – они не хотели служить предателям.
30 июля 1792 года Костюшко написал королю:
«Ввиду того, что перемена обстоятельств в стране противоречит моей присяге и внутреннему убеждению, имею честь просить В. К. В. подписать мою отставку.
Тадеуш Костюшко, ген. – майор».
Король-предатель не хотел принять отставки Костюшки: он наградил его высшим орденом и личным письмом пригласил в Варшаву.
Костюшко поехал в Варшаву с адъютантом Фишером. Он хотел высказать королю все те горькие мысли, что теснились в его голове. Офицеры, и именно те, которые могли бы принести Польше обновление, уходят из армии. А солдаты? Тем ведь некуда уходить: они останутся со своими тяжелыми думами. В стране будут хозяйничать предатели-тарговичане, будут хозяйничать русские и пруссаки. А народ? С отчаяния не схватится ли он за вилы, за веревку, за французскую гильотину?
Костюшко спешил: он хотел приехать в Варшаву до того, как генерал Каховский войдет в город с развернутыми знаменами; до того, как предатели-тарговичане начнут распоряжаться в столице.
Варшава встретила Костюшко обычным столичным шумом, но в этом шуме было и что-то новое: тарахтели телеги, повозки, фургоны, груженные домашним скарбом, носились верховые, мчались кареты, и все двигалось в одну сторону – к Люблинскому тракту. Лавки, рундуки – на запоре, а перед ними толпы народа: галдят, спорят, возбужденно размахивают руками.
На площади перед костелом св. Креста черными холмиками лежали сотни женщин – их молитва звучала тревожно и тоскливо, как рокот Вислы в непогоду.
Даже в аристократической части города – Краковском Предместье, Маршалковской, Новом Свете – необычное оживление, и тут перед домами стояли кареты, и тут грузили домашний скарб на телеги.
Лазенки. Дворец на берегу озера. Густой парк. Цветочные клумбы.
Костюшко приподнялся… Вон там, в той аллее, он ждал прихода Людвики.
– Что вас заинтересовало, генерал? – спросил Фишер.
Костюшко опустился на сиденье и спокойно ответил:
– Она не пришла, мой Фишерек.
Поручик Фишер, этот умный и чуткий юноша, понял, что Костюшко отвечает не ему, а каким-то своим мыслям, и больше вопросов не задавал. Всю дорогу Костюшко сидел с закрытыми глазами, но Фишер знал, что его начальник не спит, что он весь во власти тревожных мыслей. Но вот уже Лазенки – пора дать его мыслям иное направление, однако Костюшко своим спокойным и непонятным ответом захлопнул дверь перед самым носом адъютанта.
Во дворце их ждали. Отвели комнаты, где они почистились, отдохнули. Фишер ухаживал за своим начальником, как за ребенком. Костюшко ему подчинялся, ел, пил, но все молча.
В пять часов их пригласили на террасу. Им навстречу с протянутыми руками шел король в парчовом кафтане, в белых высоких чулках, в черных лакированных туфлях. Шел на толстых подагрических ногах. Лицо одутловатое, под глазами мешки. На висках бьются синие жилки.
Бывший красавец, бывший любовник разборчивой императрицы сейчас напоминал Костюшке футляр из-под духов: футляр сохранил форму лежавшего в нем флакона, сохранил воспоминание о тонком запахе, но футляр пуст… пуст…
– Дорогой Костюшко, рад приветствовать тебя в своем доме. Я счастлив, что наконец-то вижу на твоей груди высокий орден. Ты эту награду давно заслужил. – Он взял с круглого столика лист твердой бумаги. – Позволь мне, дорогой гость, в знак моей признательности за храбрость и верную службу вручить тебе патент на звание генерал-лейтенанта и шефство над четвертым полком Польской коронной булавы.
Король говорил быстро, словно опасался, что Костюшко не даст ему закончить.
Костюшко немного растерялся: в прежнее время этот же король говорил с ним одними глаголами, а бывало, и одними междометиями, а тут он строит фразы по всем правилам грамматики. И сколько патоки в каждой фразе!
Костюшко принял патент, сдержанно поблагодарил и закончил спокойным голосом:
– Прошу вашу королевскую милость освободить князя Юзефа Понятовского, меня и моих коллег-офицеров от службы вашему величеству. – И, взяв у Фишера папку с рапортами, положил ее на круглый столик.
– Костюшко, дорогой мой Костюшко, ты ведь знаешь, как я ценю мужество моих офицеров. Ты ведь знаешь, что я люблю князя Юзефа, как сына. Произошло недоразумение, дорогие мои, досадное недоразумение. Князь Юзеф и ты, дорогой мой Костюшко, не знаете, что предо мной стоял выбор: или Тарговица, или поспульство[35]35
Простонародие (польск.).
[Закрыть] с этим якобинцем Коллонтаем.
– Тарговица – это неволя, ваша королевская милость.
– Так останьтесь в армии. Вас много, и вы поставите Тарговицу под себя.
– Ваше величество, ни князь Юзеф, ни офицеры, ни я не пойдем на аксес[36]36
Присоединение к Тарговице (польск.).
[Закрыть].
Король опустился в глубокое кресло, достал из жилетного кармана хрустальный флакон, откупорил его, натер себе виски каплей эссенции.
– Аксес… Аксес, – сказал он усталым голосом. – Со стороны все кажется страшнее. – Он поднялся, положил хрустальный флакон на папку с офицерскими рапортами. – Скажи, Костюшко, князю Юзефу, что я его прошу приехать в Варшаву. Он меня поймет.
– Передам, ваше величество. Я выеду сейчас же, как только ваше величество подпишет нашу отставку.
– А если не подпишу? – вскинув голову, строго спросил король.
– С изменниками служить не будем!








