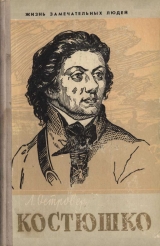
Текст книги "Тадеуш Костюшко"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Видел. Кто эти его гости? Соседи?
– Как в корчме: кто рядом сел, тот сосед; с кем куфель осушил, тот друг. А таких дружков у нашего Юзефа, что блох у собаки. – Вдруг рассердилась: – Успеется об этом. Идем, Тадеушку.
Он помылся, поужинал, а тетушка потчевала его и без умолку говорила.
Наконец-то постелила ему постель, пожелала: «Пусть найяснейшая матерь божья тебе сладкий сон пошлет», – и ушла.
Костюшко лег. Он не был ни разочарован, ни огорчен, точно заранее знал, что именно «этакое» ждет его в Сехновицах.
Планов на будущее никаких. Все дороги оборвались. Он очутился в чаще, куда солнце не заглядывает. Брат Юзеф, его дружки, пьянки – вот его будущее, это и есть «сажать капусту».
Но он не выдержит такой жизни и за один стол с этими бражниками и пустобрехами не сядет!
Не вернуться ли в Париж? Там, во всяком случае, найдет себе работу по душе, найдет друзей, чьи мысли ему сродни…
Но может ли он удовлетвориться только этим? Разве заглохнет в нем тот внутренний голос, который настойчиво зовет к служению отчизне?..
Какой отчизне? Той, которая не желает от него принять службы?
На рассвете, когда все в доме еще спали, Костюшко вышел во двор. Солома на коровнике прогнила; конюшня без дверей; дрова, видимо заготовленные на зиму, не пилены и не сложены в штабеля; на току валяются цепы; посреди двора стоит коляска на трех колесах – вместо четвертого колеса деревянная подпорка.
Костюшко направился в поле. На земле лежала белая мгла. Копны сена как бы плавали в воздухе. Далеко-далеко чернел лес. На краю неба показалась розовая тучка, вслед за ней стала пробиваться светлая зелень. Мгла растаяла, и все вокруг заплакало миллионами слезинок росы…
– Святая Мария! – сказал Костюшко взволнованно. – Как я люблю тебя, бедный мой Край!
Он вернулся домой с ясным планом на будущее: возьмет хозяйство в свои руки, будет работать с таким же упорством, как работал в Париже, сделает из Сехновиц образцовое имение, по которому станут равняться помещики в округе.
В приподнятом настроении вошел он в дом и обрадовавшейся ему тетушке сказал:
– Зачем висит в коридоре этот рваный хомут? Разве там ему место?
– Ты прав, Тадеушку, не место. Скажу девкам, чтоб убрали. Будешь завтракать? Или братца подождем?
– Он уже встал?
– Какое там встал, Тадеушку, раньше полудня никогда не просыпается.
– Тогда будем завтракать вдвоем.
Юзеф действительно встал после полудня. Нечесаный, в одном нижнем белье, пришел он к брату.
– Не понравилась тебе моя компания, – сказал он раздраженно. – В Париже ты водился с одними герцогами и маркизами.
– Ошибаешься, Юзеф, в Париже я не водился ни с герцогами, ни с маркизами. Водился с простыми, но приличными людьми.
– Мы, по-твоему, неприличные? – спросил Юзеф задиристо.
Тадеуш поднялся, встал лицом к лицу и строго сказал:
– Приличные или неприличные, об этом мы с тобой в другой раз поговорим. Но сегодня заруби себе на носу: я тут такой же хозяин, как и ты, и не позволю – слышишь, не позволю! – пропивать мое добро!
– Это какое такое твое добро? – издевательски спросил Юзеф. – Тут никакого добра уже нет: ни твоего, ни моего. Есть долги. На тебе долг тридцать девять тысяч, на мне – тридцать девять тысяч. А Сехновицы и пятидесяти не стоят. Того и жди, наедут кредиторы и нас с тобой на паперть выкинут.
Тадеуш схватил брата за плечи, потряс.
– Подлец! Так ты хозяйничал!
Юзеф и не пытался высвободиться, он сказал с наглой ухмылкой:
– Как хотел, так хозяйничал, и с твоего благословения, дорогой братец. Ты ведь не забыл, что дал мне полную доверенность?
Этой наглости Тадеуш не снес: резким ударом повалил он брата и…
Тетушка Сусанна, видимо, караулила за дверью: она ворвалась в комнату и – откуда только у нее силы взялись! – обхватила Тадеуша и бережно, как ребенка, усадила на кровать.
– А ты, – обратилась она к Юзефу, – ступай, ступай отсюда. Поезжай к своим дружкам. Мы тут без тебя скучать не будем.
Юзеф поднялся с пола. Ногой придвинул к себе табурет, уселся.
– Слушай, братец, что я тебе скажу. Если ты приехал, чтобы жить в Польше, то живи, как живут поляки. Хочешь хозяйничать на земле, поклонись Сапеге, и он тебе даст джержаву[10]10
Аренда (польск.)
[Закрыть]. Хочешь политыкой заниматься, поезжай в Варшаву, поклонись амбасадору Штакельбергу или нашему пану Понинскому, и они тебе синекуру устроят. Хочешь погоны носить, купи шаржу. Дукатов у тебя нет, ерунда: под большие проценты всегда достанешь. Будут деньги – вернешь долг, не будут – плати проценты до скончания века.
Тадеуш вскочил.
– Уходи! Немедленно уходи!
Юзеф тоже поднялся и вызывающе спросил:
– Может, за карабельки схватимся?
Тетушка оттолкнула плечом Юзефа.
– Постыдился бы так с братом разговаривать.
– А он со мной как разговаривает? Ему, видите ли, не нравится, что я не считал крупинок на ложке гостя! Ему в плебании[11]11
Дом приходского священника (польск.).
[Закрыть] жить, а не в шляхетском доме.
Костюшко успокоился: он понял, что этого бурбона ни словом, ни окриком не проймешь и сердиться на него не имеет смысла.
– Приготовь счета и документы, я их просмотрю.
– Ваше приказание, ясновельможный пан капитан, будет исполнено, – ответил он насмешливо и, сделав комический выпад рукой и ногой, вышел из комнаты.
Старшая сестра Анна была замужем за худородным шляхтичем Петром Эсткой. Он жил в Дололисках, над Бугом, в джержаве от князя Сапеги. Из разоренных Сехновиц Костюшко попал в большой уютный дом, где жили размеренной жизнью, ели сытно, по вечерам музицировали и где частенько собирался серьезный народ.
Петр Эстка был шляхтичем дельным, доброжелательным. Он понял, что шурину, образованному человеку, тяжело без дела и к тому же еще на хлебах у сестры! Петр Эстка понял и то, что Тадеушу с его «народолюбством» вдвойне тяжело оттого, что вокруг беднота, темень и какая-то мистическая уверенность, будто ничего нельзя изменить.
Чтобы отвлечь шурина от грустных мыслей, Петр Эстка втягивал его в работу по хозяйству, а сестра Анна, по сговору с мужем, упросила Тадеуша заниматься с детьми.
И их старания увенчались успехом: Костюшко чувствовал себя не гостем, а членом семьи: работал по хозяйству, занимался с племянниками, выходил с этюдником на берег Буга, принимал участие в застольных беседах, ездил по соседям, где «гостя из Парижа» принимали с почтением и лаской.
Чаще всего гостил Костюшко у молодого помещика Юлиана Урсына Немцевича. Это был круглолицый и толстый не по возрасту шляхтич, серьезный, немногословный, прекрасно образованный и поэт, но не из тех, что воспевают «эфир и зефир», – он писал басни, в которых зло высмеивал чванство шляхты, своеволие магнатов и ханжество духовенства. Для него литература была оружием в политической борьбе. Это он несколько лет спустя в содружестве с Мостовским и Вейсенгофом стал выпускать «Национальную газету» – первую политическую газету в Польше.
Тоску по общественной деятельности Костюшко с щедрой откровенностью обнажал перед своим другом Урсыном. Они оказались единомышленниками во всем: и в оценке причин, которые тянут Польшу в пропасть, людей, которые позорят Польшу, и в оценке общественных сил, которые могли бы спасти родину от катастрофы.
И вот однажды Костюшко возвращался домой, после недельного гостевания у Немцевича. Ехал в роскошной коляске, запряженной парой венгерских, золотистой масти коней, – свою повозку и сивую кобылу он оставил у Урсына: повозка развалилась. Был чудесный весенний день. Благоухала сирень. Придорожные березы опускали долу свои ветки, точно желали дотянуться до земли, где солнце играло в чехарду золотыми кружочками. На небе ни облачка. Из придорожных болот доносилось возбужденное квакание лягушек.
Верста за верстой. То мелькнет барский дом с обширными службами, то деревня с разбросанными по косогору халупами, то костел в рамке старых каштанов. Верста за верстой. Застучат балки моста, запрыгают колеса по корневищам в лесу… Вперед, вперед…

Станислав Сташиц.

Юлиан Урсын Немцевич.

Тадеуш Костюшко. Рис. А. Орловского.
Костюшко остановился перед корчмой. Корчмарь, у которого он кормил и поил свою сивую кобылку каждый раз, когда ездил к Немцевичу и возвращался от него, принял вожжи и тихо сказал:
– Пане офицер, не ходите в большую комнату, там этот сидит… пан польный писарь Сосновский.
Костюшко знал, что тут рядом, на берегу живописной речки Пивония, раскинулось имение Сосновского, и каждый раз, точно крадучись, проезжал мимо. Но сегодня он обрадовался: после стольких лет, наконец, увидит этого польного писаря, спесивого отца Людвики, и поговорит с ним.
– Съест меня польный писарь? – рассмеялся Костюшко.
– Он пьян, пан офицер. Уже двух панов прогнал из комнаты.
– Меня не прогонит.
– Пане офицер, не ходите в большую комнату.
Костюшко направился именно в большую комнату. За длинным столом сидело человек восемь. Во главе стола, лицом к двери, восседал широкоплечий шляхтич с круглой бритой головой и густыми черными усами. Лицо – приятное, глаза – веселые, один только нос подгулял: крупный, мясистый. Это и был ясновельможный пан польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский. Весеннее солнце пригревало, а пан польный писарь – в бархатном кунтуше, отороченном собольим мехом.
Сосновский пристально посмотрел на вошедшего и вдруг радостно воскликнул:
– Ба! Пан Костюшко! Братья шляхта! Куфли до гуры!
Шляхтичи подняли высоко кружки. Понеслись выкрики:
– Виват! К нашему корыту просим!
Этот прием озадачил Костюшко.
– Спасибо, панове, но, к сожалению, не могу доставить себе удовольствия посидеть в таком высоком обществе. Я должен дальше ехать.
– Нет уж, пан капитан, – с пьяным благодушием ответил Сосновский. – Эти фражки[12]12
Шутки (польск.).
[Закрыть] ты брось! – И сразу посуровел: – Может, брезгаешь нами? Может, не пристало ученому из Парижа пить из одного жбана с грубой польской шляхтой?
Костюшко понял, что просчитался. Он хотел поговорить с отцом Людвики, а встретился с хамом, который ищет ссоры, ищет повода, чтобы крикнуть своим пахолкам: «Рубите его!»
Надо выбраться отсюда. Костюшко сказал спокойно:
– Пить из одного жбана с паном польным писарем – большая честь для польского офицера.
– Налить ему куфель!
Налили. Костюшко описал куфелем полукруг, приветствуя всех, и выпил до дна.
Сосновский подошел к Костюшке, положил ему руку на плечо.
– Посмотри мне в глаза, пан капитан.
Костюшко посмотрел в веселые глаза пана писаря.
– Ты сердит на меня?
– За что, пан польный писарь?
– Ты не спрашивай, а отвечай: сердит?
– Нет.
– Тогда жду тебя в Сосновцах. Пропозиция[13]13
Предложение (польск.).
[Закрыть] есть у меня.
Приглашение обрадовало и взволновало Костюшко, но он и виду не показал, поклонился и кратко ответил:
– Приеду.
Мундир с красными отворотами, кружева белые и пушистые, отцовская сабля, звонкие шпоры на сияющих сапогах.
– Какой ты красавец, Тадеушку!
Анна хотела приободрить брата: она видела, что он волнуется – дрожат пальцы, лицо поминутно меняется.
Костюшко действительно волновался: как встретит его Людвика – прежней простой девушкой или гордой ясновельможной панной.
Месяцы спокойной жизни у сестры благоприятно сказались на Костюшке: его лицо, обычно с желтинкой, как у кабинетных людей, стало теплым с палевым отливом осеннего клена; длинные волосы чуть выгорели, но стали мягче, шелковистей; его фигура как бы помолодела, стала гибче, и, самое главное, изменилось выражение глаз – они смотрели уверенно, серьезно, даже строго.
Когда Костюшко уже сидел в роскошной коляске того же Немцевича, Анна положила ему руку на рукав.
– Може, не поедешь?
Он поцеловал ее в голову.
– Не беспокойся, Ануся, я ни на секунду не забуду, что я Тадеуш Костюшко.
Верста за верстой. Мелькают березы, помещичьи дома, костелы, деревни, высокие кресты на перекрестках – резвые венгерские кони мчатся во весь опор, а Костюшке все кажется, что они плетутся шагом. Он потряхивает красными вожжами, причмокивает губами, понукает.
Вот и Сосновцы. Узорчатые железные ворота. Аллея столетних лип. Каменный двухэтажный дворец.
Костюшко выехал на джеджинец[14]14
Площадка перед домом (польск.).
[Закрыть] и остановился у широкой лестницы.
– Чолем, пан брат!
Приветствие донеслось слева, из-за деревьев.
Костюшко соскочил на землю. Появился пахолек, он молча перенял вожжи из рук Костюшки.
Из-за деревьев вышли несколько человек. Впереди – польный писарь с высокой худой дамой; чуть позади – Людвика в белом легком платье, черные волосы перевязаны синей лентой. Она ведет под руку двух девушек и, склонив голову, смотрит исподлобья на Костюшко. Она не удивлена, не смущена – видно, отец предупредил ее о приезде.
Сосновский представил гостя жене, обеим своим дочерям – Людвике и Фелисе – и их кузине Текле Сосновской. Покончив с этой официальностью, Сосновский спросил деловито:
– Где, ацан[15]15
Сударь (польск.).
[Закрыть], этих коней купил?
– Кони не мои, и коляска не моя.
Людвика сияющими глазами взглянула на Костюшко.
– Юзефе, ты утруждаешь пана капитана ненужными вопросами, – промолвила пани Сосновская басовитым голосом. – Теклюня! Покажи пану капитану его комнату!
Костюшко почистился, отдохнул. Он еще не знает, зачем его пригласил Сосновский и что его ждет в этом доме, но все же доволен, что приехал. Наконец-то увидел Людвику! Она повзрослела и так хороша… Любит она его? По всей вероятности, нет: присматривается, приглядывается к нему, словно к незнакомому. Но чем бы ни закончилась эта встреча, все благо: надо дописать очередную главу своей жизни.
Обед прошел в приятной беседе. Сосновский успел напиться до обеда и сидел за столом вялый, теребя ус, и не принимал участия в разговоре. Костюшко рассказывал о Париже – рассказывал мягко, образно. Фелися бурными охами и ахами выражала свое восхищение рассказчиком; Текля слушала с умильной улыбкой на устах; хозяйка не отрывала восторженного взора от гостя. Одна только Людвика как будто скучала: она водила пальцем по рисунку скатерти и лишь изредка, и то украдкой, встревоженно поглядывала на Костюшко.
После обеда молодежь гуляла в парке. Костюшко по просьбе Фелиси опять говорил о Париже. Людвика – под руку с сестрой и кузиной – слушала рассеянно: посмотрит на Костюшко, посмотрит пристально, как бы ища что-то в его лице, и опять склонит голову набок, точно прислушиваясь к чему-то.
Сосновский куда-то уехал. Ужин прошел еще живее. Двумя-тремя вопросами Людвика заставила Костюшко вернуться к своим воспоминаниям о Рыцарской школе. Он увлекся, рассказал о спорах в корпусном парке и о надеждах, с какими ушел из корпуса. В его рассказе было столько светлых красок, словно жизнь после корпуса текла вольно и безмятежно, как Висла в майский день.
Сосновский отсутствовал почти целый месяц. Погода стояла мягкая, солнечная. Басовитая пани Сосновская предоставила молодежи полную свободу. Правда, она наказала Фелисе и Текле «не оставлять гостя наедине с Людвикой», что, кстати, обе девушки честно не выполняли. Пятнадцатилетняя Фелися была очарована гостем и шпионить за ним считала подлостью. Текля же – бедная родственница, которой несладко жилось на хлебах у грубияна Сосновского, – считала своим приятным долгом насолить ему. Она понимала, чего тетушка опасается, и задалась целью содействовать сближению Костюшки с Людвикой. Когда они отправлялись в лес, по ягоды или грибы, Текля уводила Фелисю в чащобу, и та охотно подчинялась. Когда ездили на лодке по Пивонии, Текля просила Костюшко высадить ее с Фелисей на берег.
– А вы до островка Психеи поезжайте. Только цветочков привезите нам оттуда.
Приезд Тадеуша в Сосновцы захватил Людвику врасплох. Когда отец сказал: «Приедет, знаешь, тот офицер, зовут его, кажется, Костюшко», – Людвика не ощутила ни радости, ни волнения. Костюшко был для нее воспоминанием приятным, но очень смутным. Она помнила, что ей было хорошо с ним, что он умный, благородный, какой-то… не такой, как многие ее знакомые. Она и не подозревала, что чувство, которое когда-то влекло ее к этому скромному юноше, и была любовь…
Отец ее увез из Варшавы. В первые недели Люд-вике чего-то не хватало. Она тосковала, но постепенно успокаивалась; жизнь наполнилась мелкими радостями и мелкими огорчениями, и образ Костюшки лишь иногда всплывал, как видение из далекого детства.
И вот опять перед ней Тадеуш – он, но какой-то другой: такой же умный, такой же благородный, но более мягкий, более чуткий, более заботливый, более нежный. В Варшаве было приятно с ним говорить, поспорить; сейчас ей приятно ходить с ним об руку, слушать, как трепетно звучит его голос, видеть в его глазах свое взволнованное лицо, чувствовать его теплые губы на своей руке. В Варшаве это был умный мальчик; сейчас – серьезный, ученый человек.
Людвике сначала казалось, что в ней развивается что-то новое, что она впервые полюбила, но разумная Людвика скоро поняла: это продолжение… Оставаясь наедине с собой, Людвика стала по-взрослому строить планы на будущее: ей хорошо, тепло с Тадеушем, теплее, лучше, чем с теми молодыми людьми, которые числились кандидатами в женихи.
В какой-то день вышла Людвика к завтраку возбужденная, в руках она держала картон. Не глядя на Костюшко, она протянула ему картон и скороговоркой спросила:
– Плохой рисунок?
На картоне была нарисована азалия. Рисунок был сделан старательно, но неумелыми руками. Костюшко попросил краски и тут же прошелся по рисунку – цветок ожил, налился сочностью. Фелися ахала и охала, Текля умилилась, а пани Сосновская заявила своим басовитым голосом:
– Вы большой мастер, вач пан Костюшко.
За обедом Людвика подала Костюшке второй картон.
– А этот рисунок? – спросила она.
Опять цветок, на этот раз фиолетовая сирень.
– Вач панна одни цветы пишет?
– Обецне[16]16
Сейчас (польск.).
[Закрыть] только цветы! – ответила она возбужденно, нажимая на первое слово.
Костюшко рассказал, как нужно писать цветы, и этим была бы исчерпана цветочная тема, если бы Фелися не шепнула Костюшке на ухо, когда они уходили из столовой:
– Посмотри, вач пан, в книгу «Флирт цветов».
Книжку Костюшко нашел в библиотеке, и панна Текля Сосновская, столкнувшись с гостем, когда он выходил из библиотеки, шарахнулась от него, как от пьяного: серьезный офицер танцует один в коридоре!
И было чему радоваться Костюшке: на языке цветов азалия означала: «я счастлива, потому что влюблена», а фиолетовая сирень: «мое сердце принадлежит тебе».
В то время было в Польше много политических деятелей, которые торговали своей родиной. Такие, как маршал сейма Антони Понинский, продавали польскую землю стоверстными кусками, получая за это звонкое золото. Ксаверий Браницкий или Щенсный-Потоцкий не нуждались в чужом золоте: их необозримые земельные угодья тянулись к русской границе, и им, браницким и Потоцким, было выгоднее находиться под властью крепостницы Екатерины, чем под панованием ее слабовольного приказчика Понятовского. Князь Чарторийский хотел отдать Польшу под протекторат России из соображений высшей политики: опыт истории его убедил, что Польша, слабое государство, не устоит в окружении трех сильных держав. В военную мощь лоскутной Австрии Чарторийский не верил, пруссаков он считал жадными и бесчеловечными, а Россию – сильной, богатой и столь обширной, что она не нуждается в чужих землях. Под протекторатом России, верил Чарторийский, Польша возродится и окрепнет. Архиепископы Шимон Коссаковский, Массальский и иже с ними продавали Польшу и из любви к золоту и по приказу Рима: в страхе перед возможной революцией папа римский толкал католическую Польшу в объятия православной России – уж там, в России, революция немыслима.
Король Станислав Август Понятовский не продавал Польши. Он лишь не противился ни Австрии, ни Пруссии, когда они посягали на польскую землю.
О России и говорить нечего – не мог же он, посаженный на престол Екатериной, отказать своей бывшей любовнице в каких-то клочках польской земли. Понятовский, правда, протестовал против раздела, но свои протесты согласовывал с русским посланником.
Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский не мог торговать Польшей: он был мелким винтиком в государственной машине, но такой «деятель», как Сосновский, не мог не участвовать в подлом деле. Он стал агентом русского посланника Штакельберга – мобилизовал крикунов, когда надо было проваливать в сейме неугодный Штакельбергу закон, выставлял бойцов, когда надо было стаскивать с сеймовой трибуны неугодного оратора или брать в кулаки патриотов вроде Корсака, Рейтана, Богушевича, которые осмеливаются протестовать в сейме против ограбления их родины. Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский был мастером грязных дел, и эти дела Штакельберг щедро оплачивал золотом и почестями.
Вот недавно Штакельберг порекомендовал королю назначить Юзефа Сосновского воеводой литовским. Такую высокую честь надо отметить праздником, а для праздника пан воевода решил превратить свои Сосновцы в «маленький Версаль».
Сосновский вернулся в имение и, отдохнув с дороги, пригласил к себе Костюшко.
– Как тебе, вач пан, у нас? Приятно?
– Надо справиться у дам, не надоел ли я им.
– Справлялся. Говорят, ничего, не надоел. Садись, вач пан, налей себе меду.
– Спасибо, до обеда не пью.
– Офранцузился, ацан, от польского меда рыло воротишь. – Он налил себе большой куфель золотистого меда, осушил его, не отрываясь, вытер усы. – У меня к тебе, пане браче, пропозиция. Останься жить у меня.
– Почему мне такая честь?
– Думаешь, у Юзефа Сосновского нет человеческого сердца? Ты, ацан, ученый, разные науки в Париже одолел, а вернулся домой, и дома-то у тебя не оказалось. Вместо того чтобы объедать Эстков, у которых и так не густо, поживи у меня. Но я, вач пан, твой гонор знаю, наслышан, даром чужой хлеб не захочешь есть. Так вот работу тебе выдумал. Ты парк в Версале хорошо знаешь?
Костюшко не ответил: огромных усилий стоило ему удержать себя и не плюнуть в рожу этому носатому наглецу, огромных усилий ему стоило усидеть в кресле.
– Конечно, знаешь, – спокойно продолжал Сосновский, – вот и распланируй мой парк на манер версальского. И тебе, вач пан, будет приятно: все-таки близкое тебе занятие, и хорошую память в Сосновцах по себе оставишь. А между делом поучи моих дочек акварельки рисовать. Знаешь, ацан, в том обществе, в котором они вращаются, только и хвастают своими акварельками.
Состояние у Костюшки такое, словно ему предложили гвозди глотать. Принять предложение, высказанное в такой хамской форме, и не иметь возможности ответить этому хаму ни пощечиной, ни плевком! Но лишиться Людвики?
Костюшко поднялся.
– Принимаю вашу пропозицию. – И направился к двери.
– Куда, вач пан? Я еще не закончил.
– У меня голова болит, – ответил Костюшко, не оборачиваясь, и вышел из комнаты.
Лето разгорелось.
Людвика с каждым днем все больше убеждалась, что Тадеуш и есть тот «единственный», которого только счастливая женщина встречает на своем жизненном пути, что Тадеуш тот герой, о котором она мечтала. Образование Костюшки, его высокий строй мыслей, его мечта о свободной и вольной родине – все это резко выделяло Тадеуша в кругу пустой бахвальной шляхты, которую она видела у себя дома.
Людвика не только полюбила Тадеуша, она преклонялась перед ним: поверила в какую-то мистическую его силу. Людвика боялась грозы, уже дальние раскаты приближающейся грозы ввергали ее в панический ужас. Однажды, когда она с Тадеушем гуляла по парку, набежала гроза; молнии разрывали небо, громыхали громы, а Людвика даже и не подумала укрыться под крышей: одно присутствие Тадеуша отгоняло от нее страх.
Шли дни, недели. Чертежи «малого Версаля» и занятия с паннами занимали у Тадеуша три-четыре часа в день, остальное время он проводил с Людвикой.
У влюбленных был свой план: закончив чертежи «Версаля», Костюшко поедет к князю Чарторийскому, расскажет ему о своей любви, а князь сумеет уговорить Сосновского дать согласие на брак дочери. Если потребуется, то Чарторийский заручится помощью и короля.
В это лето польный писарь редко бывал дома – приезжал на день-два, отсыпался и опять уезжал. Чертежи «малого Версаля» ему понравились, и, конечно, свое одобрение он высказал в свойственной ему грубой форме. Но Костюшко не обиделся – он даже не слышал похвал грубияна. Если это происходило за обедом, Костюшко чувствовал теплое пожатие девичьей руки; если это происходило в парке, Костюшко видел пунцовые пятна стыда на девичьем лице. Людвика была всегда рядом, всегда с ним.
Лето догорало. Чертежи закончены. Костюшке не хотелось уезжать, но Людвика настояла:
– Надо вырваться отсюда.
И Костюшко поехал. Князь Чарторийский и его дочь Мария, будущая княгиня Вюртембергская, приняли его как родного. С «очайдушой»[17]17
Прохвост (польск.).
[Закрыть] Сосновским князь Чарторийский не захотел разговаривать, но по настоянию дочери в этот же день поехал к королю и уговорил его помочь влюбленным. Кроме того, Чарторийский дружески предложил своему бывшему воспитаннику мешочек с дукатами: «Разживешься, Тадеуш, вернешь, а сейчас тебе нужны будут деньги».
В Сосновцах, на джеджинце встретила его Людвика. Она посмотрела ему в лицо, и… с ее щек начали скатываться градинки. Костюшко еще слова не промолвил, но чуткая Людвика – по той радости, что сияла в его глазах, – поняла, что их счастье близко.
Вечером этого дня приехал польный писарь. Семья собралась в столовой. Сосновский был уже пьян.
– Ну как, ацан, не скучаешь? – обратился он к Костюшке вместо приветствия.
– Я никогда не скучаю.
– Слыхала, мосчи пани, – повернулся он к жене. – Он никогда не скучает. А, собственно, почему ему скучать? Поят, кормят, ухаживают за ним, как крулева Бона ухаживала за своим итальянским пажем…
Людвика, сжимая под столом руку Костюшки, сказала дрожащим голосом:
– Пан отец не должен так говорить со своим гостем.
Сосновский хихикнул.
– Со своим гостем? Кто приглашал этого гостя?
– Вы! – зло воскликнула Фелися. – Вы! Вы!
– Да, я, мои анёлки, когда я был польным писарем, а теперь я воевода литовский, а воевода никого еще к себе не приглашал.
Эта весть никого не поразила – все знали, что номинация будет объявлена со дня на день.
Но вдруг произошло непонятное: Сосновский поднялся, в пояс поклонился Костюшке:
– Ты прости меня, пан брат, это я спьяну глупостей наговорил. Я люблю тебя, пан брат, и найяснейший наш круль тебя любит. Все тебя любят. Правду говорю, панна воеводзянка? – обратился он к Людвике.
– Правда, пан отец, – вырвалось у Людвики.
– Люблю, панна воеводзянка, правду. За правду готов душу отдать. А ты, пан брат, прости меня, пьянчугу, язык у меня поганый.
Всем было тягостно, всем стало грустно, точно на поминках.
После ужина, когда направлялись в зал, к фортепьяно, Людвика задержала Тадеуша в коридоре и, волнуясь, сказала:
– Тато что-то задумал. Он нас разлучит. Бежать. Бежать. В Сехновицы. Там обвенчаемся.
– Людвика… Ты…
– Да. Немедленно поезжай, достань лошадей у Немцевича. В среду, в полночь, я буду ждать тебя у нашего вяза, на берегу…
Через час Костюшко выехал из Сосновиц.
В среду, в полночь, Костюшко ждал у вяза на берегу Пивонии, но Людвика не появилась.
До утра он просидел в карете. Когда на косогоре показался первый человек, Костюшко помчался к дворцу.
Ворота распахнуты. На клумбе штабелями лежат доски, бревна. Десяток крестьян, выстроившись в ряд, копают землю на границе парка. Господин в берете и черном кафтане ходит по джеджинцу с деревянной треногой.
– Что тут происходит? – спросил Костюшко.
Господин вежливо ответил:
– «Версаль» будем строить, пан офицер.
Двумя прыжками Костюшко одолел лестницу.
В столовой за убранным по-праздничному столом сидела челядь: лакеи, кухарки, горничные, садовники. Стол уставлен жбанами, мисками.
Никто из челяди не поднялся, не поклонился вошедшему Костюшке.
– Где пан воевода?
– А пану учителю зачем это знать? – нагло спросил молодой лакей.
Другой лакей, подмигивая своей соседке – толстой кухарке Малгосе, насмешливо сказал:
– Пану учителю не пан воевода нужен, а панна воеводзянка.
– Ты прав, Ондрей, – согласилась кухарка. – Панна воеводзянка ему нужна. А зачем, спрашиваю, ведь нельзя связывать шелковую нить со шпагатом. Так я говорю, Ондрей?
Вместо Ондрея ответил старик Вавжин, садовник:
– Пани Малгося умница, она хорошо сказала. Горлица не для воробья.
Костюшко шагнул к столу. Он был страшен: рука лежала на эфесе сабли, лицо пылало, в глазах – ярость, того гляди порубит все и всех.
Челядь, точно по команде, вскочила с мест.
– Пане офицер, – униженно кланяясь, сказал старик Вавжин. – Уехал пан воевода, уехал и всю свою родзину увез. Увез, пан офицер. А мы тут выпили немного. За счастье добродзейки княгини.
– Какой княгини?
– А пан воевода нам сказал, что нашу паненку Людвишу выдает замуж за князя Любомирского. Вон, пан офицер, как высоко взнеслась наша паненка. А на нас не надо сердиться. Мы, правда, выпили, гембы[18]18
Рты (польск.).
[Закрыть] распустили, но мы не со зла. Не со зла. Мы пана офицера уважаем. Обиды от него не видели…
Костюшко не дождался конца пьяной болтовни. Испарилась ярость. В голове, точно шарик в пустой коробке, перекатывалась одна лишь мысль: «Конец…»
Как Костюшко добрался до Эстков, не помнит. Приехал, закрылся в своей комнате и не отвечал ни на уговоры зятя, ни на просьбы сестры. В эти дни он даже не думал. Его человеческий разум не мог ни примириться, ни объяснить ту чудовищную несправедливость, с какой столкнулся.
Костюшко обладал счастливой особенностью: переболев, он умел ставить точку, умел зачеркнуть несчастье и не показывать людям свои раны. Он вышел из добровольного заключения и, ни словом не обмолвившись о том, что с ним приключилось, позвал племянников и ушел с ними в поле.
Но что-то делать с собой надо: нельзя навеки остаться нахлебником.
Костюшко предложил зятю урегулировать с братом Юзефом сехновицкие дела. Зятю это не удалось. Тогда решили созвать семейный совет.
В октябре 1775 года съехалась семья в Славинке, под Люблином, на хуторе дяди Яна Непомуцена. Там они проштудировали счета и документы, которые представил Юзеф. Установили: долг Тадеуша не 39 тысяч, а 26 и что при умелом хозяйничании можно в десяток лет очистить имение от долга. Обязанности управляющего Сехновицами возложили на Петра Эстка, как дельного и опытного помещика.
Что же Тадеушу делать? Чем ему заняться? Дядя Фаустын был знаком с влиятельным магнатом Мнишек из Дукли. Фаустын написал письмо магнату с «нижайшей просьбой» выхлопотать племяннику службу в «дипломатии», и он же, дядя Фаустын, продиктовал Тадеушу «верноподданное послание», которое надлежало вручить лично самому Мнишку.
Тадеуш, вооруженный письмами, поехал в Дуклю – магната не застал: он в Кракове. Тадеуш поехал в Краков – магната и там не оказалось.
Глава в жизненной повести дописана. Шестнадцать месяцев прожил Костюшко на родине. Во Франции окрепло в его душе то, что зарождалось еще в Польше, – он вернулся домой с глубокой верой в права человека и народа устраивать свою жизнь по собственному разумению, вернулся домой со страстным желанием послужить человечеству и своему народу. Тут он столкнулся с удручающей действительностью: страной управляет банда сосновских. Для Костюшки, мечтающего о службе родине, не нашлось места на этой родине. Ему идет тридцатый год, и он без крова, без надежды на семейное счастье, без обеспеченного куска хлеба.








