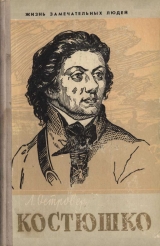
Текст книги "Тадеуш Костюшко"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Островер Леон Исаакович
ТАДЕУШ КОСТЮШКО

Леон Исаакович Островер родился в 1890 году в Плоцке. Окончил философский факультет Краковского университета, в Берлине получил диплом врача. В годы Великой Отечественной войны служил в Советской Армии в должности начальника госпиталя.
Первая книга писателя – «В серой шинели» – вышла в 1926 году. Затем появились романы и повести «Когда река меняет русло», «Конец Княжеострова», «Караван входит в город»», «На берегу Двины», «Буревестники», «Николай Щорс», «Пресня не сдается» и др.
В серии «ЖЗЛ» вышли две книги Л. Островера – «Петр Алексеев» (1957) и «Ипполит Мышкин» (1959).

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРИКАЗ КОРОЛЯ

 адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре – российский амбасадор[1]1
адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре – российский амбасадор[1]1
Посланник (польск,).
[Закрыть] князь Репнин, грузный и напыщенный, увешанный бриллиантовыми звездами; за ними – паны в бархате, пани и панны в парче, кадеты – сынки родовитой шляхты – в ярких кунтушах и жупанах. Тадеуш Костюшко в синем грубошерстном мундире сам себе казался вороной среди павлинов. Ему было неловко, но приказ начальника Рыцарской школы князя Чарторийского обязывал кадетов посещать придворные балы.
Тадеуш Костюшко, невысокородный и небогатый шляхтич, попал в Рыцарскую школу случайно: ясновельможный польный писарь[2]2
Соответствует должности начальника штаба (польск.).
[Закрыть] литовского войска Юзеф Сосновский «снизошел» к мольбе «дальней соседки» и добился зачисления ее сына Тадеуша во вновь учрежденный аристократический корпус.
После пятилетнего пребывания в Любашевской бурсе отцов-пиаров[3]3
Члены католического монашеского ордена.
[Закрыть], размещавшейся в низеньких и затхлых кельях, где монахи от рассвета до темна внушали своим юным питомцам любовь к наисладчайшей деве Марии и ее божественному сыну, Тадеуш Костюшко очутился в просторных и светлых залах корпуса. Галантные кавалеры и славные ученостью мужи преподавали иностранные языки и математику, эстетику и экономику, архитектуру и живопись, военное дело и государственное право. Вместо любви к матери церкви прививали они кадетам стремление к свободе и любовь к отчизне.
Тадеуш Костюшко относился к школьным обязанностям с суровой добросовестностью. Быть посредственным кадетом он не мог, а чтобы стать одним из первых, надо было заниматься упорно и много. Тадеуш вставал до рассвета. Его будил сторож: Костюшко привязывал к своей ноге веревку, конец ее выводил в коридор, и ежедневно в три часа утра сторож тянул за эту веревку. Тускло мигала восковая свеча, едва освещая страницы учебника.
Уже одна церемония приема в Рыцарскую школу произвела на Костюшко огромное впечатление. Кадеты были выстроены в зале; Костюшко произнес обет верности традициям школы; его облекли в синий мундир… Через год, 20 декабря 1766 года, Тадеуш сдал все экзамены и получил звание хорунжего. Опять торжественная церемония: месса с проповедью епископа, военный парад. Перед фронтом начальник обратился к Тадеушу:
– Есть у вас желание?
– Я счастлив, что мне разрешили носить кадетский мундир, сейчас я прошу о праве носить оружие.
– Имеете ли вы искреннее намерение употреблять это оружие всегда на защиту родины и чести?
– Другого намерения у меня нет.
Под звуки барабанной дроби принесли саблю, и старший из офицеров перепоясал ею Тадеуша.
Четким голосом Костюшко произнес клятву:
– Обещаю братьям моим, здесь присутствующим, что своими поступками не принесу им стыда, а младшим, вновь поступающим, не дам дурного примера.
Первый чин принес и материальное облегчение: звание хорунжего давало ему 72 злотых месячного жалованья. Гроши! А для Тадеуша Костюшки это было богатство, делающее его независимым от нищенских подачек матери; богатство, придающее ему большую свободу в отношениях с товарищами по корпусу. Сынки «ясновельможных» весь первый год чуждались нового кадета, и Тадеуша это не удивляло. Все они выводили свой род чуть ли не от первого человека, осознавшего себя поляком, или по крайней мере от тех древних шляхтичей, которые девять веков тому назад избрали легендарного Пяста своим князем.
А он, Тадеуш Костюшко?
Его предки – белорусы, веры – православной, и русский язык был их родным языком. В течение двухтрех веков Костюшки сменили и религию и язык. Отцы «ясновельможных» сынков – воеводы и каштеляны, на худой конец – старосты.
А его отец?
Полковник, который никогда ничем не командовал, ибо у него ни разу не было такой большой суммы, чтобы оплатить патент на право командования; мелкий шляхтич, которым магнат Сапега пользовался для своих не всегда чистоплотных дел, и державца[4]4
Арендатор.
[Закрыть] небольшого имения, десятки лет копивший дукаты, чтобы выкупить свое родовое гнездо Сехновицы, а выкупив, наконец, Сехновицы, умер, оставив на необжитом месте вдову с четырьмя детьми.
Костюшко был не знатен и не богат и к тому еще не красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом.
Однако сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя Чарторийского, начальника корпуса.
Тадеуш Костюшко – хорунжий, офицер, однако балы все еще ему в тягость. Он уже имел возможность купить пару парижских перчаток, из-под рукавов его мундира уже выступает тонкое кружево, но заставить себя говорить о пустяках с наигранной серьезностью Тадеуш не мог, не мог он и восхищаться тем, что ему казалось ничтожным, – в нем не было той приятной светскости, которая вырабатывалась в сынках «ясновельможных» чуть ли не с колыбели.
Тадеушу Костюшке двадцать один год, и в его распахнутое сердце вошла любовь. Правда, он еще сам не знает, любовь ли это, но образ панны Людвики неотступно стоит перед его глазами.
Как-то раз в бальной сутолоке кадет Водзиевский обнял Костюшко и подвел его к девушке.
– Вот он, Тадеуш Костюшко, наш философ и художник, – сказал Водзиевский и тут же исчез.
Тадеуш взглянул на девушку. Большие глаза – грустные, а брови, тонкие, изогнутые, делают лицо чуть-чуть плутоватым. Девушка протянула руку, улыбнулась – поднялись брови, глаза сузились, и все лицо вдруг стало по-детски радостным.
– Так это вы и есть пан Костюшко? А я Людвика… Сосновская.
Она, видимо, осталась довольна новым знакомым: ямочка между ртом и носом исчезла, а с ней и вся девичья строгость.
С хоров донеслись первые звуки кадрили. Костюшко пригласил Людвику. Она доверчиво положила свою руку на его плечо.
Во время танца Людвика смотрела на Тадеуша весело и с хитринкой. Она будто и не танцевала: стройная, в воздушном белом платье, порхала вокруг своего кавалера, а когда, по правилам кадрили, переходила к другому партнеру, ее глаза призывно смотрели на Тадеуша, словно просили поскорее вызволить из чужих рук.
После кадрили они вышли на балкон. На ночном небе сияла россыпь Млечного Пути. Варшава тянулась ввысь башнями костелов, а вокруг них, точно молящиеся на коленях, застыли темные дома. Сизой лентой текла Висла: хибарки Праги отражались в ней неясно, как в тусклом зеркале, у стен же Замка вода была кроваво-красной от сотен свечей, которые горели в танцевальном зале.
Картина мрачная, зловещая, и Костюшко хотел сказать Людвике, что Варшава кажется ему мертвым городом…
– Пан хорунжий любит стихи пана Морштына?
Вопрос, заданный нетерпеливым голосом, вернул Тадеуша к действительности.
– Стихи Яна Морштына? Панна Людвика извинит меня, не люблю его стихов. Слишком много в них шляхетской спеси и французской кокетерии.
– А стихи пана Твардовского?
– И его не люблю. Пан Твардовский пишет, что поляки проиграли бой со шведами из-за «кары божьей», а я вижу, бой был проигран потому, что мы построили свою кавалерию лицом к солнцу…
Считала ли Людвика тему исчерпанной или по другой причине, но она подошла к барьеру балкона, несколько минут смотрела на ночную Варшаву и вдруг, точно вспомнив что-то, обернулась.
– Теперь я понимаю, почему пана хорунжего коллеги прозвали Шведом. – Она сказала весело, но за этой веселостью, как темный цвет сквозь белую кисею, пробивалась ирония.
Кадеты звали Костюшко Шведом, утверждая, что он характером напоминает им короля-аскета Карла XII.
Костюшко не обидела ирония – в ней он услышал поощрение, призыв к откровенности.
– Панна Людвика поняла, а я, каюсь, не понимаю. Король Карлюс и я! Если мы чем-нибудь похожи друг на друга, то только тем, что он и я некрасивы.
– А пан хорунжий считает, что красота основное достоинство мужчины?
– Не основное, но одно из трех основных.
– А какие остальные два?
– Родовитость и богатство.
Людвика расхохоталась.
– Пан хорунжий! Какой вы Карлюс! Вы всего-навсего старая гувернантка! «На белом конике прискачет красавец принц». А может, пан хорунжий изволит иронизировать? Или пан хорунжий вычитал эти разумные истины из ученых книг?
– Сдаюсь, панна Людвика. Мои разумные истины потерпели поражение. Но позвольте узнать, какие истины вы считаете разумными? Какими, по-вашему, достоинствами должен обладать мужчина?
– Если вы действительно интересуетесь, скажу. Мужчина должен обладать тремя достоинствами, но вовсе не теми, которые вы назвали с высоты своего философского величия или с точки зрения старой гувернантки.
– Панна Людвика, нехорошо бить лежачего, в особенности когда этот лежачий уже каялся в своих прегрешениях.
– Скажу, пан Карлюс. Мужчина должен обладать вот какими достоинствами: сердце, ум и благородство. А теперь пойдем, побудка к краковяку!
Когда они, переступив порог зала, на секунду остановились, чтобы привыкнуть к яркому освещению, Людвика серьезно спросила:
– А свои рисунки вы мне покажете?
– Почту за счастье!
Счастье, однако, длилось недолго. После третьего бала, за завтраком, Водзиевский шепнул на ухо Тадеушу:
– Поздравляю, Швед, ты полонил сердечко моей кузины. Только вот… приедет ее отец, этот кичливый польный писарь…
– Как! – вскрикнул Костюшко. – Людвика дочь Юзефа Сосновского, а не Станислава?
Водзиевский удивленно взглянул на товарища.
– Ты что, Швед, с луны свалился? Станислав никогда не был женатым.
Костюшко заставил себя высидеть до конца завтрака. Перед глазами туман; сердце точно иголками набито. Людвика, такая простая, сердечная девушка, – дочь того самого магната Сосновского, которому мать колени целовала, вымаливая протекцию для своего сына. Людвика Сосновская и Тадеуш Костюшко – они удалены друг от друга, пожалуй, больше, чем Млечный Путь от Земли.
Балы в Замке, которые из-за Людвики стали радостью, опять начали угнетать Тадеуша. Он был вынужден «присутствовать», но не мог себя заставить «участвовать». Слоняясь по залам, избегал встреч с Людвикой. «Зачем? – убеждал он себя. – В мир магнатов мне доступа нет, а околачиваться в прихожих не хочу!»
Шли недели, месяцы, а образ Людвики, вместо того чтобы угаснуть, все ярче оживал в его сознании, и не только в минуты раздумий, но и в часы занятий. Чтобы отогнать, побороть овладевшее им чувство, Костюшко стал искать общества своих товарищей, стал участником их бесед, споров.
В 1768 году Тадеуша Костюшко произвели в капитаны и оставили инструктором при корпусе. Костюшко стал Крезом: двести злотых жалованья! Он уже мог и книги покупать, и дорогие итальянские краски, и голландский холст для картин.
Опять карнавалы, опять балы в Замке.
Костюшко в танцевальном зале, но не танцует. Из-за колонны следит он за Людвикой. Она весела, возбуждена, танцует, закинув голову, и из полураскрытого рта белеет полукружие зубов. Случайно встретившись взглядом с Тадеушем, она на мгновение теряет ритм, но тут же, тряхнув головой, уносится в другой конец зала, теснее прижимаясь к партнеру, как бы ища у него защиты…
И в этот момент огромный, медвежеподобный воевода Гоздский толкнул синемундирного кадета, который под руку с дамой направлялся в круг. И не только толкнул, но еще и рявкнул:
– С дороги, молокосос!
Кадет побагровел, рванулся к обидчику, но, видя, что перед ним ясновельможный пан воевода, застыл на месте и растерянно взглянул на стоявшего у колонны капитана.
Костюшко шагнул к Гоздскому и ледяным тоном промолвил:
– Пан воевода извинится перед моим коллегой.
– Мне? Извиниться? – расхохотался Гоздский.
– Да, пан воевода! Вам придется извиниться! – жестко отчеканил Костюшко.
– Спор? – спросил король, оказавшись неожиданно за спиной Костюшки. Он направлялся в зал под руку с князем Чарторийским.
Костюшко ловко повернулся и отрапортовал:
– Ваше королевское величество! Пан воевода нанес оскорбление кадету и отказывается извиниться перед ним!
Образовался живой круг. Все взоры были обращены к королю. Играя черепаховым лорнетом, Станислав Август пристально смотрел в лицо молодому капитану. Наконец улыбнулся и добродушно спросил:
– Что сделал пан воевода?
– Грубо толкнул кадета.
– Народу много, а пан воевода не былинка, – сказал король с прежним добродушием и, обратясь к оскорбленному юноше, закончил строгим голосом: – Мог бы уступить дорогу имч пану воеводе.
Лицо короля сразу преобразилось: вместо мягкой, добродушной улыбки появилось выражение усталости или нетерпения.
Костюшко сделал шаг в сторону, как бы загораживая дорогу королю, и твердым, хотя и почтительным голосом сказал:
– Ваша королевская милость, вступая в корпус, мы дали клятву, что в любую минуту обнажим шпагу на защиту своей чести. Пан воевода оскорбил кадета и тем самым нанес урон чести всего корпуса вашего величества.
Король достал из жилетного кармана хрустальный флакончик, откупорил его, вылил себе на ладонь несколько капель, натер ими виски, и – от этого ли, или по другой причине – выражение усталости сошло с его лица.
Стоявший рядом Чарторийский склонился и шепнул что-то на ухо королю. Станислав Август оживился: легкая, едва уловимая усмешка выпорхнула из его глаз.
– Художник. Хвалю. Буду в корпусе, посмотрю твои акварельки. Пан воевода, – обратился он к Гоздскому, – дело чести. Надо извиниться.
Гоздский повернул голову в сторону кадета и промычал что-то.
Король удалился.
Костюшко был недоволен собой: он должен был знать, что вмешательство короля придаст инциденту шутовской характер. Надо было оборвать спор, а потом, после ухода короля, вызвать Гоздского на балкон и потребовать у него сатисфакции, как шляхтич у шляхтича. Медведь не отказался бы: какой шляхтич откажется обнажить карабельку[5]5
Кривая сабля (польск.).
[Закрыть], а если бы отказался, то можно было перчаткой сдунуть спесь с его медвежьей морды. А получился спектакль! Сегодня жужжат об этом в Замке, завтра будет судачить вся Варшава. Герой Костюшко! А что он сделал? Произнес несколько фраз о чести. Если в парке корпуса водились бы попугаи, они в первую очередь усвоили бы слово «честь» – так часто произносят его кадеты…
Костюшко вышел на балкон. Был ранний вечер. На крышах домов еще лежала розовая пелена, кресты на костелах горели. По маленькой площади Канонии шла казачья сотня – с гиком, с тулумбасным гулом. Народ возвращался с вечерни. Несколько казаков, горяча коней и играя пиками, прижимали пешеходов к стенам домов.
– Не помешаю, пан капитан?
– Панна Людвика!
– Вы еще помните, как меня зовут? – спросила она с иронией. – А почему не прибавили «дочь ясновельможного пана польного писаря литовского войска»? Или этот титул так пугает вас, что даже произнести его вслух не решаетесь? Сядем, мне с вами поговорить надо! – закончила она раздраженно. – Помните, пан капитан, на этом балконе мы говорили о достоинствах мужчин.
– Хорошо помню, панна Людвика.
– А помните, пан капитан, какие достоинства я считала обязательными?
– И это помню.
– Так вот, пан капитан, из трех достоинств вы обладаете только одним.
– Каким, если позволено мне знать?
– Благородством. Это вы сегодня доказали. А вот сердца и ума у вас нет.
– Значит, пан бог обидел меня.
– Пан бог тут ни при чем. Кузен Вацлав сказал вам, что я дочь польного писаря, и вы, как мимоза, закрылись, замкнулись. А разве дочь польного писаря не может интересоваться живописью, интересоваться тем, чем интересуетесь вы? Разве дочь польного писаря не может интересоваться древними героями, перед которыми вы преклоняетесь? Разве дочь польного писаря не может интересоваться всем тем, о чем вы спорите в парке вашего корпуса? Вы слывете среди товарищей умным, а на деле вы начинены предрассудками не меньше, чем моя бабушка Яблонская. Разве богатство и родовитость могут служить причиной тому, чтобы повернуться спиной к человеку, который обладает этими преимуществами? – Она решительно поднялась. – Я сказала все, что хотела сказать. И прощайте, пан капитан!
Костюшко остался сидеть. Первое движение – побежать за Людвикой, но это движение было подавлено гордостью. Что он ей скажет? Что мучился, что мечтал о ней? А какое ей дело до его сердца? Ей нужен собеседник – не такой скучный, как те сиятельные хлыщи, которые ее окружают, и выбор пал на него: видно, Вацлав размалевал его так, как бездарный гончар размалевывает свои горшки – щедро и ярко.
При корпусе был большой парк. Перед отбоем кадеты собирались в нем и, разбившись на группы, вели нескончаемые споры. Основная тема – Барская конфедерация[6]6
Объединение шляхты (в XVI–XVIII веках) для защиты ее привилегий от посягательств со стороны королевской власти, а также для захвата власти в стране.
[Закрыть] и поведение короля. В этих спорах сказалось своеобразие Рыцарской школы. Кадетов, воспитывающихся под боком короля, учили, что «высшее начало», которым должен руководствоваться поляк, – это родина, а не король. Доходило до того, что на каком-то концерте в присутствии Понятовского молоденький кадет прочитал отрывок из поэмы Красицкого «Мышееды»:
При короле водились фавориты,
Они, подобье упырей,
Прожорливы и никогда не сыты,
Сосали соки из простых людей…
И ничего: чтеца похвалили за хорошую дикцию.
С точки зрения этого «высшего начала» кадеты в своем сегодняшнем споре осуждали короля Понятовского: они считали, что не следовало ему призывать иноземные войска для подавления Барской конфедерации.
Барская конфедерация! Прошел уже год, но как еще остры переживания! Им, кадетам, казалось, что все беды Польши начались именно с нее. Но они видели следствия, а не причины. В стране уже давно было неспокойно. Феодальная государственность разлагалась. Крестьяне бунтуют – они впали в крайнюю нужду. И несколько лет спустя Станислав Сташиц будет писать: «Я вижу миллионы существ, из которых одни ходят полунагими, другие покрываются шкурой или грубой сермягой; все они высохшие, обнищавшие, обросшие волосами, закоптевшие… Они носят позорное имя хлопа. Пища их – хлеб из непросеянной муки, а в течение четверти года – одна мякина. Их напиток – вода и жгущая внутренности водка. Жилищами им служат ямы или немного возвышающиеся над землей шалаши. Солнце не имеет туда доступа. Они наполнены только смрадом… В этой смрадной и дымной темнице хозяин, утомленный дневной работой, отдыхает на гнилой подстилке. Рядом с ним спят нагишом малые дети – на том же ложе, на котором стоит корова с телятами и лежит свинья с поросятами».
Крепостничество, обнищание деревни, темнота и забитость населения тормозили рост производительных сил. Голодающий крестьянин и бедный мещанин не могли быть исправными налогоплательщиками и покупателями.
Мелкая шляхта также ворчала: голодный хлоп работал нерадиво, вполсилы, плохо кормил своего помещика.
Страх перед назревающими событиями толкал шляхетских реформаторов на путь преобразования государственного строя. Сейм 1764 года сделал первые шаги: он ограничил применение «либерум вето» (знаменитое «Не позвалям!»), реорганизовал управление финансами, организовал Военную комиссию, упорядочил судебное дело, но основ политического строя Речи Посполитой не менял.
И тут выплыл диссидентский вопрос, то есть вопрос об уравнении в правах христиан – некатоликов с католиками. Католическое духовенство и многие магнаты решительно выступили против наделения диссидентов правами, ополчились также против реформ вообще, требуя возвращения к широкому применению «либерум вето», – в любых реформах они усматривали угрозу золотой шляхетской вольности.
В борьбе магнатов с реформаторами победили магнаты: сейм 1766 года подтвердил незыблемость «либерум вето» и высказался против предоставления прав диссидентам. Обстановка в Крае еще больше осложнилась. Екатерина II, которая возвела на престол польских королей своего бывшего любовника Понятовского, приобрела огромное влияние на внутренние дела Речи Посполитой. В случае с диссидентами она усмотрела удобный повод для дальнейшего усиления своего влияния, хотя о национальных чаяниях украинского и белорусского народов, которые и числились диссидентами, царское правительство меньше всего думало. Екатерина отдала распоряжение своему послу в Польше Репнину усилить нажим на сейм и добиться для диссидентов равных прав с католиками. Репнин выполнил распоряжение. Он арестовал наиболее активных противников России и в феврале 1768 года добился заключения договора, вполне устраивающего царское правительство. Отдельный акт, принятый под давлением Репнина, перечислил «кардинальные права» Речи Посполитой. «Либерум вето», шляхетские привилегии, принцип неприкосновенности личности шляхтича – все было восстановлено. Из всех попыток реформаторов упорядочить крестьянский вопрос в «кардинальных правах» остался один только пункт: шляхте запрещается применять к своим хлопам смертную казнь.
В то время когда в Варшаве подготавливался договор с Россией, на Правобережье Украины, которая находилась под властью Речи Посполитой, в местечке Бар, составилась конфедерация. В нее вошли ярые крепостники, враги каких бы то ни было реформ государственного строя, враги России. Они призывали шляхту в бой за отмену равноправия диссидентов, за восстановление всех без исключения шляхетских вольностей. Разразилась междоусобная война. Конфедераты[7]7
Участники конфедерации.
[Закрыть] вели себя так, словно воевали не в Польше, а в чужом крае: опустошали страну, грабили крестьян, терроризировали население. Особо отличались отряды Красиньского, Пуласского и Потоцкого.
Но вскоре конфедераты оказались в кольце крестьянского восстания. Украинская беднота видела в конфедератах своих вековых угнетателей, она вооружилась кольями (от этого слова и само восстание получило название «колиевщина») и смело вступала в бой со шляхтой. Из-под Черкасс вышел небольшой отряд повстанцев, а через три месяца их атаманы Зализняк, Швачка, Журба, Бондаренко, Гонта и другие уже захватывали укрепленные замки, местечки и города. Запорожская беднота, жившая на левом берегу Днепра, в русской части Украины, пришла на помощь своим правобережным братьям: и они были в прошлом крепостными польских панов, и по их спинам гулял панский кнут. Восстание разрасталось, ширилось.
Екатерина по просьбе Понятовского послала на Украину генерала Кречетникова в помощь польскому карательному отряду гетмана Браницкого. Украинское население восприняло появление русских войск как помощь со стороны русского народа своим единоверным братьям в ах борьбе против гнета польской шляхты и католического духовенства. Однако вскоре убедилось, что русская царица не считается с чувствами своего народа, что она действует вопреки его воле, что она спасает польского пана от гнева украинского народа…
Восстание было подавлено.
Расправа была короткая: деревни запахивались, вожаков четвертовали, сажали на кол, разрывали лошадьми. Магнаты мстили за то, что хлоп посмел поднять палку на пана, за то, что хлоп посмел заговорить о воле.
В этот вечер сидели на скамье в парке три друга: капитаны Костюшко и Юзеф Орловский, хорунжий Вацлав Водзиевский. Орловский порицал конфедераторов за их «воинствующий католицизм», а Водзиевский пропел панегирик конфедератам за их мужество.
– Это верно, – заявил Костюшко, – конфедераты сражались храбро, но мне кажется, что грех, смертный грех поднимать меч против своей отчизны.
– Они подняли меч во имя идеи, – возразил Водзиевский.
– Какой идеи? Подумай, Вацлав, какой идеи? – спросил Костюшко. – Против короля и против народа.
Водзиевский поднялся, расправил плечи и, уставясь на Костюшко, строго сказал:
– Какого народа? Хлопа? Того хлопа, который только ждет случая, чтобы меня, как цыпленка, зарезать?
– Ты не прав, Вацлав, – примирительно сказал Костюшко. – Хлоп озлоблен, это верно, но дай ему клочок земли, и он на тебя, как на бога, молиться будет.
– Это чтобы я, Вацлав Водзиевский, роздал свою землю хлопам? Землю, которую мои предки кровью добывали? Скорее Висла потечет к Кракову! Прости меня, Швед, но так рассуждать может только человек, у которого нет дедовского наследия. А у меня оно есть, и я хлопу не только пяди земли, но и старой подковы не отдам!
Костюшко вдруг расхохотался:
– Неужели старой подковы не отдашь?
– Почему ты смеешься?!
Костюшко ответил не сразу. Перед его глазами ожило прошлое. Именины: ему восемь лет. Праздничный обед. На нем новый амарантовый кунтушик, красные сапожки, а с левого бока свисает карабелька. Эти обновы ему очень хочется показать своему закадычному дружку Васильку.
Тадеушку повезло: отец в отъезде; мать, собираясь куда-то, быстро покончила с обедом, поцеловала именинника и ушла, забрав с собой брата Юзефа; сестру Анусю вызвали на кухню, а с младшей сестренкой Катаржинкой нечего считаться! Тадеушек взял с тарелки несколько ржаных лепешек и побежал.
Солнце пригревало. Тадеушек направился к четырем ольхам, которые, точно солдаты, в затылок друг другу, спускались к речке. У последнего дерева, в скособочившейся хатенке жили родители Василька. Дымно – хозяйка растапливала печурку. По полу ползали голые малыши; тут же шнырял пегий поросенок. В деревянном ящике, подвешенном к потолку, плакал ребенок. Девочка лет шести качала ящик – она это делала серьезно, сосредоточенно, прислушиваясь к скрипу веревок.
– Где Василь?
– На панщизне, слодкий панич, на панщизне, – ласково ответила хозяйка, повернув к Тадеушку раскрасневшееся лицо. – Василь ваших гусей пасет.
Девочка подошла к Тадеушку и, сложив ручки как на молитве, долго и неотрывно смотрела на его красные сапожки.
Тадеушку это было приятно – он поднимал то одну, то другую ногу, давая девочке рассматривать сапожки со всех сторон. Наконец спросил:
– Правда, красивые?
Девочка не ответила: она стояла словно завороженная.
Тадеушек был добрый – в этот счастливый день он хотел видеть счастливыми всех вокруг себя: он опустился на пол и стянул с ног красные сапожки.
– Надень, Настка, походи в моих сапожках.
– Что вы, слодкий панич! – ужаснулась хозяйка. – Разве можно! Обуйтесь, слодкий панич. Если пан карбовый дознается, вовсе беда будет.
Пан карбовый! Не любил Тадеушек этого толстого эконома, который ходил всегда с арапником.
Тадеушек надел сапожки, но, чтобы Настка не подумала, будто панич испугался карбового, он вытянул клинок из ножен и сердито промолвил:
– Когда вырасту, я убью карбового! – И, размахивая сабелькой, вышел из хаты.
На речке плавали солнечные блюдца. Редкие ольхи и ивы росли не прямо, а склонившись к воде.
Раньше Тадеушек увидел стадо белых гусей, выплывающих из-за мыска, потом Василька, лежавшего под ивой головой к воде.
– Василь!
Хлопчик даже головы не повернул.
– Василь!
Хлопчик не откликнулся.
Тадеушек подбежал к своему дружку и обиженно сказал:
– Кричу-кричу, а ты не отзываешься.
Василь приподнялся. Оглядев Тадеушка с ног до головы, он выпятил нижнюю губу и пренебрежительно спросил:
– У братца Юзефа карабельку стащил?
– Моя она. Мне пан отец подарил. Сегодня мои именины. А когда будут твои именины? Тебе ведь скоро десять лет.
– Слышал, как гуси кукарекают?
– Глупости говоришь! Гуси не кукарекают!
– То-то, – серьезно ответил Василь, – гуси не кукарекают, и у хлопа именин не бывает.
Тадеушку послышался упрек в словах друга.
– Почему ты сердишься? Хочешь надеть мой кунтушик? Я тебе и карабельку дам.
– Нужна мне твоя карабелька!
Вдруг Тадеушек засуетился, вытащил из кармана лепешки.
– Совсем забыл. На! Только ты одну Настке отдай.
Василь грубо оттолкнул руку с лепешками.
– Не хочу твоих лепешек.
– Почему?
Василь стянул через голову рубаху, обнажил спину – вся она была в кровавых полосах.
– Василь! Это кто же тебя так?
– Кто? Твой братец, Юзефек.
– За что?
– За подкову. Я поднял ее у вас во дворе.
– Юзефек злой и жадный.
– Все вы злые и жадные.
– Я тоже?
– А ты разве не пан? Когда вырастешь, такой же будешь, как Юзефек.
В другой раз Тадеушек вступил бы в спор со своим дружком, старался бы ему доказать, что злым и жадным никогда не будет, но сегодня ему спорить не хотелось: его сердце было до краев наполнено радостью, и он хотел поделиться ею с людьми. Однако именно те, которые, как он инстинктивно чувствовал, очень и очень нуждались в радости, почему-то отталкивали его руку…
И сейчас, в парке Рыцарской школы, Костюшко также не хотел пускаться в спор с Водзиевским, но уже по другой причине. Друг детства Василь был прав: водзиевские злы и жадны, но согласится ли он, Тадеуш Костюшко, отдать свою землю Василю? Нет, не отдаст. Так почему же он внутренне осуждает Водзиевского?
«Но, – подумал Костюшко, – я все же чем-то отличаюсь от Водзиевского.
Чем? Неужели только тем, что не стал бы бить Василя за поднятую во дворе подкову? Не так уж велика разница! Жалость не философская категория, не жалостью руководствуется Руссо при решении общественных проблем.
Человечество страдает от отсутствия справедливости, это я понимаю, в это уверовал, но почему, почему мне показались чудовищно несправедливыми слова того же Василя?»
Тадеуш приехал домой после окончания Любашевской школы. На нем была черная сутана. Вся дворня – их было три человека опустилась перед ним на колени и склонила головы для благословения.
– Что вы? – растерялся Тадеуш. – Я не ксендз.
В этот же день встретил Василя – тот уже был старшим пастухом. Высокий, с суровым лицом.
– А вам, панич, скоро парафию[8]8
Приход.
[Закрыть] дадут?
– Никто мне парафии не даст. Ведь я не учусь на ксендза. Да и не хочу им быть.
– А чем вы будете?
– Солдатом. Понимаешь, Василь, таким солдатом, каким был грек Тимолеон.
– Чем вас, панич, этот грек так приворожил?
– Он освободил свой родной край, роздал землю тем, кто ее не имел, издавал мудрые законы. А себе ничего не брал.
– А с чего же жил?
– Имел клочок земли.
– И хлопов имел?
– Имел, но немного.
– Значит, так себе шляхчонка.
– Как это так себе шляхчонка?! – возмутился Тадеуш. – Он был главный вождь, мог всю землю себе забрать, а роздал ее безземельным. Себе оставил только несколько моргов на пропитание семьи.
– Чудной какой-то край, чудные какие-то люди. – И Василь мягко закончил: – Нашли, панич, на кого учиться. На какого-то чудака Тимола. Уж лучше бы на ксендза учились. И сыты будете и обуты.








