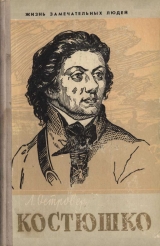
Текст книги "Тадеуш Костюшко"
Автор книги: Леон Островер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Вот, сэр, если вы поднимете сюда тяжелую артиллерию, то никакой дьявол меня отсюда не выкурит. «Красные мундиры» должны двигаться по этой дороге, а я их перестреляю, как фазанов.
– Попытаюсь, генерал, – ответил Костюшко. – И мне кажется, что я это сделаю. – Но, почувствовав, что его горячее желание сделать невозможное возможным, может быть истолковано Гэтсом как похвальба или самомнение, Костюшко добавил: – Раз это нужно, то надо сделать.
Гэтс ничего не ответил, но Костюшко понял, что генерал ему поверил: он, командующий армией, поднялся в седло после того, как его подчиненный уже сидел на своем коне.
Костюшко принялся за осуществление трудной задачи. Уже в первый вечер, обозревая округу с высоты, Костюшко оценил господствующее положение «Сахарной Головы» и удобство, созданное самой природой тем, что река в ущелье течет узкой и тихой лентой. Реку он перекроет цепями, как сделал под Филадельфией, а сама высота, не зря прозванная остроглазыми охотниками «Сахарной Головой», – идеальный конус, по которому можно проложить серпентинную дорогу.
Более трудную задачу – перекрытие реки – Костюшко взял на себя, а прокладку дороги поручил подполковнику Радиеру. Тот охотно принялся за порученное дело, только попросил Костюшко не беспокоить его проверками.
– У каждого из нас, инженеров, своя манера работать, – сказал он. – Закончу дорогу и покажу ее вам.
Прокладка дороги – вещь не очень сложная для опытного инженера, особенно по детальному чертежу, который Костюшко разработал.
– Согласен, подполковник, приступайте к работе.
Костюшко жил с адъютантом Гэтса, лейтенантом Вилькинсоном. Грузный, малоподвижный и немногословный, неряшливо одетый, Вилькинсон ничем не напоминал Раймонда де Лиля, и все же Костюшко чувствовал себя хорошо в его обществе. Вилькинсон был человеком искренним, честным, он, так же как и Костюшко, мечтал о всемирной справедливости, но в отличие от Костюшки он, как и Раймонд де Лиль, был неважного мнения о людях.
В первые дни совместной жизни Вилькинсон присматривался к Костюшке и односложно отвечал на все попытки Костюшки втянуть его в разговор.
Работы у Костюшки было много, рассвет уже заставал его за чертежной доской, и он работал с увлечением, зная, что за ним следят дружеские глаза, хотя стоило Костюшке повернуть голову в сторону Вилькинсона, как «дружеские глаза» прикидывались спящими.
Радовал Костюшко и парижский обойщик Пьер– он стал не только ординарцем, но и другом, и не только заботился о своем начальнике, но, словно тень, сопровождал его повсюду. Он стал его доверенным в сношениях с солдатами. Эту сторону Костюшко, пожалуй, больше всего ценил: успех его смелого инженерного замысла зависел от согласия солдат сделать невозможное возможным, а настроение солдат мог знать только человек, живущий с ними, среди них.
Однажды, когда Костюшко с Пьером заночевали на берегу Гудсона, готовясь с рассветом приступить к погрузке первой линии цепей, Пьер, подав Костюшке чашку кофе и усевшись против него на корточки, спросил:
– Мой полковник, что такое серпентинная дорога?
– Дорога, которая проложена вокруг горы завитками штопора.
– И я так думал.
– Так зачем спрашиваешь?
– Не я спрашиваю, это спрашивают саперы, которые работают с подполковником Радиером. Они говорят, что серпентинная дорога должна подниматься вверх плавно, а не уступами, козлиными прыжками.
Едва рассвело, Костюшко поскакал к «Сахарной Голове», и то, что увидел, его обидело, ужаснуло. Радиер ежедневно докладывал: «Сделано сто метров! Сделано сто пятьдесят метров!» Костюшко складывал эти метры. И вдруг видит – метры идут скачками, крутыми подъемами: по такой дороге не только тяжелая артиллерия, но и воз с сеном не пройдет.
Костюшко, то присаживаясь на камни, то шагая взад-вперед, дожидался приезда подполковника. В нем закипел гнев. «Подлец! Вот почему он упросил меня не проверять!»
Пришли саперы, приступили к работе. Костюшко поздоровался с солдатами, но в разговор с ними не вступил: ему было стыдно, словно он их обманул.
Наконец появился Радиер. Он ехал мелкой рысцой, точно на прогулке в Булонском лесу. Увидев Костюшко, он соскочил с коня, поднял руку к шляпе.
– Я хотел поговорить с вами, подполковник.
– Пожалуйста, – любезно ответил Радиер, свежевыбритый, румяный.
Они отошли в сторону, и как только Костюшко остановился, чтобы начать разговор, лицо Радиера сделалось багровым, а голос резким.
– Так поляки относятся к своему слову!
– Молчать! – оборвал его Костюшко. – Не смейте говорить о поляках! – И сразу остыл: он уже внутренне краснел за свою резкость. – Что вы делаете, подполковник? – спросил он вежливо. – По такой дороге мы тяжелой артиллерии не поднимем.
Радиер уже давно готовился к этому столкновению. У него были даже заготовлены ядовитые фразы, стилистически отточенные, которые должны были сразить спокойного Костюшко. Но вежливость Костюшки его обезоружила. Он предложил:
– Сядем, коллега, и поговорим. – Когда сели: – Вы хотите, месье Костюшко, жить спокойно?
– Если это возможно, да.
– Вы, видно, латинист. Я заметил, что вы часто пользуетесь уклончивым латинским предлогом «si».
– Это имеет отношение к тому, что вы хотите мне сказать?
– Отнюдь нет, коллега. Я хочу вам сделать деловое предложение: давайте поменяемся местами, я буду старшим инженером, вы – моим помощником. Поймите, коллега, вы не инженер, у вас нет диплома, поэтому любой ваш проект, хорош он или плох, будет взят под сомнение главным инженером армии, а под моим крылышком вам будет тепло и удобно.
В этих словах была изрядная доля правды, однако в устах дельца Радиера они звучали, как пощечина. Но Костюшко не обиделся: ему было безразлично, как подписываться под работой – старшим или младшим, ему было важно качество работы, а не подпись под ней, и поэтому он спокойно спросил:
– Если я соглашусь, – и улыбнулся: опять латинское «si», – если, повторяю, соглашусь, вы выполните работы по моему проекту?
– Нет! – решительно заявил Радиер.
Костюшко поднялся.
– Тогда поедем в штаб.
Радиер, оставаясь сидеть, пренебрежительно промолвил:
– Не советую, мой друг. Ваш покровитель Гэтс ночью отбыл к Вашингтону, а генерал Шайлер, который его замещает, назвал ваш проект «сумасшедшим».
– Поедем! – повторил Костюшко тоном приказа.
Радиер не соврал: в штабе их принял генерал Шайлер. Костюшко сдержанно доложил ему сущность спора со своим помощником.
И вы хотите… – корректно спросил Шайлер.
– Вашего приказания подполковнику Радиеру прокладывать дорогу по утвержденному генералом Гэтсом плану.
– А вы, подполковник?
– Категорически против. На «Сахарную Голову» не поднять тяжелой артиллерии, а если ее чудом поднимешь, то в случае отступления придется ее там бросить.
– Вы слышали, полковник?
– Слышал, сэр.
– И согласны?
– Нет, генерал, я не согласен. На «Сахарную Голову» можно без чуда поднять тяжелую артиллерию и… – он замялся, с языка просилось: «Только трусы думают об отступлении», но эти слова показались ему резкими, оскорбительными, – и… я военный, я думаю о наступлении, а не об отступлении.
– Вам и думать не надо, сэр. Вы инженер. О наступлении или отступлении будут думать другие. О вашем споре я напишу главному инженеру армии генералу Дюпортайлю. Он решит.
– А пока что прикажете мне делать?
– Отдыхайте, полковник.
При этом разговоре присутствовал капитан Джон Картери, зять генерала Шайлера. Это был рослый детина с сабельным шрамом во всю щеку. Он подошел к Костюшке и, положив ему руку на плечо, издевательски спросил:
– Скажите вы, уондер-бой[27]27
Чудо-мальчик (англ.).
[Закрыть], правда, что у себя в Польше поляки не стригутся, а ходят этакими дикарями, с кустами нечесаных волос на голове?
На такую наглость нужно было ответить или пощечиной, или вызовом на дуэль, но Костюшко решил ответить более чувствительным ударом: презрением. Резким движением сбросил он со своего плеча руку наглеца Картери и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
Костюшко отправился к реке. Мысли текли спокойно. Почему Кинг навязал ему Радиера? Чтобы мешать генералу Гэтсу или ему, Костюшке? Почему Раймонда де Лиля Кинг назначил куда-то главным инженером чуть ли не на следующий день после визита Костюшки в Военную комиссию, а его, Костюшко, держал три месяца без назначения в то время, когда армия нуждалась в инженерах?
Таких «почему?» набралось много, и ни на одно из них Костюшко не находил ответа. Однако Костюшко твердо знал: сам он ничем не провинился – ни перед людьми, ни перед делом.
Саперы, увидев подъезжающего Костюшко, заголосили:
– Сэр! К нам! К нам!
У берега стояло несколько лодок, в каждой лодке – по шесть человек: четверо – на веслах, а двое лежа держали на протянутых руках тяжелую железную цепь.
Костюшко сел в первую с края лодку.
– Начали!
Лодка двинулась. Цепь разматывалась и падала на дно. Все лодки шли к другому берегу, и на всех проделывали одно и то же.
Но не успели лодки добраться до середины реки, как на берегу появился верховой и, сложив руки рупором, крикнул:
– Приказ генерала! Прекратить работу!
Костюшко повторил команду. Лодки, выбирая цепи, повернули к берегу. Верховой ускакал.
Лодки вытянуты на берег. Солдаты молча уходят в сторону, укладываются на песок. Все головы повернуты к Костюшке.
Костюшке стыдно за себя, хотя не он срывает нужную работу, ему стыдно за свою нерешительность. Он понимает, остро чувствует, что вот сейчас надо было бы подойти к солдатам, сказать им, объяснить, что к святой борьбе за свободу примазались разные барлоу и олни и для них, для этих барлоу и олни, война выгодный бизнес. Чем дольше война продлится, тем больше долларов они положат себе в карман.
Но в то же время Костюшко понимал, что он не подойдет к солдатам, ничего им не скажет.
Ему стыдно; сердце говорит: «Подойди, объясни», а разум удерживает: «Я вижу болезнь, но боюсь сильнодействующих лекарств. Сказать солдатам, что враг не только перед ними, но и за их спиной, равносильно предложению повернуть оружие в тыл. Этого я не сделаю, не могу сделать: жизнь должна подниматься в гору плавно, а не скачками. И в Америке много таких, как мой дружок детства Василь или пугачевец Миколай, – дай им власть, они всю страну покроют шубеницами».
И Костюшко ничего не сказал своим солдатам, поднялся в седло и шагом двинулся домой.
В палатке было прибрано; чертежный стол был сложен и приставлен к стене.
– Пьер! Почему убран мой стол?
– А зачем он вам? Работы ведь прекращены.
– Приостановлены, а не прекращены.
– Мой полковник, в Париже меня звали отчаянным. А знаете почему? Из-за отца. Было мне лет двенадцать. Мы тогда жили во дворце герцога Арно. Конечно, не в самом дворце, а на чердаке конюшни – отец был конюхом. У герцога было два сына: один, как я, другой – чуть постарше. Однажды мы подрались со старшим. Здоров был барчук, но и я не из слабых. Я его на землю… Налетел младший, и они давай меня в четыре руки обрабатывать. Я тогда взвыл и убежал. Прибежал домой. Из носа – кровь, под глазом – фонарь. Отец спрашивает, в чем дело. Я ему рассказал. И как только закончил свой рассказ, отец бросил меня на скамью, прижал коленом, да ремнем; дней десять я ни сесть, ни лечь не мог. А когда поправился, отец меня спросил: «Знаешь, почему трепку получил?» Я ответил: «Не знаю». – «Вот почему, сынок: при рождении забирается в человеческое сердце или орел, или заяц. Ты родился ночью, и я не заметил, кто в твое сердце залез. Первый раз в жизни ты серьезно подрался, и из твоего рассказа я убедился, что в твоем сердце живет заяц. Мерзкая тварь, трусливая, и я попытался выгнать эту тварь из твоего сердца».
– И выгнал? – улыбаясь, спросил Костюшко.
– Выгнал. В этот же день я так отдубасил обоих барчуков, что…
– Почему замолчал?
– Стыдно дальше рассказывать. Отец меня вторично обработал ремнем и при этом приговаривал: «Знай меру, знай меру». Стыдно мне, мой полковник, за отца: он хотел, чтобы в моем сердце одновременно жили и орел и заяц. А это уж никуда не годится!
Костюшко был поражен: неужели этот парижский рабочий проник в его тайное тайных? Неужели Пьер понимает, какие мысли его сейчас угнетают?
– Зачем ты мне все это рассказал?
– А так, к слову пришлось. И кстати, мой полковник, лейтенант Вилькинсон оставил вам записку. Она там, на подушке. Вы почитайте записку, а я кофе заварю.
Записка лейтенанта Вилькинсона была коротенькая:
«Поехал к патрону. Ждите письма».
Наступили дни безделья. Состояние Костюшки, чрезвычайно сложное, можно было бы выразительнее всего отобразить графически – две линии: верхняя – прямая, нижняя – кривая с резкими подъемами и падениями. Внешне Костюшко спокоен: беседует с людьми, изучает английский язык, гуляет, ест, пьет свой любимый кофе; внутренне лихорадит: мучается и оттого, что мир управляется несправедливо, оттого, что разум требует применения сильнодействующих средств для установления' более справедливых порядков, и оттого, что он, Костюшко, не находит в себе ни сил, ни желания применять эти сильно-действующие средства. Он ощущает в себе какой-то внутренний тормоз – под давлением ли столетних традиций, или таково уже свойство его характера, но все в нем инстинктивно сопротивляется тому смелому, революционному, что вычитал у французских социологов. А ведь сам считал и продолжает считать их мысли правильными, неоднократно говорил, что все эти барлоу и олни жадны и опасны, но вместо того, чтобы их истреблять как волков, лелеет надежду на их перевоспитание.
Утром пятого дня безделья Костюшку вызвали в штаб. Генерал Шайлер, ответив кивком головы на приветствие, протянул Костюшке письмо:
«Генерал Дюпортайль выражает почтение генералу Шайлеру и сообщает по существу запроса: «инженерные познания и опыт подполковника Радиера внушают мне больше доверия».
– Удовлетворяет вас?
– Нет, генерал. Я не беру под сомнение инженерные познания подполковника Радиера, но он отвергает мой проект не потому, что мой проект невыполним с инженерной точки зрения, а потому, что мой проект не укладывается в рамки его трафарета.
– Вы самонадеянны, полковник.
– Простите, сэр, вы употребили не то слово. Я уверен, а не самонадеян.
В серых глазах генерала загорелся недобрый огонек.
– Вам кажется, что я недостаточно хорошо знаю свой родной язык?
Это уже была грубость – намек на его, Костюшко, плохой английский язык, а от ответа на грубость Костюшко всегда уклонялся.
– Что прикажете, генерал, мне делать?
– Капитан Картери вам сообщит.
Но капитан Картери ничего не сообщил Костюшке. В этот же день вернулся лейтенант Вилькинсон. Он сошел с коня и тут же, перед палаткой, начал раздеваться. Вид у него был раздраженный, обиженный.
– Вы устали, Дэв? – спросил Костюшко.
– Спешил, – ответил Вилькинсон унылым голосом. – Сол, дай воды.
Негр принес ведро воды. Вилькинсон умывался долго, основательно.
– Неприятные новости? – забеспокоился Костюшко.
Вилькинсон не ответил; вымылся, вяло вытерся и, бросив полотенце на плечо негру, неприветливо сказал:
– Идем, Тэд.
Они вошли в палатку. Вилькинсон сел на свою кровать. Несколько минут он пристально смотрел на Костюшко, потом спросил:
– Давно знакомы с Кингом?
– Я его всего один раз видел. – И Костюшко рассказал, для чего его Кинг вызывал и о чем они тогда говорили.
Вилькинсон лег под одеяло, вытянулся, закрыл глаза.
– Тэд, – сказал он тихо, словно спросонья. – Меня однажды били в колледже, и знаете почему?
Старшеклассники играли в мяч, а я стоял в стороне и советы давал.
«Что с Вилькинсоном? – думал Костюшко. – От него обычно и клещами слова не вытянешь, а тут целой повестью разродился».
– Тэд, люди не любят, когда их поучают. – Он приподнялся и закончил раздраженно: – Какого дьявола вы пустились в спор с Кингом! Ведь Олни зять Кинга. Он продавал вам баранов с фермы Кинга, а вы этому Кингу проповедь читаете. Возьмите из моей сумки письмо, – закончил он неожиданно.
Письмо генерала Гэтса сразу покончило с бездельем:
«Полковник! Продолжай работы по своему проекту.
Гэтс».
Захватив письмо, Костюшко помчался в штаб. Шайлера там не было, но его ждали с минуты на минуту. И действительно, генерал вскоре приехал вместе с подполковником Радиером.
– Сэр, – обратился к нему Костюшко, – я получил приказ от генерала Гэтса продолжать работы.
– Продолжайте, полковник, но с коррективами, которые внес в ваш проект подполковник Радиер.
– Сэр, генерал Гэтс распорядился производить работы по моему проекту.
– Генерал Гэтс далеко, а «Сахарная Голова» перед моими глазами.
Радиер стоял тут же, смотрел вдаль и прутиком бил себя по сапогу.
– Какие коррективы вы внесли? – обратился к нему Костюшко.
– Незначительные. Весь ваш проект я принял. Исключил из него только «Сахарную Голову». Дорогу строить не будем.
Выпало основное звено из обороны – без артиллерии на «Сахарной Голове» крепость беззащитна. Какой смысл создавать запоры на реке, если враг может подойти с суши? А протестовать против ублюдочного проекта Радиера не имело смысла: командующий армией и главный инженер армии на стороне Радиера.
Костюшко поехал к себе домой и написал Гэтсу:
«Генерал, прошу тебя… не приказывай мне что-либо делать до твоего приезда. И вот почему: люблю согласие и хочу быть в дружбе со всеми, если это возможно; если будут упорствовать, не делать по моему плану, который, возможно, и лучше, я предоставил бы им свободу, тем более что я иностранец… Говорю тебе откровенно: я человек чувствительный и люблю единодушие. Предпочитаю все бросить и вернуться домой сажать капусту».
Костюшко не поехал домой «сажать капусту». В июне англичане пошли в наступление: с севера – генерал Бергойн, с юга – генерал Клейтон. Бергойн захватил один из наружных фортов Тикондороги и, словно по плану Костюшки, установил тяжелую артиллерию на вершине «Сахарной Головы».
Шайлеру осталось только сдать беззащитную крепость и отступить.
Но Бергойн не отставал от него: шел по следу. Тут Шайлер вспомнил о польском инженере, вызвал его к себе:
– Делайте что хотите, сэр, лишь бы замедлить движение англичан.
Армия двигалась по лесистой местности. Костюшко валил деревья, строил палисады, хитроумные ловушки, засеки – делал все, чтобы дать возможность генералу Шайлеру отвести свои войска к острову Ван Шик.
И достиг цели: с небольшими потерями Шайлер дошел до острова, а там… его сместили за сдачу врагу крепости Тикондорога.
Командование армией опять принял генерал Гэтс. Настроение солдат подавленное: народ собирается в кучки, шушукается, на офицеров смотрят исподлобья. Гэтс понял: выход из положения надо искать в победе. Он решил предпринять наступление. Выслал вперед полковника Костюшко с заданием выбрать удобную позицию на западном берегу реки Гудсон, к югу от Тикондороги.
Костюшко точно подменили. Деятельным был он всегда, но сейчас, выполняя приказ Гэтса, он проявлял не только деятельность, а еще и настойчивость, упорство, подчас даже резкость.
В эту рекогносцировку его сопровождали три штабных офицера. Много долин и взгорий казались ему удобными для замысла генерала Гэтса, но Костюшко искал такое место, которое позволяло бы создать идеальные условия как для наступления, так и для обороны. Он понимал, что на карту поставлена не только судьба армии Гэтса, но, возможно, тут решится судьба американской революции. А эта революция была слишком дорога сердцу Костюшки, чтобы ею рисковать. Враг силен, и враг хорошо вооружен; Гэтс же силен идеей, волей народа к победе. Но эту идею, эту волю надо подкрепить умением – нужно, чтобы река, лес, земля давали дополнительные силы американской армии. И он, Костюшко, добудет эти дополнительные силы.
Костюшко браковал позицию за позицией – во всех он находил изъяны, подчас такие, которые ему самому не удавалось выразить словами. Он видел предметы не такими, какими они есть, а какими они могут стать, а об этом как расскажешь?
Его спутники сначала брюзжали, потом возмущались, но Костюшко их одергивал или не обращал внимания на воркотню, он упорно продолжал свои поиски.
И Костюшко нашел то, что искал. Деревушка Сарагота. Она стоит на взгорье. Река Гудсон обтекает ее широким поясом. Лес по обоим берегам, на подступах к деревне раскинулось болото, затянутое зеленой ряской.
Спутники Костюшки были так измотаны трудной дорогой, что даже в спор не вступили с «польским упрямцем», хотя эта позиция казалась им хуже тех, которые он же забраковал. Они ввалились в корчму к толстому Беймусу и завалились спать, а Костюшко дотемна носился верхом по округе.
Он уже видел артиллерию на флангах – артиллерию, которая будет держать под обстрелом оба берега Гудсона; видел ряды глубоких окопов – окопов, которые гигантскими ужами змеятся вдоль фронта, видел «бобровьи домики» для остроглазых охотников – эти домики он соорудит на болоте, чтобы завлечь туда англичан; видел «волчьи ямы» в тех местах, где лес окажется проходимым для вражеской кавалерии… И все это он видел не мертвым инженерным чертежом, а ожившей батальной картиной: с флангов рвутся снаряды, молниями чертят воздух мушкетные пули, среди сосен мелькают красные мундиры английской кавалерии.
Он, Костюшко, вобьет огненный клин между армиями Бергойна и Клейтона, он не даст им соединиться, а с каждым из них в отдельности американцы справятся.
Этот свой план Костюшко представил Гэтсу.
– Полковник, я тебе верил и верю. Приступай.
Английские генералы поняли опасность и решили оттеснить Гэтса от Сараготы. Они двинули свои войска навстречу друг другу.
Первым пришел под Сараготу генерал Бергойн и, не дожидаясь застрявшего в пути Клейтона, начал наступление. Бергойн бросал в бой роту за ротой, батальон за батальоном – шел в лоб, шел в обход, но всюду натыкался на ловко замаскированные преграды. Усилия Бергойна были похожи на попытки медведя залезть лапой в дупло за медом – в дупло, которое пасечник загородил пружинистым бревном: бревно, отодвинутое лапой, открывает на миг вход в дупло, но тут же, возвращаясь, наносит медведю чувствительные удары.
Десять дней рвал Бергойн укрепления, но прорваться сквозь них ему не удалось.
Осень разлилась обильными дождями. Дороги стали непроходимы. Тяжелые английские фургоны, груженные продуктами, застревали почти при выезде из интендантских складов. В стане Бергойна воцарился голод, началась дизентерия. А Клейтон все не появлялся.
Бергойн решил отступить. Гэтс, зная, что делается в лагере англичан, предпринял ряд коротких набегов и прижал английский корпус к болотам.
Бергойн капитулировал.
В плен к американцам попали, кроме Бергойна, генералы Гамильтон и Филипс, немецкий генерал Ридезель, лорд Питергэм, граф Балакаррский и несколько членов парламента. 5 800 англичан, 2 400 гэссенцев, орудия, мушкеты, обозы.
Это была первая значительная победа молодой американской армии. Она отдалась похоронным звоном в Англии и небывалым ликованием в Штатах. Она склонила королевское французское правительство заключить военный союз с «американскими бунтовщиками» и предоставить им шестимиллионный заем. Она сделала генерала Гэтса национальным героем.
На «высокопарное» поздравительное послание конгресса генерал Гэтс ответил:
«Будем честны: на войне много значат средства, которые сотворила природа. В данном случае это были возвышенности и леса, а молодой польский инженер, устраивая лагерь, умел так ловко все это использовать, что именно это обеспечило нам победу».
Это было больше, чем простое признание заслуг своего подчиненного, – этим письмом генерал Гэтс поставил имя «молодого польского инженера» рядом со своим, с именем национального героя.
Главнокомандующий американской армии Георг Вашингтон так и понял письмо генерала Гэтса. Он тут же сообщил председателю конгресса:
«Разрешаю себе упомянуть, что по полученным мной донесениям инженер северной армии – кажется, по фамилии Костюшко – является человеком науки и высших достоинств. В соответствии со сведениями, которые я имею о нем, очень заслуживает, чтобы помнить о нем».
Ни председатель конгресса, ни генерал Вашингтон не успели воздать «молодому польскому инженеру» по заслугам. Им было не до него. Вслед за блестящей победой под Сараготой южная армия генерала Вашингтона потерпела жестокое поражение. Конгресс уехал из Филадельфии; город заняли англичане.
Однако военный союз с Францией уже вступил в действие. У берегов Америки появилась французская эскадра, и англичане вынуждены были оставить Филадельфию.
Генерал Вашингтон, желая удержать водный путь по Гудсону, решил построить крепость в том месте, где река описывает луку под холмами Вест Пойнт.
Приступили к работам. Руководил ими подполковник Радиер. Был ли генерал Вашингтон недоволен его проектом или вспомнил «о молодом польском инженере», но в марте 1778 года Вашингтон распорядился направить в Вест Пойнт полковника Костюшко в качестве главного инженера.
Радиер не пожелал сдать ему свою должность. Командующий группировкой генерал Мак Дугэл, который до этого служил в штабе Гэтса, сообщил Вашингтону о сопротивлении Радиера, а со своей стороны рекомендовал: «у мистера Костюшки больше практики, чем у полковника Радиера, а манера его обращения с людьми более приятна».
Генерал Вашингтон на это ответил: «Так как полковник Радиер и полковник Костюшко, как вижу, никогда не столкуются, полагаю, что будет целесообразнее приказать Радиеру уехать, в особенности, как мне известно, Костюшко лучше подходит к характеру и духу нашего народа».
Костюшко стал главным строителем крепости Вест Пойнт: он производил работы по своему плану, по тому нелегкому плану, который должен был при минимальных затратах дать максимальный эффект. В его распоряжении были горы и столетние дубы, и из них – из земли и дерева – саперы должны будут создать шедевр инженерного искусства.
Костюшко жил в комнатенке у вдовы Варен – старушки, которая потеряла на войне двух сыновей. Все свое горе она переплавила в заботу о своем постояльце. Но постоялец вместо радости доставлял ей одни огорчения: уезжал из дому с первыми петухами, возвращался при звездах и даже не притрагивался к вкусным яствам, которые она для него готовила.
– Я сыт, милая мадам Варен.
Только такие ответы слышала старушка от своего постояльца. А она, мадам Варен, знала, чем питается Костюшко. Такой ученый, такой благородный джентльмен, а ест из одного котелка со своими солдатами и даже… с неграми, с рабами. И слыхано ли, чтобы офицер на свои деньги кормил пленных? Золотое сердце у этого поляка, но почему он не бережет себя? Ведь здоровье у него слабое: долго ли до беды? Днем работает, ночью работает и одной овсянкой да черным кофе питается.
Огорчает постоялец добрую старушку. Она видит, как у Костюшки последнее время стали бугриться скулы, как под глазами появилась синяя тень, как он, сойдя с коня, направляется к дому нетвердым шагом усталого человека. И доволен! Человек работает сверх сил, питается черт знает чем и еще доволен: поет! Чудной народ эти поляки, но хороший народ, благородный.
А Костюшко действительно был доволен: получилось то, что он задумал. Вест Пойнт стал не только крепостью, сильной, неприступной, но и стилистически законченным инженерным творением, как бы вписанным в суровый пейзаж, – его бастионы и вынесенные далеко вперед форты казались природными закруглениями, подъемами и уклонами в хаотическом нагромождении скалистых гор.
Костюшко доволен, однако нередко одолевает его тоска по польскому небу, по колокольному звону, по деревянным крестам на перекрестках дорог. Он заглушает нерадостные мысли своей любимой песней:
В поле липонька, в поле зеленая
Листочки распустила,
А под липой дивчина, под липой единая…
На этом обычно обрывает Костюшко песню. «Единая»! Она стала «единой» для князя Любомирского!
«Ну и что? – спрашивал он себя в минуты тоски. – Разве любят только то, чем владеют? Разве тот трепет, который охватывает меня при одном воспоминании о Людвике, не любовь?»
Осенью 1779 года приехал в Вест Пойнт генерал Вашингтон. Он познакомился, наконец, с «молодым польским инженером» и с делом его рук. И остался доволен. Из Вест Пойнта он написал о Костюшке генералу Гэтсу:
«Я испытываю большое удовлетворение как от общего поведения, так, в частности, и от внимания и усердия, с каким он выполнил долг, порученный ему в Вест Пойнте».
Благоволение генерала Вашингтона скоро сказалось– в плен к англичанам попал главный инженер американской армии генерал Дюпортайль: на эту высокую должность был неожиданно для многих назначен Костюшко.
Костюшко не принял «высокого назначения»: его не прельщала кабинетная работа. Он попросился во вновь сформированную южную армию, к генералу Гэтсу, на должность рядового инженера.
Летом 1780 года Костюшко прибыл в штаб южной армии. Но ему не повезло: за несколько дней до его прибытия генерал Гэтс был смещен с должности командующего. Вместо него уже распоряжался генерал Грин.
Новая южная армия была плохо оснащена, поэтому генерал Вашингтон поручал Грину лишь мелкие операции в тылу у врага – в сущности, генерал Вашингтон перевел армию Грина на положение партизанского соединения. Местность благоприятствовала такому способу ведения войны. Штат Каролина изрезан мелкими речками; начинаясь в горах, они текли к океану среди густых лесов.
Костюшко сначала выбрал удобное место для лагеря с таким расчетом, чтобы держать под контролем все коммуникации англичан. Потом Костюшко принялся строить плоскодонные секционные понтоны для внезапной переброски через реки небольших отрядов, направляемых в тыл врага.
Война в Америке вступила в новую и трудную для генерала Вашингтона фазу. В южных штатах жили богатые плантаторы, они щедро снабжали англичан всем, вплоть до шпионской информации, в то время как солдатам Грина они отказывали в хлебе даже за наличные деньги. Но ни Грин, ни его полуголодные солдаты не падали духом. Из лагеря, как птица из хорошо укрытого гнезда, они совершали налеты на деревни и имения, где англичане переформировывали свои части и накапливали силы для наступления.
На первых порах генералу Грину сопутствовала военная удача – в одной из коротких стычек он даже захватил в плен больше 500 англичан. Но уже к концу месяца лорд Корнвалис окружил армию Грина, изгнал ее из надежного убежища и прижал к бурной реке Яткин. Приказом по своему корпусу лорд Корнвалис объявил: «Завтра на рассвете мы сбросим бунтовщиков в реку».
Каково же было удивление англичан, когда «завтра на рассвете» бунтовщиков не оказалось на месте! Это Костюшко за одну ночь сумел на своих понтонах перевезти всю армию Грина на другой берег.
Лорд Корнвалис потратил двое суток на переправу и, переправившись на другой берег, погнался за «бунтовщиками» с такой быстротой, что вскоре опять прижал их к широкой реке Дэн. Лорд Корнвалис был так уверен в победе, что специальным курьером донес своему начальству: «Грин капитулировал».








